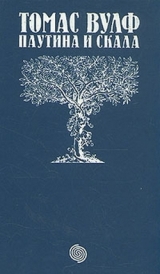
Текст книги "Паутина и скала"
Автор книги: Томас Вулф
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 51 страниц)
В прошлом году он душевно устал и измучился от неуклюжих попыток пописать. Понял, что все вышедшее из-под его пера не имеет ничего общего с тем, что он видел, знал, чувствовал, и что пытаться передать во всей полноте ощущений мир человеческой жизни – все равно, что пытаться вылить океан в чашку. Поэтому теперь Джордж впервые пытался описать частичку своего виде shy;ния земли. Какое-то смутное, но сильное беспокойство уже дав shy;но побуждало его к этой попытке, и вот без опыта и знания, но с кмким-то тревожным предчувствием огромной тяжести труда, за который берется, он принялся за дело – намеренно избрав тему, клавшуюся до того скромной и сжатой в размерах, что надеялся завершить свой труд с величайшей легкостью. Избранной для первой попытки темой было мальчишеское видение мира в тече shy;ние десяти месяцев, между двенадцатью и тринадцатью годами, работа носила заглавие «Конец золотой поры».
Этим заглавием он хотел передать ту перемену в цвете жизни, которая известна каждому ребенку, – перемену очаровательного спета и поры своей души, яркого золотистого света, волшебных зе shy;лени и золота, в которых он видел землю в детстве, и вдали сказоч shy;ное видение сияющего города, вечно пламеневшее в его воображе shy;нии и в конце всех его снов, по очаровательным улицам которого он надеялся пройти когда-нибудь завоевателем, гордой, уважаемой личностью в жизни более славной, удачливой и счастливой, чем он когда-либо знал. В этой короткой истории он хотел рассказать, как в этот период мальчишеской жизни тот странный, чудесный свет – та «золотая пора» – начинает меняться, и ему впервые приоткрыва shy;ется тревожная пора человеческой души; и как мальчишка впервые узнает о множестве меняющихся ликов времени; и как его ясная, сияющая легенда о земле впервые подергивается недоумением, за shy;мешательством, и как ей угрожают жуткие глубины и загадки жиз shy;ненного опыта, которого он не имел раньше. Он хотел написать ис shy;торию того года в точности, как помнил ее, со всеми явлениями и людьми, которых узнал в том году.
В соответствии с этим замыслом Джордж принялся писать, начав повествование с трех часов дня во дворе перед дядиным домом.
Джерри Олсоп преображался. Он окунулся в море жизни глубже, чем остальные. Как он выражался, его «сфера расшири shy;лась», и теперь он был готов вырваться из того маленького, тес shy;ного кружка, который создавал вокруг себя так старательно. Уче shy;ники его какое-то время держались, затем один за другим уноси shy;лись, словно палые листья, попавшие в бурный поток. И Олсоп отпускал их. Старые друзья стали ему надоедать. Они слышали, как Джерри бормотал, что ему «осточертело постоянное превра shy;щение квартиры в клуб».
С Джорджем у него разыгралась финальная сцена. Первый рас shy;сказ Джорджа был отвергнут, и одно слово, которое произнес Джордж, дошло до Олсопа и задело его. Дерзкое, сказанное с уязв shy;ленным юношеским тщеславием о «художнике» в «мире обывате shy;лей» и о «правоте» художника. Это глупое слово, просто-напросто бальзам для уязвленной гордыни, с его надменным намеком на превосходство привело Олсопа в ярость. Однако по своему обык shy;новению при встрече с Джорджем он не начал с прямой атаки. Вместо этого язвительно заговорил о книге одного художествен shy;ного критика того времени, вкладывая в его уста подчеркнуто и уважительно эти глупые слова уязвленных тщеславия и юности.
– Я художник, – глумливо произнес Олсоп. – Я лучше всего этого сброда. Обыватели не в состоянии меня понять.
Потом язвительно засмеялся и, сузив светлые глаза в щелоч shy;ки, заговорил:
– Знаешь, кто он? Просто осел! Человек, который говорит так, просто сущий осел! Художник! – Снова глумливо рассмеял shy;ся. – Господи!
Глаза его так налились злобой и задетым самомнением, что Джордж понял – все кончено. Дружеской сердечности больше ист. И тоже ощутил холодную ярость: на языке его завертелись ядовитые слова, ему так захотелось глумиться, ранить, высмеивать и потешаться, как Олсоп, сердце его наполнилось ядом хо shy;лодного гнева, однако, когда он поднялся, губы его были холод shy;ными и сухими. Он сдержанно произнес:
– До свидания.
И навсегда ушел из той полуподвальной квартиры.
Олсоп промолчал, он сидел со слабой улыбкой, ощущение злоб shy;ного торжества терзало его сердце, будто в наказание. Закрывая дверь, бывший ученик услышал напоследок насмешливые слова:
– Художник! Господи Боже! – И затем удушливый взрыв ут shy;робного смеха.
Джим Рэндолф питал к четверым жившим вместе с ним юно shy;шам какую-то родительскую привязанность. Он руководил ими, на shy;ставлял их, как отец сыновей. По утрам Джим поднимался первым. Сна ему требовалось очень немного, как бы поздно он ни лег нака shy;нуне. Четырех-пяти часов бывало вполне достаточно. Джим умывался, брился, одевался, ставил на огонь кофейник, затем шел бу shy;дить остальных. Становился в дверях, глядя на спящих с легкой улыбкой и небрежно держа сильные руки на бедрах. Потом мягким, тонким и удивительно нежным голосом затягивал:
– Поднимайтесь, поднимайтесь, лежебоки. Поднимайтесь, поднимайтесь, уже утро. – С легким смехом запрокидывал голову. – Эту песенку каждое утро пел мне отец, когда я был маль shy;чишкой, в округе Эшли, штат Южная Каролина… Ну, ладно, – уже прозаично говорил он спокойным, властным, не терпящим возражения тоном. – Вставайте, ребята. Уже почти полвосьмого. Нy-ну, одевайтесь. Хватит спать.
Поднимались все – кроме Монти, которому нужно было вы shy;ходить на работу в пять часов вечера; работал он в одном из оте shy;лей в средней части города и возвращался домой в два часа ночи. Руководитель разрешал ему поспать подольше и даже спокойно, но строго приказывал остальным не шуметь, чтобы не тревожить спящего.
Сам Джим уходил в половине девятого. И возвращался вече shy;ром.
Они часто ужинали все вместе в квартире. Им нравилась эта жизнь, дух товарищества и уюта. По всеобщему молчаливому со shy;гласию считалось, что они собираются по вечерам, дабы вырабо shy;тать программу на ночь. Тон, как всегда, задавал Джим. Они ни shy;когда не знали его планов. И дожидались его возвращения с не shy;терпением и жгучим любопытством.
В половине седьмого ключ Джима щелкал в замке. Джим вхо shy;дил, вешал шляпу и властно говорил безо всяких предисловий:
– Так, ребята. А ну, полезли в карман. С каждого по пятьде shy;сят центов.
– Это еще зачем? – протестовал кто-нибудь.
– На самый лучший кусок мяса, какой тебе только доводи shy;лось есть, – отвечал Джим. – Я видел его в мясной лавке, когда шел мимо. На ужин у нас будет шестифунтовая вырезка, если не ошибаюсь… Перси, ступай в бакалейную лавку, купи две буханки хлеба, фунт масла и на десять центов крупы. Картошка у нас есть… Джордж, почисть ее, только не срезай две трети, как в про shy;шлый раз… А я куплю мясо. И приготовлю его. Должна прийти моя медсестра. Она обещала испечь бисквиты.
И моментально оживив вечер, отправив ребят по их важным делам, принимался за собственные.
В квартире у них постоянно бывали девицы. Каждый приво shy;дил тех, с кем знакомился, а у Джима, разумеется, знакомых бы shy;ли десятки. Бог весть, где он находил их или когда изыскивал время и возможность встречаться с ними, но женщины вились вокруг него, как пчелы вокруг медового сота. Всякий раз у него бывала новая. Он приводил их по одной, по две, отрядами, десят shy;ками. Это была разношерстная компания. От медсестер, на кото shy;рых у него, казалось, был особый нюх, продавщиц, стенографи shy;сток, официанток из детских ресторанов, ирландок с окраины Бруклина, склонных к вульгарным выкрикам за выпивкой, до хористок, прошлых и нынешних, и стриптизерши из бурлеска.
Джордж не знал, где Джим познакомился с последней, но это была замечательная представительница своего пола. Пышная, обладавшая таким плотским, чувственным магнетизмом, что могла возбудить неистовую любовную страсть, просто войдя в комнату. Она была яркой, смуглой, возможно, южноамериканского или восточного происхождения. Может быть, еврейкой, может, в ней было смешано несколько кровей. Притворялась француженкой, что было нелепо. Говорила причудливой лома shy;ной скороговоркой, пересыпая речь такими фразами, как «О-ля-ля»», «Mais oui, monsieur», «Merci beaucouр», «Pardonnez-moi» и «Toute de suite»[11]11
«Ну да, месье», «Большое спасибо», «Прошу прощения» и «Сейчас» (фр.).
[Закрыть]. Этому жаргону она выучилась на сце shy;не бурлеска.
Джордж однажды пошел вместе с Джимом посмотреть ее иг shy;ру в бурлескном театре на Сто двадцать пятой стрит. Манеры ее, вид, французские фразы и ломаная речь на сцене были такими же, как у них в гостях. Подобно остальным актерам, на подмост shy;ках она была такой же, как в жизни. И, однако же, лучшей в спектакле. Она искусно пользовалась своей скороговоркой, сла shy;дострастно вертя бедрами и отпуская обычные для бурлескной комедии непристойности. Потом вышла и под рев публики ис shy;полнила свой номер с раздеванием. Джим негромко бранился се shy;бе под нос и, как говорится в старой балладе об охоте на лисицу, «Обет он Богу приносил» – обет, который, кстати, так и не был исполнен.
Она была необычайной и, как оказалось, поразительно доб shy;родетельной. Ей нравились все ребята в квартире, и она любила приходить туда. Однако получали они не больше, чем зрители в театре. Она демонстрировала им свои прелести, и только.
Еще у Джима была медсестра, которая постоянно приходила к нему. Добивался он ее героически. Натиск его был грубым и безрезультатным. Она была очень привязана к нему и податлива до известной степени, дальше которой дело не шло. Джим, кипя от злости, расхаживал по квартире, словно бешеный тигр. Давал клятвы, произносил обеты. Остальные заливались хохотом, гля shy;ди на его страдания, но он и ухом не вел.
В конце концов этот образ жизни начал становиться непри shy;глядным. Все, кроме Джима, стали понемногу уставать от него, чувствовать себя слегка пристыженными, опороченными этой неприглядной общностью плотских устремлений.
Их совместная жизнь продолжаться вечно не могла. Все они мзрослели, становились более опытными, более уверенными и приспособленными к громадному морю жизни этого города. Быстро близилось время, когда каждый пойдет своим путем, отде shy;лится от этого круга, независимо заживет собственной жизнью. И все понимали, что, когда это время наступит, для Джима они будут потеряны.
Джим терпеть не мог равенства. Это было его слабостью, поро shy;ком его натуры. Он был слишком уж властителем, слишком власти shy;тельным для южанина, слишком южным для властителя. Этот дух мужества и эта несовершенная южность являлись слабостью его си shy;лы. Джим был человеком столь героического, романтического скла shy;да, что ему вечно требовалось быть первым. Спутники были нужны ему, как планете. Он хотел везде быть в центре, везде неоспоримо первенствовать. Ему требовались восхваления, обожание, покор shy;ность окружающих, чтобы песенка его не оказалась спета.
А песенка Джима была спета. Период его славы миновал. Блеск его звезды потускнел. Он стал всего лишь воспоминанием для тех, кому некогда представлялся воплощением героизма. Его современники вступили в жизнь, добились успеха, обогнали его, забыли о нем. А Джим забыть не мог. Он жил теперь в мире му shy;чительных воспоминаний. С иронией говорил о своих победах в прошлом. С негодованием о тех, кто, как ему казалось, покинул его. Смотрел со злобной насмешкой на подвиги нынешних спор shy;тивных идолов, избалованных зрительскими аплодисментами. Угрюмо ждал, когда в них разочаруются, и, дожидаясь этого, был не в силах забыть о прошлом, жалко цеплялся за обветшавшие остатки своего былого величия, за обожание кучки ребят.
Кроме них, у Джима было всего несколько близких друзей, ра shy;зумеется, не ровесников. Его жгучее, уязвленное тщеславие теперь стало причиной страха перед открытым конфликтом с миром, пе shy;ред общением с людьми своего возраста, обладающими теми же способностями, что и он, или даже большими. Мысль, что он мо shy;жет кому-то уступить, играть вторую скрипку, признать умственное или физическое превосходство другого, вызывала у него злобу и страх. Во всем городе он тесно сблизился лишь с одним человеком. Это был коротышка по имени Декстер Бриггз, дружелюбный, доб shy;родушный пьяница-журналист, совершенно не обладавший теми героическими достоинствами, какими обладал Джим, и, естествен shy;но, он обожал за них Джима чуть ли не до идолопоклонства.
Что же до четверых молодых людей, очарование жизнью в квартире у них стало улетучиваться. Свобода, поначалу казавшаяся им всем чудесной и восхитительной, обнаружила явные огра shy;ничения. Они были не столь свободны, как думали. Им стала приедаться свобода, выражавшаяся в однообразном повторении убогих развлечений, в дешевых или доступных девицах, в плат shy;ных или бесплатных женщинах, в пьяных или полупьяных ир shy;ландках, в хористках или звездах бурлеска, медсестрах, во всем этом непотребстве, в унизительной возможности уединиться, в «нечеринках» по субботам с пьянством и занятиями любовью, с постоянным стремлением к скучным, безрадостным соитиям.
Ребята стали уставать от такой жизни. Бывали случаи, когда им хотелось спать, а вечеринка шла своим ходом. Когда им хоте shy;лось уединиться, но такой возможности не было. Когда им все это до того становилось поперек горла, что они хотели убраться отттуда. Они начали действовать друг другу на нервы. Начали вздорить, огрызаться, раздражаться. Наступил конец.
Джим это почувствовал. И сознание окончательного пораже shy;ния озлобило его. Он чувствовал, что все ребята от него отдаля shy;ются, что последний остаток его обветшалой славы исчез. И ополчился на них. Принялся грубо, вызывающе заявлять, что квартира его, что он здесь хозяин и устанавливает порядки, какие тхочет, а кому не нравится, может катиться ко всем чертям. До shy;ступные девицы теперь доставляли ему мало удовольствия. Но он дошел до той точки, когда даже столь жалкие победы приносили утешение его истерзанной гордости. Поэтому вечеринки продол shy;жались, толпа потасканных женщин струилась в квартиру и из нее. Джим переступил грань. Возврата обратно не было.
Конец настал, когда Джим объявил однажды вечером, что агентство новостей дало ему назначение в один из малоизвест shy;ных корреспондентских пунктов в Южной Америке. Он злобно, мстительно торжествовал. Говорил, что «уедет из этого проклято shy;го города и пошлет всех к черту». Будет через месяц-другой в Южной Америке, где человек может вести себя, как ему вздума shy;ется, и где никто не будет ему мешать и докучать, так их всех и перетак. Да и вообще к черту эту жизнь! Он достаточно пожил, чтобы уразуметь – большинство людей, называющих себя твои shy;ми друзьями, просто-напросто двуличные, такие-рассякие мерзавцы, и едва ты отвернешься, всадят нож тебе в спину. Ну и черт с ними и со всей этой страной! Пусть возьмут ее и…
Он со злостью пил и подливал себе снова.
Около десяти часов появился Декстер Бриггз, уже полупьяный. Они выпили еще. Настроение у Джима было отвратительным. Он с яростью заявил, что желает видеть девиц. Отправил за ними ре shy;бят. Но даже девицы, весь этот потасканный сброд, в конце кон shy;цов отвернулись от Джима. Медсестра извинилась, сказав, что у нее назначено другое свидание. С женщиной из бурлеска связать shy;ся не удалось. Девиц из Бруклина не смогли найти. Молодые лю shy;ди нанесли все визиты, исчерпали все возможности. Один за дру shy;гим они возвращались и, потупя взор, признавались в неуспехе.
Джим рвал и метал, а полупьяный Декстер Бриггз уселся за старую машинку Джима и стал отстукивать следующий плач:
Ребята здесь сидят без девиц -
О Боже, срази меня!
Ребята здесь сидят без девиц -
О Боже, срази меня!
Срази, срази, срази насмерть меня,
Ведь ребята здесь сидят без девиц -
Поэтому, Боже, срази!
Завершив этот шедевр, Декстер вынул лист из машинки, под shy;нял, тупо поглядел на текст и, для начала дважды рыгнув, прочел медленно, выразительно, с глубоким чувством.
В ответ на эту декламацию и громкий хохот остальных Джим злобно выругался. Выхватил у Декстера оскорбительный листок, скомкал, бросил на пол и принялся топтать, поэт при этом гля shy;дел на него с унынием и слегка недоуменной печалью. Джим яростно напустился на ребят. Обвинил их в предательстве и дву shy;личии. Разразилась жаркая ссора. Комната огласилась гневными выкриками возбужденных голосов.
Покуда бушевала эта битва, Декстер беззвучно плакал. Ре shy;зультатом этого чувства явилось еще одно стихотворение, кото shy;рое он, всхлипывая, отстукал одним пальцем. Этот плач звучал укоризненно:
Парни, парни,
Будьте южными джентльменами,
Не обзывайте друг друга,
Ведь вы, парни, южные джентльмены,
Южные джентльмены, все.
Это произведение Декстер подобающим образом озаглавил «Южные джентльмены, все», вынул листок из машинки, и когда шум утих, негромко откашлялся и прочел стихи вслух с глубо shy;ким, унылым чувством.
– Да-да, – произнес Джим, не обратив на Декстера внима shy;ния. Он стоял со стаканом в руке посреди комнаты и разговари shy;вал сам с собой. – Через три недели я уеду. И хочу сказать вам кое-что – всей вашей чертовой своре, – продолжал он зловещим тоном.
– Парни, парни, – печально произнес Декстер и рыгнул.
– Когда я выйду из этой двери, – сказал Джим, – на моей фалде будет висть веточка белой омелы, и вы все знаете, что мо shy;жете предпринять в этом случае!
– Южные джентльмены, все, – с горечью произнес Декстер, потом печально рыгнул.
– Если кому-то не нравится, как я веду себя, – продолжал Джим, – он знает, что может предпринять! Может немедленно собрать свое барахло и убираться к черту! Я здесь хозяин и, пока не уеду, буду хозяином! Я играл в футбол по всему Югу! Сейчас меня, может, там не помнят, но прекрасно знают, кем я был семь-восемь лет назад!
– О, Господи! – пробормотал кто-то. – Было и быльем по shy;росло! Надоело постоянно слышать об этом! Повзрослей!
– Я сражался во всех краях Франции, – злобно ответил Джим, – я бывал во всех штатах, кроме одного, и везде имел женщин, а если кто думает, что я стану слушаться кучку сопляков, которые всего год, как впервые выехали за пределы родного штата, я им быстро покажу, что они заблуждаются! Да-да! – Он с пьяной сви shy;репостью несколько раз кивнул и выпил снова. – Я превосхожу… физически… – Он негромко икнул, – … умственно…
– Парни, парни, – ненадолго вынырнул из тумана Декстер Бриггз и печально завел: – Помните, вы южные…
– …и… и… морально…– торжествующе выкрикнул Джим.
– …джентльмены, все, – уныло произнес Декстер.
– …всю вашу чертову свору, вместе взятую…– яростно про shy;должал Джим.
– …так будьте джентльменами, парни, и помните, что вы джентльмены. Всегда помните…– уныло тянул Декстер.
– …и пошли вы все к черту! – выкрикнул Джим. Свирепо оглядел всех налитыми кровью глазами, гневно стиснув громадный кулак. – Пошли все к черту! – Умолк, пошатнулся, не разжав ку shy;лака, яростный, недоумевающий, не знающий, что делать. – Ахххх! – издал внезапно неистовый, удушливый крик. – К чер shy;ту все это! – И запустил опорожненным стаканом в стену, отче shy;го тот разлетелся на мелкие осколки.
– …южные джентльмены, все, – печально произнес Декстер и принялся рыгать.
Бедняга Джим.
Двое ребят покинули квартиру на следующий день. Затем по shy;одиночке остальные.
Итак, все они в конце концов разошлись, каждый бросился в мощный поток жизни этого города, чтобы испытать, проверить, найти, потерять себя, как и надлежит любому человеку – само shy;стоятельно.
16. В ОДИНОЧЕСТВЕ
Джордж стал жить один в комнатушке, которую снимал в центре, неподалеку от Четырнадцатой стрит. Там он лихора shy;дочно, неистово работал день за днем, неделю за неделей, ме shy;сяц за месяцем, пока не прошел еще год – за этот срок было ничего не сделано, не закончено, не завершено в том литера shy;турном замысле, который, возникнув столь скромным год на shy;зад, разросся, будто раковая опухоль, и с головой поглотил его. Джордж с детства помнил все, что люди делали и говорили, но когда пытался написать об этом, память разверзала свои без shy;донные глуби картин и ассоциаций, в конце концов простей shy;ший эпизод извлекал на свет целый континент погребенных в ней впечатлений, и Джорджа ошеломляла перспектива откры shy;тий, которые истощили бы силы, исчерпали бы жизни множе shy;ства людей.
То, что двигало им, было не ново. Еще в раннем детстве ка shy;кая-то неодолимая потребность, жгучая жажда понять, как обстоят дела, заставляла его присматриваться к людям с та shy;ким фанатичным рвением, что они зачастую возмущенно глядели на него, недоумевая, что это с ним или с ними. А в кол shy;ледже, движимый все тем же непрестанным побуждением, он стал до того одержимым и всевидящим, что вознамерился прочесть дясять тысяч книг и в конце концов начал видеть сквозь слова, подобно человеку, который одним лишь исступ shy;ленным всматриванием обретает сверхчеловеческую остроту фения и видит уже не только наружности вещей, но, кажется, пронизает взглядом стену. Неистовая жажда подгоняла его изо дня в день, покуда глаз его не стал въедаться в печатную страницу, будто алчная пасть. Слова – даже слова великих поэтов – утратили все очарование и тайну, сказанное поэтом казалось всего-навсего плоской, убогой орнаментацией того, что мог бы сказать он, если б какая-то сверхчеловеческая си shy;па и душевное отчаяние, подобных которым не ведал никто, вставили его выплеснуть содержимое находящегося внутри океана.
Так обстояло даже с величайшим на свете чародеем слов. Даже когда Джордж читал Шекспира, его алчный глаз въедал shy;ся с такой отчаянной жадностью в существо образов, что они начинали выглядеть серыми, тусклыми, чуть ли не заурядны shy;ми, чего раньше никогда не бывало. Некогда Джордж был уве shy;рен, что Шекспир представляет собой живую вселенную, океан мысли, омывающий берега всех континентов, неизмери shy;мый космос, содержащий в себе полную и окончательную ме shy;ру всей человеческой жизни. Но теперь ему так уже не каза shy;лось.
Наоборот – словно сам Шекспир понял безнадежность по shy;пытки написать когда-либо хотя бы миллионную долю того, что пидел, что знал об этой земле или даже полностью, с блеском отобразить все содержание единого мига человеческой жизни – Джорджу казалось теперь, что воля Шекспира в конце концов капитулировала перед его гением, который парил в столь недо shy;сягаемой вышине, что мог потрясти людей могуществом и оча shy;рованием, пусть обладатель его и уклонился от непосильного груда извлечь из своей души огромное содержание всей челове shy;ческой жизни.
Так даже в том замечательном месте «Макбета», где он гово shy;рит о времени -
Когда б вся трудность заключалась в том,
Чтоб скрыть следы и чтоб достичь удачи,
Я б здесь, на этой отмели времен,
Пожертвовал загробным воздаяньем…[12]12
Перевод Б. Пастернака.
[Закрыть]
– в том потрясающем месте, где он поднимается от триумфа к триумфу, от одного невероятного дива к другому, бросая ошелом shy;ленной земле такое сокровище из двадцати строк, которое могло бы заполнить книги дюжины менее значительных людей и про shy;славить их – по мнению Джорджа, Шекспир не высказал и ты shy;сячной доли всего, что знал об ужасе, тайне, замысловатости вре shy;мени и всего лишь набросал очертания одного из миллиона его ликов, полагая, что потрясающее очарование его гения скроет ка shy;питуляцию его воли перед непосильной для человека задачей.
И теперь, когда время, сумрачное время, тянулось медленно, мягко и невыносимо, окутывая его дух громадной, непроницаемой тучей, Джордж думал обо всем этом. Думал, и сумрачное время за shy;ливало его, топило в глубинах своего неописуемого ужаса, покуда он не превратился в какое-то жалкое, бессильное ничтожество, ми shy;кроскопический атом, бескровное, безглазое существо, ползаю shy;щее в глубинах необъятности, лишенное возможности познать хо shy;тя бы толику той сферы, в которой обитает, ведущее жизнь-в-смерти, наполненную ужасом, и, безголовое, безглазое, слепое, невеже shy;ственное, ощупью трусливо ищущее путь к сумрачной, но мило shy;сердной смерти. Ибо если величайший из поэтов всех времен на shy;шел эту задачу непосильной, что мог поделать тот, кто не обладал хотя бы частицей его могущества, не мог скрыть эту задачу, как он, за очарованием потрясающей гениальности?
Год, который Джордж прожил там в одиночестве, был уны shy;лым и отвратительным. В этот город он приехал с победоносным, торжествующим кличем в крови, с верой, что покорит его, станет выше и величественнее его величайших башен. Но теперь он по shy;знал неописуемое одиночество. Он пытался вместить всю жажду и всю одержимость земли в пределы маленькой комнатки и ко shy;лотил кулаками по стенам, стремясь вырваться снова на улицы, жуткие улицы без просвета, без поворота, без двери, в которую мог бы войти.
В этих приступах слепой ярости Джордж всеми силами серд shy;ца и духа желал одолеть этот громадный, миллионнолюдный, не shy;победимый и необъятный город, восторжествовать над ним и безраздельно им завладеть. Он едва не сошел с ума от одиночест-ва среди его множества лиц. Сердце Джорджа падало в бездон shy;ную пустоту перед ошеломляющим зрелищем его непомерной, нечеловеческой, ужасающей архитектуры. Страшная жажда ис shy;сушала его пылающее горло, голод впивался в его плоть клювом хищной птицы, когда измученный множеством образов славы, любви и могущества, которые этот город вечно являет жаждуще shy;му человеку, Джордж думал, что умрет – всего в одном шаге от любви, которого не сделать, всего в миге от дружбы, которого не уловить, всего в одном дюйме, в одной двери, в одном слове от всей славы мира, пути к которой не отыскать.
Почему он так несчастен? Холмы, как всегда, красивы, веч shy;ная земля по-прежнему у него под ногами, и апрель наступит снова. И все же он жалок, измучен, одинок, преисполнен неис shy;товства и беспокойства, постоянно причиняет себе зло, хотя до shy;бро под рукой, избирает путь невзгод, страданий, потерь и одер shy;жимости, хотя радость, покой, уверенность и могущество вполне доступны.
Почему он так несчастен? Внезапно ему вспоминались полу shy;денные улицы какой-нибудь десяток лет назад, непрерывное, шучное, ничем не нарушаемое шарканье башмаков в полдень, когда мужчины шли домой обедать; приветственные возгласы их детей, влажное тепло и благоухание ботвы репы, стук закрывае shy;мых дверей, а потом вновь вялая тишина, покой и сытая апатия полудня.
Где теперь все это? И где все те давние уверенность и покой: спокойствие летних вечеров, разговоры людей на верандах, запах жимолости и роз, виноград, зреющий в густой листве над крыль shy;цом, росная свежесть и безмятежность ночи, скрежет трамвая, остановившегося на холме над ними, и тоскливая пустота после его отъезда, далекий смех, музыка, беззаботные голоса, все такое близкое и такое далекое, такое странное и такое знакомое, неис shy;товое завывание ночи и протяжный голос тети Мэй в темноте ве shy;ранды; наконец голоса затихают, люди расходятся, улицы и дома погружаются в полную тишину, а потом сон – нежная, чистая ласковость и безмятежность целительного сна? Неужели все это навеки исчезло с лица земли?
Почему он так несчастен? Откуда это – одержимость и неис shy;товость жизни? И то же самое у каждого, не только у него, но и у людей повсюду. Он видел это на тысяче улиц, в миллионе лиц; это стало обычной атмосферой их жизни. Откуда это – неисто shy;вость непокоя и тоски, вынужденный уход и мучительный воз shy;врат, жуткая быстрота и сокрушительное движение, которое ни shy;куда не ведет?
Ежедневно они валят толпой в гнусное оцепенение множест shy;ва улиц, стремительно проносятся по грохочущим тоннелям с грязным, зловонным воздухом и высыпают на поверхность, словно крысы, чтобы напирать, толкаться, хватать, потеть, бра shy;ниться, унижаться, грозить или хитрить в неистовом хаосе жал shy;ких, тщетных, мелочных усилий, которые не принесут им ниче shy;го, останутся бесплодными.
Вечерами они вновь устремляются на улицы с идиотским, не shy;устанным упорством проклятого и заблудшего племени, с опусто shy;шенной душой, чтобы искать с усталым, бешеным, озлобленным неистовством новых удовольствий и ощущений, которые напол shy;нят их усталостью, скукой и омерзением духа, которые гнуснее и низменнее, чем удовольствия собаки. И, однако же, с той же уста shy;лой безнадежностью надежды, с той же безумной жаждой отчая shy;ния они вновь ринутся на свои отвратительные ночные улицы.
И ради чего? Ради чего? Чтобы толкаясь, теснясь, давясь бро shy;дить взад-вперед мимо дешевой помпезности и скучных увеселе shy;ний этих улиц. Чтобы беспрестанно слоняться туда-сюда по мрачным, серым, безрадостным тротуарам, оглашая их грубыми колкостями и замечаниями, хриплым бессмысленным хохотом, уничтожившим радостное веселье их юности, заливистый смех от всей души!
Ради чего? Ради чего? Чтобы изгнать жуткое раздражение из своих усталых тел, своих истерзанных нервов, своих смятенных, отягощенных душ обратно на эти скучные, безумные ночные улицы, их вечно подгоняет эта бесплодная безнадежность надеж shy;ды. Чтобы вновь увидеть раскрашенную личину старой приман shy;ки, чтобы стремиться к огромному, бессмысленному блеску и сверканию ночи так лихорадочно, словно их там ждет некое ве shy;ликое воздаяние счастья, любви или сильной радости!
И ради чего? Ради чего? Какое воздаяние приносят им эти бе shy;зумные поиски? Быть мертвенно освещенными этим безжизнен shy;ным светом, проходить с развязным самодовольством и много shy;значительным подмигиванием мимо всей этой броской пустыни киосков с горячими сосисками и фруктовой водой, мимо сияю shy;щих искушений, затейливых убранств крохотных еврейских лавочек, в дешевых ресторанах впиваться мертвенно-серыми челю shy;стями в безвкусную мертвенно-серую стряпню. Надменно про shy;талкиваться в тускло освещенную утробу, скучное, скверное убе shy;жище, жалкое, полускрытое убожество кинотеатров, а затем с нажным видом продираться обратно на улицу. Ничего не пони shy;мать, однако поглядывать с понимающим видом на своих мерт shy;венных ночных собратьев, смотреть на них, насмешливо кривя губы, с презрительной гримасой, суровыми, мрачными, непри shy;ятными глазами и отпускать насмешки. Каждую ночь видеть и быть на виду – о, ни с чем не сравнимое торжество! – демонст shy;рировать блеск своей находчивости, остроту своего плодотвор shy;ного ума такими вот перлами:
– Черт возьми!
– Ну и ну!
– Иди ты?
– Точно!
– Который парень?








