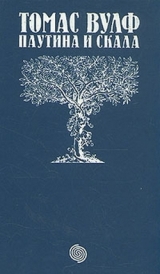
Текст книги "Паутина и скала"
Автор книги: Томас Вулф
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 51 страниц)
Мистер Шеппертон подошел к столу, взял старую Библию, все еще лежавшую раскрытой страницами вниз, поднял к свету, поглядел на место, которое Дик пометил, когда читал ее послед shy;ний раз. И через несколько секунд, ни слова не сказав мальчи shy;кам, принялся громко читать вслух:
– «Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убо shy;юсь зла, потому что Ты со мною…».
Затем мистер Шеппертон закрыл книгу и положил на то мес shy;то, где ее оставил Дик. Все вышли, он запер дверь, и никогда больше никто из ребят не входил в эту комнату.
Прошли годы, и все они повзрослели. Все пошли своими пу shy;тями. Однако лица и голоса прошлого часто возвращались и вспыхивали в памяти Джорджа на фоне безмолвной и бессмерт shy;ной географии времени.
И все оживало снова – выкрики детских голосов, сильные удары по мячу и Дик, идущий твердо, Дик, идущий бесшум shy;но, заснеженный мир, безмолвие и нечто, движущееся в ночи. Потом Джордж слышал неистовый звон колокола, крики тол shy;пы, лай собак и чувствовал, как надвигается тень, которая ни shy;когда не исчезнет. Потом снова видел комнатку, стол и книгу. Ему вспоминалось пасторальное благочестие старого псалма, и душу его охватывали сомнение и замешательство.
Потому что впоследствии он слышал другую песнь, которую Дик наверняка не слышал и не понял бы, однако Джорджу каза shy;лось, что ее выражения и образы подошли бы Дику больше:
Тигр, о тигр, светло горящий
В глубине полночной чащи,
Кем задуман огневой
Соразмерный образ твой?
Что за горн пред ним пылал?
Что за млат тебя ковал?
Кто впервые сжал клещами
Гневный мозг, метавший пламя?
А когда весь купол звездный
Оросился влагой слезной,-
Улыбнулся ль, наконец,
Делу рук своих Творец?[5]5
Перевод С.Маршака.
[Закрыть]
Что за горн? Что за млат? Никто не знал. Это было загадкой и тайной. Оставалось необъясненным. Существовало около дюжины версий, множество догадок и слухов; в конце концов все они ока shy;зались пустыми. Одни говорили, что родом Дик был из Техаса, дру shy;гие, что дом его находился в Джорджии. Одни говорили, что он действительно служил в армии, но убил там человека и отбыл срок в Ливенуорте[6]6
* Тюрьма в США.
[Закрыть]*. Другие – что получил почетное увольнение из ар shy;мии, но потом совершил убийство и сидел в тюрьме штата Луизиа shy;на. Третьи – что служил в армии, но «спятил» и долго находился в сумасшедшем доме, что сбежал оттуда, что сбежал из тюрьмы, что явился в город, скрываясь от правосудия.
Но все эти версии оказались пустыми. Никто ничего не дока shy;зал. Никто ничего не выяснил. Люди множество раз спорили, об shy;суждали эти темы – кем он был, что наделал, откуда появился, – и все попусту. Ответа никто не знал.
Дик явился из темноты. Из сердца тьмы, из темного сердца таин shy;ственного, неоткрытого Юга. Явился ночью и ушел ночью. Он был порождением ночи и наперсником ночи, символом загадки и тайны, темной половиной души человека, его ночной наперсницы и ночно shy;го потомства, символом всего, что уходит с темнотой и все же остает shy;ся, символом пагубной невинности человека и его тайны, отображе shy;нием его непостижимой натуры, другом, братом и смертным врагом, неведомым демоном – нашим любящим другом, нашим смертным врагом, двумя слитыми воедино мирами – тигром и ребенком.
9. ВЗГЛЯД НА ДОМ С ГОРЫ
В ту зиму, когда Джорджу было пятнадцать лет, по воскресе shy;ньям и после уроков он совершал с дядей долгие прогулки по го shy;рам, высящимся над городом, по долинам и пещерам на другом их склоне. Марку Джойнеру всегда была присуща неуравновешенность, жизнь с Мэг обострила ее, усилила, усугубила, довела до степени неистовства и демонической ярости, временами, дро shy;жа от бешенства, он бывал вынужден уходить из дома, чтобы ус shy;покоить истерзанную душу. В такие минуты Марк Джойнер не shy;навидел всю свою жизнь, все, с нею связанное, и стремился в безлюдные горы. Там, под холодными, ледяными ветрами, он об shy;ретал, как нигде, какой-то странный и сильный катарсис.
Эти походы будоражили дух мальчика чувствами одиночест shy;ва, бесприютности и неистовой, неведомой доселе пылкой радо shy;сти. Там он особенно остро видел громадный мир за родными хо shy;лодными холмами и ощущал сильное, мучительное противобор shy;ство тех неразрывных антагонистов, тех полярных сил, которые вечно соперничают в душе человека, – жажды вечных странст shy;вий и стремления к родному очагу.
Неистовые, неописуемые, невыразимые, но совершенно со shy;гласованные в его осознании в их противоречивой и непостижи shy;мой связи, они, как ничто больше, терзали дух мальчика своей странной, мучительной общностью в этом свирепом противобор shy;стве, невыносимым единством двойственных, соперничающих влечений дома и дальних путей, ухода и возврата. Громадные про shy;сторы земли непрестанно звали его вперед нестерпимым желани shy;ем исследовать ее бесконечную тайну и перспективу славы, могу shy;щества, торжества и женской любви, восхитительные богатство и радость новых земель, рек, равнин и гор, наивысшее великолепие сияющего города. И вместе с тем Джордж ощущал сильную, спо shy;койную радость оград и дверей по вечерам, света окна, некоего постоянства тела и объятий единственной непреходящей любви.
Зимой горы обладали суровым, демоническим величием, вызы shy;вающим дикую радость, по-своему столь же странно, неистово вол shy;нующим, как все великолепие и золото апреля. Весной или в заворо shy;женном, дремотном покое середины лета неизменно бывало нечто отдаленное, грустное, волнующее радостью и печалью, одиночест shy;вом и невыносимым, ошеломляющим торжеством какого-то огром shy;ного, приближающегося счастья. Звон колокольчика на шее коро shy;ны, вялый, далекий, заглушаемый порывами ветра, едва слышно до shy;летающий из глуби и дали горной долины; удаляющийся протяж shy;ный гудок паровоза, мчащего поезд на восток, к большому городу по зеленым горным долинам Юга; или тень облака, проплывающая по сплошной зелени дебрей, и оживленный покой, множество неожи shy;данных мелодичных, отрывистых, стрекочущих невесть чьих голо shy;сов в лирической таинственности подлеска.
Они с дядей взбирались по склону горы, то широко шагая по из shy;рытым колеям и скованным морозом дорогам, то продираясь с такой сильной, неистовой радостью, какую только испытывали исследова shy;тели дебрей, сквозь сухой, хрупкий зимний подлесок, слышали под ногами негромкий треск кустов и прутьев, ощущали упругие опав shy;шие коричневые листья и сосновые иглы, эластичный напластован shy;ный компост прошедших зим.
А вокруг них вздымались высокие деревья, близко знакомые и вместе с тем странно, тревожно неприветливые, угрюмые и бес shy;плодные, непреклонные, дикие и наводящие тоску, как свирепые ветры, вечно бушевавшие с протяжным, безумным воем в раска shy;чивающихся безлиственных ветвях.
А ненастные холодные небеса – то в рваных серых тучах, несу shy;щихся до того низко, что края их цеплялись за вершины гор; то бес shy;просветные, гнетущие, холодно-серые; то в причудливых проблес shy;ках неистового холодного света, красных на западе и ярко-золоти shy;стых там, где проглядывало солнце, – неизменно нависали над ни shy;ми со свирепыми, невыразимыми болью и скорбью, с восторгом неистового воодушевления, печалью безысходности, с духом лику shy;ющей радости, столь же веселым, безумным, неистовым, щемя shy;щим, чарующим своими бурными, бесплотными предвестиями по shy;лета, безумными прорывами сквозь мрак над всем необъятным спящим холодом земли, как буйный, сумасшедший ветер, казав shy;шийся мальчику духом радости, печали и неистового воодушевле shy;ния, которые он испытывал.
Этот ветер обрушивался на них, когда они взбирались по ка shy;менистой тропе, или продирались сквозь стылые заросли, или всходили на унылую бесплодную вершину. Обрушивался на Джорджа, исполненный своей бурной жизни, и наполнял маль shy;чика своим духом. И когда мальчик жадно, до боли в легких вды shy;хал этот ветер, вся жизнь его словно бы воспаряла и устремлялась вперед с ликующим воплем демонической силы, полета, неодо shy;лимого своенравия могучего ветра, и в конце концов он переста shy;вал быть просто-напросто пятнадцатилетним мальчишкой, пле shy;мянником скобяного торговца в маленьком городе, одним из бе shy;зымянных маленьких атомов громадной, многолюдной земли, чья самая скромная мечта показалась бы старшим смехотворной, осмелься он заикнуться о ней.
Нет. Донельзя опьяненный этим могучим, безумным ветром, он тут же возвышался над убийственными, неопровержимыми данными, фактами, возрастом, перспективой и положением. И становился уже не пятнадцатилетним. Он превращался в повели shy;теля этой громадной земли и завоевателем взирал с горной вер shy;шины на родной город. Притом не из пределов холодного город shy;ка, затерянного среди холмов вдали от чарующего шума сияюще shy;го города, а с вершины, из центра мира он глядел на свои владе shy;ния с радостью уверенности, победы и знал, что все на земле, че shy;го только душа пожелает, принадлежит ему.
Овладев этой безумной силой, столь же неистовой, норовис shy;той и всепобеждающей, как его боевой конь, он держал в руках все царства земли, населял мир по своему капризу, летал в темно shy;те над горами, реками, равнинами и городами, заглядывал сквозь крыши, стены, двери во множество комнат и знал сразу все, ле shy;жал в темноте какого-то уединенного, забытого места с женщи shy;ной, щедрой, необузданной и таинственной, как земля. Вся пла shy;нета, величайшая на ней слава, драгоценнейшее сокровище ус shy;пеха, радость путешествий, все великолепие ее незнакомых зе shy;мель, наслаждение неизвестными соблазнительными блюдами, величайшее счастье приключений и любви – все принадлежало ему: полет, шторм, странствия, океан и все маршруты гордых су shy;дов, громадные плантации вместе с уверенностью и покоем воз shy;вращения – оградой, дверью, стеной, крышей, единственным лицом и обителью любви.
Но внезапно эти неистовые, демонические мечты увядали, потому что он вновь слышал дядин голос, хриплый, страстный, дрожащий, осуждающий, видел мрачную ярость в его костлявой фигуре и сверкающих глазах. Стоя на вершине горы, глядя на ма shy;ленький город своей юности, Марк Джойнер говорил обо всем, что мучило его. Иногда о жизни с Мэг, своих юношеских надеж shy;дах на уют, любовь и тихий покой, обернувшихся лишь горечью и ненавистью. Иногда ему вспоминались давние, глубоко схоро shy;ненные в душе огорчения. В тот день, обратясь лицом к Джорд shy;жу и завывающему ветру, он внезапно выплеснул с вершины за shy;старелую жгучую злобу, очернив память о старом Фейте, своем отце. Рассказал о ненависти и отвращении к отцовской жизни, о страданиях в юности, память о которых была жива во всех мучи shy;тельных подробностях даже пятьдесят лет спустя.
– При рождении каждого из моих несчастных братьев и сес shy;тер, – сказал он до того хриплым и дрожащим от страстного не shy;годования голосом, что мальчик ужаснулся, – я проклинал отца, проклинал тот день, когда Бог дал ему жизнь! И все же они на shy;рождались! – прошептал он, яростно сверкая глазами, со всхли shy;пом в голосе. – Нарождались из года в год, он бездумно плодил их в своей преступной похоти – это в доме, где мы едва помеща shy;лись, в гнусной, ветхой развалюхе, – прорычал он, – где стар shy;шие из нас по трое спали в одной кровати, а самый младший, слабый, беспомощный бывал счастлив, если имел набитый гни shy;лой соломой тюфяк, который мог назвать своим собственным! Когда мы просыпались по утрам, наши пустые животы болели! – болели! – простонал он, – от жуткого, гложущего голода! Мой дорогой детка, дорогой, дорогой детка! – воскликнул он с нео shy;жиданной, ужасающей добротой. – Пусть из всех жизненных не shy;взгод эта никогда не коснется тебя! – А мы укладывались спать всегда несытыми – всегда! всегда! всегда!. – выкрикнул он, раз shy;драженно взмахнув рукой, – наевшись отвратительного хлеба, набив животы вареной травой со свиным жиром, ворочались в постели, будто неугомонные животные, и никак не могли уснуть, а твой достопочтенный дед – майор!.. Майор! – Он презритель shy;но улыбнулся, скорчил гримасу и засмеялся с ехидным, нарочи shy;тым, вымученным весельем.
– Так вот, мой мальчик, – вскоре продолжал он более спо shy;койным тоном покровительственной терпимости, – ты, вне вся shy;кого сомнения, часто слышал, как твоя добрая тетя Мэй говорит с присущей ее полу неумеренной и пышной цветистостью, – с облегчением причмокивая губами, произнес недопустимые сло shy;ва: – об этом образце всех нравственных добродетелей, о своем благородном родителе, майоре! – Тут он вновь презрительно рассмеялся. – И возможно, ты по малости лет создал в своем во shy;ображении образ этого выдающегося джентльмена несколько более романтичным, чем он был на самом деле!.. Так вот, мой мальчик, – неторопливо продолжал Марк Джойнер и, чуть по shy;вернув голову, глянул на племянника, – чтобы твоя фантазия не соблазнялась иллюзиями аристократического величия, я поведаю тебе несколько фактов из жизни этого благородного челове shy;ка… Он был самозваным майором полка добровольцев из лесной глуши, о которых можно только сказать, что они были, если это мыслимо, менее грамотными, чем он!.. Да, это правда, – продол shy;жал Марк Джойнер четко, спокойно, неторопливо, – ты проис shy;ходишь из воинственной породы – однако среди твоих предков, дорогой мой мальчик, не было бригадных генералов,и даже май shy;оров, – съязвил он, – поскольку самым высоким чином, какой только получал кто-то из них, был чин капрала – и удостоился этой высокой чести набожный брат майора, – я говорю, разуме shy;ется, о твоем двоюродном дедушке Рансе Джойнере!..
– Ранс! Ранс! – Тут он снова скривил лицо. – Имя-то, имя, Господи![7]7
Ranсe (англ.) – бельгийский мрамор.
[Закрыть] Неудивительно, что он вселял страх и трепет в сердца янки!.. Одного вида его было явно достаточно, чтобы заставить их за shy;мереть, как вкопанных, в разгар атаки. А запаха, чтобы поразить благоговением сердца смертных, – я говорю, разумеется, – сар shy;донически произнес он, – о простых людях, поскольку, как тебе хорошо известно, ни твоего деда, ни его брата, святого Ранса, ни прочих Джойнеров, каких я знаю, – усмехнулся он, – уподоб shy;лять простым смертным нельзя. Мы сами признаем это. Потому что все мы, мой мальчик, не столько были зачаты, как остальные, сколько появились на свет по воле Божией, созданы сошествием Святого Духа, – ухмыльнулся он, – и ты наверняка уже знаешь, что нам принадлежит единственная в своем роде привилегия быть пророками, вестниками, представителями Бога на земле – показывать Божьи пути человеку – открывать самые сокровен shy;ные Его промыслы и глубочайшие тайны вселенной другим лю shy;дям, не столь возвышенным судьбой, как мы…
– Но как бы там ни было, – продолжал он, внезапно перейдя по своему обыкновению от ревущей ярости к спокойной, снисходи shy;тельной терпимости, – думаю, в доблести твоего праведного двою shy;родного дедушки сомнений не может быть. Да! Я слышал, что он был способен убивать и с пятидесяти, и пятисот ярдов, и, выпуская каждую пулю, произносил какой-нибудь евангельский текст, дабы освятить ее!.. Да, мой дорогой детка, – воскликнул дядя, – свет не видел столь добродетельного убийцы! Он продырявливал людям головы с улыбкой святого сострадания и пел осанну, когда они испус shy;кали последний вздох! Освящал акт убийства и уверял людей, лежав shy;ших в собственной крови, что явился им как ангел милосердия, при shy;несший дары бесконечной жизни и вечного счастья взамен грехов shy;ной быстротечности их земных жизней, которых лишил их с таким нежным человеколюбием. Стрелял им в сердце и так ласково обещал все благодеяния в день Армагеддона, что они плакали от радости и целовали перед смертью руку своего спасителя!..
– Да, – продолжал спокойно дядя, – сомнений в доблести твоего двоюродного дедушки – или в его благочестии – нет, но все же, мой мальчик, положение его было невысоким – он до shy;служился только до капрала! Были и другие, кто сражался хоро shy;шо и смело на той войне, – и они тоже оставались незаметными! Твой двоюродный дедушка Джон, парень двадцати двух лет, пал в кровопролитной битве при Шайло… И многие другие твои род shy;ственники сражались, гибли, проливали кровь, получали раны на той суровой войне, однако никто из них, дорогой мой детка, не стал майором!… Был только один майор, – злобно произнес он, – твой благородный прародитель!
И Марк Джойнер ненадолго умолк в угасающем свете зимне shy;го дня на вершине горы, отрешенно обратив худощавое, откры shy;тое, грустное лицо к холодному пламенеющему закату, к унылым холмам, среди которых появился на свет. Когда заговорил снова, голос его звучал печально, негромко, со спокойным ожесточени shy;ем и казался пронизанным чудесным, волнующим светом, шед shy;шим, словно по волшебству, из громадной дали – столь же уны shy;лой, как холмы, к которым было обращено его лицо.
– Майор, – негромко произнес он, – мой достопочтенный отец, майор Лафайет Джойнер! – майор захолустья, воинствен shy;ный повелитель Сэнди Мэша, Бонапарт округа Зибулон и Пинк Бедс, искусный стратег ущелья Фрайинг Пэн, Маленький Кап shy;рал ополченцев, проведший великолепную операцию на приреч shy;ной дороге всего в четырех милях от города, – усмехнулся дядя, – когда вслед двум скачущим прочь конокрадам генерала Шермана было произведено два залпа – безрезультатных, лишь уско shy;ривших их бегство!.. Майор! – Его хриплый голос гневно повы shy;сился. – Выдающийся талант, гений, который мог все – только не обеспечить свою семью едой на неделю!
Марк Джойнер зажмурился и вновь неторопливо рассмеялся.
– Да, мой дорогой мальчик! Лафайет мог часами разглаголь shy;ствовать с видом величайшего знатока – о! величайшего! – иро shy;нически протянул он, – о красоте и совершенстве римских акве shy;дуков, хотя крыша у нас протекала, как решето!.. О загадке Сфинкса, истоках Нила, о том, что за песни пели сирены, о дне, часе и минуте Армагеддона и сошествия Бога на землю, обо всех осуждениях и карах, о наградах и званиях, которые Он установит для нас – и особенно для своего любимого сына, майора! – на shy; смешливо произнес дядя мальчика. – Уверяю тебя, дорогой мой детка, он знал все! Не было на земле никаких загадок, в вечных невозмутимых небесах никаких тайн, в жизни океанских глубин никаких неведомых ужасов, в самых дальних уголках вселенной никаких чудес, которых этот могучий разум не раскрывал немед shy;ленно и не объяснял любому, у кого хватало сил слушать!..
– Между тем, – прорычал Марк Джойнер, – мы жили хуже собак, выкапывали съедобные коренья, чтобы утолить голод, объедались дикими ягодами с придорожных кустов, найдя зер shy;нышко кукурузы, прижимали его к груди и бежали домой, слов shy;но обобрали сокровищницу Мидаса, а майор – майор – окру shy;женный своими многочисленными детьми, самые младшие из которых ползали в лохмотьях возле его ног, восседал в небесном свете поэтического вдохновения, с воспарившей душой, неза shy; пятнанной окружающим его земным убожеством, слагая стихи, – усмехнулся дядя, – владычице своих грез. «Волосы моей дамы сердца! – иронически протянул он. – Волосы!».
И, зажмурясь в мучительной гримасе, конвульсивно топнул ногой.
– О, до чего возвышенно! Возвышенно – хрипло протянул наконец дядя. – Видел бы ты, как он сидит, погрузясь в поэтиче shy;ские грезы, жует жвачку вдохновения и измочаленный конец ка shy;рандаша, – Марк Джойнер задумчиво уставился на далекие хол shy; ми, – как поглаживает роскошные бакенбарды пальцами пухлыx белых рук, которыми заслуженно гордился! -усмехнулся дядя, – Одетый в прекрасный костюм из тонкой черной ткани с глянцевой отделкой и белую крахмальную рубашку, которую она, несчастная, терпеливая, преданная женщина, за всю жизнь не купившая себе ни единого платья, стирала, крахмалила и подавала своему господину и повелителю с такой любовной заботой…
– Дорогой мой детка, – продолжал он через минуту хриплым, дрожащим голосом чуть громче шепота, – дорогой, дорогой детка, пусть у тебя в жизни никогда не будет таких мук, бешен shy;ства и отчаяния, тех жутких душевных ран, той бури изначаль shy;ных ненависти и отвращения, которые вызывал у меня отец – родной отец – и которыми моя жизнь была отравлена с юнос shy;ти! О! Видеть, как он сидит там, такой чопорный, холеный, до shy;вольный, непоколебимо уверенный в своей правоте, с елейным, протяжным голосом, в котором звучит безграничное самодо shy;вольство, с радостным смехом над своими треклятыми каламбу shy;рами, шуточками и остроумными репликами, с ненасытимым восторгом всем, что он – он один – видел, думал, чувствовал, видеть, как он восседает на горной вершине собственного тще shy;славия – в то время, как мы все голодаем – и пишет стихи о во shy;лосах своей дамы сердца – о волосах, а она, бедная женщина – несчастная, мертвая, невоспетая мученица, которую я имею честь называть матерью, – хрипло произнес дядя, – трудится, как негритянка, покуда он, блестяще разодетый, пишет стихи. Она каким-то чудом поддерживала в нас жизнь, в тех, кому уда shy;лось выжить, – с горечью продолжал дядя, – не жалела себя, мыла, шила, штопала, стряпала, когда было что стряпать, – и постоянно уступала проклятой ненасытной похоти этого лице shy;мерного распутника – она трудилась до самой минуты нашего рождения, мы выпадали из ее чрева в то время, когда она скло shy;нялась над корытом… Стоит ли удивляться, что я возненавидел даже сам его вид – густые бакенбарды, толстые губы, белые ру shy;ки, костюм из тонкой ткани, елейный голос, радостный смех, чопорное самодовольство, неодолимое тщеславие и всю жесто shy;кую тиранию его мелкой, упрямой, пустой душонки? Черт побе shy;ри, – хрипло прошептал дядя, – иногда я готов был схватить это жирное горло и стиснуть, хоть он и был моим отцом! И его худощавое лицо вспыхнуло.
– Майор! – негромко пробормотал он наконец. – Ты навер shy;няка слышал, что твоя добрая тетя Мэй говорит о майоре – о его эрудиции, уме, священной непогрешимости всех его суждений, о его белых руках, изысканной одежде, о его нравственной чисто shy;те, о том, что он ни разу не произнес ни единого вульгарного сло shy;вечка, что в его доме никогда не было ни капли спиртного – и что он не позволил бы твоей матери выйти замуж за твоего отца, если б знал, что твой отец пьет. Об этом образце нравственности, добродетели, чистоты и хороших манер, этом последнем, безу shy;пречном, вдохновенном судье и критике всего и вся. О, мой до shy;рогой мальчик, – негромко протянул он с хриплым презритель shy;ным смешком, – она женщина и поэтому руководствуется чувст-вом; женщина – и поэтому слепа к логике, к свидетельствам жизни, к законам упорядоченного мышления; женщина – и по shy;тому в глубине души консерватор, рабыня обычая и традиции; женщина – потому осторожна и поклоняется идолам; женщина – поэтому страшится за свое гнездо; женщина – поэтому заклятый враг протеста и новизны, ненавидит перемены, яркий свет истины, разрушение освященных временем предрассудков, ка shy;кими бы жестокими, ложными, постыдными они ни были. О! Она женщина, и ей не понять!..
– Ей не понять! – протянул дядя с презрительным смешком. Дорогой мой детка, я не сомневаюсь, что она рассказывала тебе о той мудрости своего отца, его эрудиции и о безупречном изяществе речи… Чушь! – усмехнулся он.– Отец набирался нелепых сужде shy;ний, читал всякий вздор, моментально попадался на удочку любого бродячего шарлатана, продающего лекарство от всех болезней, охот shy;но верил всем суеверным пророчествам, астрологическим предзна shy;менованиям: неправдоподобным слухам, гаданиям и предвестиям… Да, мой мальчик,– прошептал дядя, наклоняясь к Джорджу с таким видом, будто раскрывал ужасающую тайну, – он говорил громкие слова, не понимая их подлинного смысла, стремился произвести нпечатление на темных людей изящными фразами, которых не по shy;нимал сам. Да! Я слышал, как он говорил таким образом в присутствии людей, не лишенных образованности и ума, видел, как они перемигивались и подталкивали друг друга локтями, пока он делал из себя посмешище, и признаюсь, отворачивался и краснел от стыда, – яростно прошептал дядя, сверкая глазами, – от стыда, что мой отец выставляет себя в таком унизительном свете.
С минуту дядя молчал, глядя на холмы в лучах заката. Когда заговорил снова, голос его звучал старчески, устало, с горечью и спокойной обреченностью:
– Нравственные добродетели: чистота, благочествие, изящная речь, никакой вульгарности – да! Полагаю, у отца все это было, – устало сказал дядя Марк. – Ни капли спиртного в доме – да, это правда, но правда и то, что там не было ни еды, ни человеческой благопристойности, ни укромности. Да, мой дорогой мальчик, – внезапно прошептал он, снова чуть повернув голову к Джорджу и перейдя к постыдным откровениям, – знаешь ли ты, что, даже ког shy;да мне уже исполнилось двадцать лет и семья переехала в Либия-хилл, мы все – восемь человек – спали в одной комнате с отцом и матерью? И целых три дня! – внезапно со злобой воскликнул он. – Целых три проклятых, незабываемых дня позора и ужаса, оста shy;вивших шрам на жизни каждого из нас, тело моего деда Билла Джойнера лежало в доме и разлагалось– разлагалось! – Голос его оборвался со всхлипом, и он ударил по воздуху костлявым кулаком, – разлагалось в летней жаре, пока этот смрад не проник в наше ды shy;хание, нашу кровь, наши жизни, в постели, еду и одежду, даже в ок shy;ружавшие нас стены – и память о нем превратилась для нас в смрад позора и ужаса, который ничто не могло смыть, который за shy;полнял наши сердца ненавистью и отвращением друг к другу – а тем временем мой отец Лафайет Джойнер и этот проклятый, тол shy;стогубый, тянувший слова, лицемерный, распутный, как негри shy;тянский проповедник-баптист – твой двоюродный дедушка, свя shy;той Ранс! – злобно прокричал дядя, – чопорно сидели там в смра shy;де гниющего трупа, спокойно обсуждали, представь себе, утрачен shy;ное искусство бальзамирования древних египтян, которое они, ра shy;зумеется, единственные на свете, – злобно прорычал он, – откры shy;ли заново и собирались применить на этом гниющем трупе!
Он вновь замолчал. Его худощавое, неистовое лицо, которое после уродливых гримас презрения, ярости, насмешки, отвраще shy;ния стало так странно, благородно спокойным в отрешенном благородстве, горело суровым, каменным бесстрастием в холод shy;ном красном зареве заходящего солнца.
– И все же во всех нас была какая-то странность, – продол shy;жал он глухим, спокойным, хриплым голосом, в котором звуча shy;ли какие-то причудливые, тревожащие холодность и страст shy;ность, каких мальчик не слышал ни у кого больше, – нечто сле shy;пое и дикое, как природа – осознание нашей неотвратимой судьбы. Только не сочти это самомнением! – воскликнул дядя. – Самомнение, в сущности, такая мелочь! Оно лишь высокое, как горы, широкое, как мир, или глубокое, как океан! То, чем обла shy;дали мы, могло противопоставить свою волю всей вселенной, праведность любого нашего деяния – единому могучему голосу и осуждению всего мира, наши нравственные оценки – оценкам самого Бога. – Это убийство? Значит, убийство было не в нас, а в плоти и крови тех, кого мы убивали. Их убийство вырвалось из их грешных жизней просить о кровавой казни от наших рук. Грешник осквернил клинок нашего ножа своим нечистым гор shy;лом. Злодей нарочно бросился на острие нашего штыка своим мгрубелым в преступлениях сердцем, нечестивец в глазах Бога бросился к нам, сунул шею в наши чистые руки и по справедли-иости сломал ее, мы ничего не могли поделать!..
– Дорогой мой детка, ты уже должен знать, – воскликнул дя shy;дя, обратясь к нему с застывшим сверкающим взглядом, с грима shy;сой презрения и ярости, – ты уже наверняка узнал, что никто из Джойнеров не способен совершить дурной поступок. Жестокость, слепое безразличие ко всем, кроме себя, грубое пренебрежение, дети, преступно зачатые в бездумном утолении похоти, рожден shy;ные нежеланными и заброшенными в мире убожества, бедности и небрежения, где им предстояло жить или умереть, болеть или быть шоровыми в зависимости от своих способностей к борьбе за вы shy;живание, столь же варварски жестокой, как в индейских племенах – эти недостатки могли считаться преступлениями у других, а у Джойнеров были добродетелями! Нет, он мог видеть голодные глаза детей, глядящие на него из темноты, когда безутешные дети ло shy;жились спать на пустой желудок, а потом выйти на веранду, слу shy;шать легкие, бесчисленные звуки ночи и размышлять о сиянии лу shy;ны, когда она восходит над холмом за рекой! Мог вдыхать нежное, неистовое благоухание летней ночи и мечтательно слагать стихи о луне, сирени и волосам своей дамы сердца, хотя его дочь тем вре shy;менем выкашливает жизнь в темноте нищенского дома, – и не об shy;наруживать в своей жизни никакой вины, никаких недостатков!..
– Мне ли не знать всего этого? – воскликнул дядя. – Я пережвил эту муку жизни и смерти, слепого случая, выживания или исчезновения с лица земли. Разум мутился, сердце и вера разбивались при виде того, как мало мы получали любви, каким жестоким, пустым, бессмысленным было угасание! Мой брат Эдвард умер, когда ему было четыре года: в комнате, где жили мы все, он пролежал на своей кроватке целую неделю – о! мы смотрели, как он умирает у нас на глазах! – воскликнул дядя, ударив по воздуху кулаком с мукой боли и утраты, – он умер под теми кроватями, на которых спали мы, потому что его кроватку каждую ночь задвигали под большую кровать, где спали отец с матерью. Мы стояли, ту shy;по, бессмысленно глядя на него, когда тело его напрягалось, ноги загибались к голове в мучительных конвульсиях – а этот прокля shy;тый ханжеский, самодовольный голос все тянул с тщеславием бес shy;конечной самоуверенности «выдвигаю это как собственную тео shy;рию», – прорычал дядя, – и хоть в доме постоянно всего не хва shy;тало, недостатка в теориях не было, этот неизмеримый кладезь му shy;дрости мог выдвигать теорию за теорией, покуда все не умрут. А Эдвард, слава Богу, умер до истечения недели, – негромко про shy;должал дядя.– Внезапно, в два часа ночи, когда Великий Теоретик спокойно храпел над ним – пока мы все спали! Он вскрикнул один раз – в этом крике прозвучала вся слепая мука смерти, – и когда мы зажгли свечу, вытащили его кроватку, этот несчастный, заброшенный ребенок был мертв! Тело его было жестким, будто кочерга, изогнуто назад, как лук, даже когда Благородный Теоре shy;тик поднял его – мы еще не успели понять, что он умер, и даже когда несчастная женщина, родившая его, с воплем выбежала из дома, как сумасшедшая, спотыкаясь на бегу, – Бог весть куда, по склону холма, в темноту, в дебри, к реке, – чтобы позвать на по shy;мощь соседей, когда помочь уже ничем было нельзя. И отец дер shy;жал мертвого ребенка на руках, когда она вернулась с этой ненуж shy;ной помощью…








