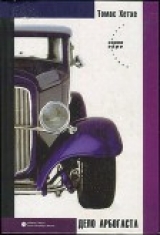
Текст книги "Дело Арбогаста"
Автор книги: Томас Хетхе
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц)
9
Шестиметровая в высоту стена тюрьмы Брухзал, сложенная из грубых известняковых глыб, увенчанная колючей проволокой и восемью караульными вышками, производила снаружи впечатление крепостного сооружения, хотя саму тюрьму – здание из красного песчаника с четырьмя флигелями – с улицы видно не было. Четыре вышки были снабжены прожекторами и выходящими во внешний мир окнами, обеспечивающими наружный обзор. Караульные не имели права стрелять без предупреждения. В качестве такового они должны были сначала выстрелить в воздух или крикнуть: “Стой! Стой, или я буду стрелять”. Под окном каждой камеры в белый прямоугольник был вписан ее номер. В центре находилась высокая башня, восьмиугольная, как и наружная стена, с высокими арочными окнами. Там же стояла и церковь – из соображений безопасности чрезвычайно массивная. Весь комплекс сооружений был каменным, только двери камер – деревянными. Коридоры, ведущие к камерам, равно как и винтовая лестница в центральной башне, укреплены металлическими конструкциями. Выходы из флигелей в центральную башню забраны железной решеткой, возле нее на каждом этаже находился бак с горячей водой. Камера Ганса Арбогаста была в четвертом флигеле, между четвертым и третьим флигелями располагался прогулочный дворик.
Пробиваясь сквозь двойные решетки окна, свет прожекторов всю ночь обеспечивал в камере эффект, сравнимый с тусклым лунным светом.
Этот свет не придавал предметам отчетливых очертаний и не отбрасывал тени, он всего-навсего парил в камере легким облачком, заставляя едва заметно белеть во мраке постельное белье. Забивался, как пудра, под смеженные веки, не давал спать, – разве что за день произошло что-нибудь, настолько утрудившее голову, чтобы она забыла беспокойное тело и погрузилась в спячку. В большинстве случаев однако же ничего не происходило, и Ганс Арбогаст лежал ночами без сна. Днем двери камеры были заперты на один оборот ключа, ночью – на два. Снаружи он слышал неумолчный лай собак, доносился до него и столь же беспрестанный шум шагов надзирателей из коридора. Иногда “глазок” открывался – на него смотрели. Здешнее служебное собаководство насчитывало двенадцать овчарок, их конуры находились на огороде, а вечером их спускали бегать по канату, протянутому с внутренней стороны по всему периметру стены. Ошейники, крепящиеся на канате, леденяще позвякивали, – звук был как у холодного и сырого бриза, веющего с моря.
Время быстро теряет вкус и запах, и Ганс Арбогаст довольно скоро перестал отличать один день от другого. Изо всех сил он старался погрузиться в воспоминания о прошлом, с тем чтобы привнести тогдашние ароматы в сегодняшнюю пустоту. Он же не воевал; кроме тогдашней вылазки в Страсбург, поездки на уик-энд в Гамбург в 1951 году по случаю приобретения первой машины и свадебного путешествия на остров Майнау на Бодензее, он же нигде не был. Но он хорошо помнил географические карты, которые то развешивал, то вновь скатывал на школьных уроках учитель. Географические – и исторические. Долина Неандер, где нашли останки первобытного человека, Лиме, акрополь, средневековая крепость, битва при Танненберге, Германия в границах 1937 года, колонии великих держав. Ганс Арбогаст подпирал голову рукой, запустив другую руку под рубашку и поглаживая себя по груди и животу, он вспоминал, перебирал и тихо произносил названия: Камчатка, Тимбукту, юго-запад Германии, Макао, Мыс Доброй Надежды, Танжер, Великий шелковый путь, Иркутск, Берингово море, Амазонка, Конго, дельта Дуная, Антиподы, Земля святого Иосифа, Таити, Галапагосские острова, Панамский канал… На узкой койке он поворачивался лицом к стене и проводил тыльной стороной руки по прохладному камню. И всегда вспоминал при этом о первом прикосновении к ее коже. И тут же, не вынеся этого, переворачивался на спину.
Вначале, как он это описывал жене, голову его словно бы распирало изнутри. Он заставлял себя думать о грядущем освобождении, но когда эти мысли оставляли его, ему не хватало кислорода и в буквальном, и в переносном смысле – не хватало прошлого, не хватало воспоминаний; мир, заключенный в его сознании, таял и убывал с каждым часом. Все приходило в негодность, каждый образ съеживался и становился двухмерным, любой звук замирал в дальних раскатах эха, пока наконец и это мучительное ощущение его не оставило, память потускнела, настал вынужденный покой и вещи возвратились на положенные места. В какой-то момент адвокат Майер сообщил ему, что Верховный суд отклонил кассационную жалобу. “И тем самым, дорогой господин Арбогаст, приговор окончательно вступил в силу”. Произошло это где-то на четвертом году заключения. И единственным, что у него осталось, оказалась теперь она. Медленно и глубоко вдыхал он воспоминания о ней. Волосы ее, сказал патологоанатом в зале суда, были вовсе не рыжими, но покрашенными в “тициановско-рыжий цвет”. При этом ему запомнилось, что и волосы у нее под мышками тоже вроде бы были рыжие, он увидел это, когда они курили в его машине, а когда они ели в ресторане “Над водопадом” в Триберге, рыжими показались ему в лучах предвечернего солнца и ее ресницы.
Уже давно его мутило от одной мысли предаться мастурбации, вызвав в памяти ее образ или те минуты, когда они предавались любви. Еще в ходе следствия он всячески подавлял воспоминание о том, как она внезапно оказалось мертвой у него в объятьях. Но выслушав все мыслимое и немыслимое и про себя, и про нее, и, главное, насмотревшись ужасающих фотографий, он и вовсе запретил себе прикасаться к ней в воспоминаниях. И все же эти воспоминания возвращались вновь и вновь – о ней и, в неразрывной связи, о ее смерти.
Майер так и не понял его, когда он однажды попытался показать на этих снимках, где именно вошла в ее тело смерть и почему. Девица, сказал адвокат, на вид была совершенно нормальной.
– Эту я и вовсе в глаза не видел, – выкрикнул Арбогаст.
– Что-то я вас не понимаю.
Арбогаст, не добавив больше ни слова, уставился на снимки. Но адвокат, пока подзащитный показывал ему детальные следы смерти девушки, глядел на него с нарастающим непониманием.
После этого Арбогаст и вовсе оставил попытки рассказать кому-нибудь о том, как она умерла. Даже когда его на несколько недель отправили на психиатрическое обследование к профессору Казимиру в университетскую клинику во Фрайбурге, промолчал он о том, как той ночью занимался любовью с ее трупом. И все же позднее ее поцелуи и прикосновения вернулись, словно бы затем, чтобы утешить его, и потом уже не оставляли все годы. Словно самой своей смертью Мария была отдана ему во власть. И в ночи, когда он думал о ней, а такова была практически каждая ночь, он к ней все равно не притрагивался. Он был убежден в том, что никогда больше не сможет любить живую женщину во плоти, но, с оглядкой на пожизненное заключение, это было ему в высшей степени безразлично. Зато я вступаю в половые отношения со смертью, ухмылялся он, уставившись в стену. Лишь изредка представлял он себе собственную жену в той или иной позе, думал и о других женщинах, которых мог припомнить, и о двух потаскушках, с которыми спознался в Гамбурге на Сант-Паули, и тут же у него происходило семяизвержение.
10
– Как твои дела?
– Нормально.
Арбогаст кивнул Катрин. Она сидела за другим концом гладко отполированного стола, надзиратель у – входа, а за спиной у нее смутно белели непрозрачные стекла окон. Каждого свидания надо было испрашивать письменно и дожидаться положительной резолюции тюремного начальства. Катрин старалась навещать Арбогаста так часто, как это допускалось тюремными правилами, то есть раз в две недели. Но, поскольку заранее никогда не было известно, получено разрешение или нет, иногда ей случалось съездить в Брухзал напрасно. Арбогаста извещали о ее приезде лишь по факту. Вскоре он уже мог определить заранее, в каком наряде она появится, – в вязаной кофте под пальто – зимой, или в пиджачном костюме – летом, и снимет пиджак, демонстрируя ему белую блузку.
Он смотрел на нее – и с годами ему все сильнее хотелось, чтобы она просто сидела здесь и помалкивала. Его взгляд ощупывал линии ее лица, останавливался на обнаженных руках, которые она складывала на столе. Он следил за тем, как она моргает или сглатывает слюну. Он фиксировал в памяти изменения ее прически и макияжа, ему казалось, будто он подмечает все перемены, он был убежден, что она не покупает себе новых украшений. На свидании ему удавалось то, на что он едва ли был способен у себя в камере, – он припоминал их общее прошлое. Вспоминал о том, как влюбился в нее незадолго перед выпуском, вспоминал о послеполуденных часах, проведенных в заброшенной каменоломне, и о ночи в камышах, вспоминал о свадьбе и о том, как она вынашивала Михаэля. При этом он невозмутимо смотрел на нее, словно бы просто любуясь. И (о чем она, разумеется, же догадывалась), возвращаясь в камеру, он уносил обновленные воспоминания, как свежий запас пищи, которой ему предстоит кормиться в одиночестве. Но в большинстве случаев она почти сразу же прерывала молчание и принималась рассказывать, как дела у Михаэля, как поживает мать, что происходит в “Золотой семге”, какова ситуация с деньгами и что приключилось с тем или иным соседом. Катрин и раньше старалась держать его в курсе событий – и продолжила заниматься этим сейчас, когда у него самого не осталось ни событий, ни курса.
Исступленнее всего ему хотелось рассказать ей о Марии. И о ее смерти тоже, хотя и не с самого начала, но, главное, о странном чувстве, которым он проникся к этой едва знакомой женщине. Арбогаст никогда не признавался Катран в интрижках, то и дело случавшихся у него, но, придя тою ночью домой, он же был уверен в том, что сумеет и на этот раз промолчать. И лишь, положив на ночной столик у изголовья спящей жены сумочку Марии, заметил, что вообще прихватил с собой эту сумочку, и понял, что взял ее исключительно затем, чтобы снабдить Катрин вещественным доказательством из того, другого, мира, в который он попал, как только Мария умерла в его объятьях. И сейчас он безучастно смотрел на нее. Из того, другого, мира он так и не выбрался. А она никогда же спрашивала его о Марии.
– Почему твои письма всегда бывают такими короткими?
В знак извинения он покачал головой. В ходе предварительного заключения в грангатском изоляторе она часто навещала его и брала с собой Михаэля, с которым они оба просто возились, пока не истекал срок свидания. Теперь она навещала его реже и требовала, чтобы он писал ей письма. Но у него быстро иссякли и темы, и слова. Бесчисленные повторы, никак не подкрепленные жизнью, вредят и любовным признаниям, и страстным клятвам. Арбогаст знал, что и у других узников та же проблема, поэтому они и разговаривают на прогулках, поэтому и обмениваются историями и рисунками (за чужие рисунки здесь принято расплачиваться табаком), чтобы было чем наполнить конверты от писем. Многие – те, что умели рисовать, – и вовсе обходились одними рисунками, да и сам Арбогаст пару раз отдал пустой лист старику из первого флигеля, который цветными карандашами и собственноручно приготовленными цветными чернилами раскрашивал здешнюю однообразную пустоту, и тот один раз сделал его, Арбогаста, карандашный портрет, а в другой – нарисовал “Золотую семгу” со слов самого Арбогаста, описавшего ему ее на прогулке.
Катрин было проще: она записывала все, что происходит, записывала все подряд.
– Мне так нравится, – завела она все тот же разговор, – когда ты мне описываешь, как проводишь день, что происходит у тебя в душе и о чем ты думаешь.
Она схватила его за руку, и он, сразу же испугавшись, ощутил это прикосновение. Тюремщик отвел взгляд в сторону. Иногда, на прощание, она даже целовала его, и на это тоже смотрели сквозь пальцы. Он торопливо отдернул руку. Иногда он вспоминал ее теплую кожу, мысленно перебирал изменения, которые внесло в ее внешность время, проведенное с ним и без него. Вспоминал о том, каким мягким был ее живот после родов, как она затаскивала его на себя и в себя, обхватив ногами его бедра. Сейчас они не разговаривали о том, каково это – жить без супружеской ласки, и у него не хватало смелости спросить у нее, не завела ли она себе кого-нибудь. И продолжает ли она любить его, Арбогаста.
Через несколько лет после ареста (а тогда Михаэлю было только три, он ничего не понимал и возился с родителями в комнате для свиданий) сын изменил отношение к Арбогасту. Начать с того, что у отца с сыном пропал малейший контакт; стоило мальчику увидеть его в арестантском наряде. Катрин и сейчас брала его время от времени в Брухзал, но Михаэлю в комнате для свиданий сразу же становилось скучно, а когда он пошел в школу и, позже, – в гимназию, то, приходя сюда, просто стоял и смотрел на отца во все глаза. Обнимать себя он не давал.
– Щекотно!
– Оставь, не ерепенься.
– Не хочу. Отпусти меня, папа! Щекотно!
С какого-то времени Катрин перестала брать сына с собой.
11
– Ты мне отвратителен, – тихим голосом ответила она однажды на вопрос, как она к нему относится. При этом Катрин посмотрела на мужа в упор. – Ты просто исчез. Эта сумочка, пропахшая чужими духами, осталась, а ты исчез. У меня осталась эта сумочка, осталась машина, в которую ты подсадил эту потаскушку, и больше ничего. Ты просто-напросто исчез!
Арбогаст, потупившись, кивнул.
Катрин замолчала, потому что к глазам у нее прихлынули слезы. На мгновение ей пришлось сильно зажмуриться.
– Ты даже не сказал мне, что собираешься пойти в полицию.
– Увы.
– У тебя их было много?
Он пристально посмотрел на нее. Она ждала. Столько раз они уже говорили на эту тему. Все было давным-давно сказано – и не сказано ничего.
– А что ты чувствовал, когда спал со мной?
Арбогаст покачал головой.
– Тебе было скучно?
– Нет, конечно же. Нет!
– На какие извращения ты с ней пустился?
Арбогаст отчаянно затряс головой и ничего не ответил.
– Объяснись же наконец со мной, – заорала она.
Он ничего не ответил, и она ушла.
На ужин дали ливерную колбасу с хлебом. На завтрак, как всегда, хлеб и эрзац-кофе. На обед – суп с лапшей и пирог с луком, на ужин – зельц, жареную картошку и винегрет. В среду – суп с зеленым горошком, сало со шпинатом и отварным картофелем. На ужин – рисовую кашу и яблочный компот. В четверг – картофельный суп и блинчики с овощной начинкой, на ужин – щуку в томате, запеченный картофель и чай. В пятницу – щавелевый суп и рыбные фрикадельки с пюре на обед, “ежики” в томатном соусе – на ужин. Тут наступил уик-энд, что означало двухчасовую прогулку вместо часовой, суп-пюре – в субботу на обед и гуляш с жареной картошкой на ужин. Во второй половине дня – десять минут в душевой, вечером – кино (раздвижной экран в коридоре первого флигеля). Впритирку усевшись на скамьи, заключенные ждали, пока не застрекочет проектор. “Лесник из Зильбервальда”.
В воскресенье с утра, перед богослужением, подали какао с сахаром, хлеб и мед. Молча тянулись заключенные в часовню; шестеро охранников стояли у входа. Когда заиграл орган, все стянули головные уборы. Внутреннее убранство часовни напоминало о тех временах, когда заключенные сидели в боксах. Когда грянул хор, люди начали перешептываться, обмениваясь махоркой, сигаретами, школьными тетрадками. Священник появился через отдельную дверь и вышел прямо на балкон, на котором находился амвон. На обед в воскресенье подали грибной суп и шницель с жареной картошкой и кабачками. И шоколадный пудинг – на десерт. Вечером, как всегда по воскресеньям, – полукопченую колбасу с хлебом и кофе. Катрин смотрела на него в упор. Порой его молчание доводило ее до белого каления и она, как электролампа, готова была взорваться прямо здесь, в комнате для свиданий.
– Твоя мать неважно себя чувствует.
– Почему она не навещает меня?
– Она неважно себя чувствует.
– А что с ней?
– Он еще спрашивает!
Это он во всем виноват, буквально во всем, думала Катрин. Но стоило ей подумать об этом, как ярость исчезала и она успокаивалась.
– А как дела у Михи в школе?
Арбогаст кивнул. Кивает, подумала Катрин, как будто все понимает. Все, что происходит во внешнем мире. А ведь ни черта он не понимает, думала она частенько.
А он думал о том, какую часть дневной нормы ему еще предстоит выполнить. Каждое утро после прогулок ему в камеру приносили тридцать пузатых винных бутылок, которые ему предстояло оплести веревочной корзиночкой. Заключенный, приносивший ему в камеру бутылки (у него, как и у самого Арбогаста, было пожизненное), поначалу без умолку нахваливал кьянти, но с какого-то времени замолчал. В первое время Арбогасту приходилось оплетать и донца бутылок, но потом начали применять пластиковые закладки, и дело пошло проще. Левой рукой он вращал бутылку, а правой – вплетал. Сперва он получал три, позднее – четыре пфеннига за каждую оплетку. Дверь отперли, и в камеру вошел Каргес.
– Господин Арбогаст?
12
Катрин провела рукой по белой деревянной столешнице, поерзала на месте, избегая взглянуть на Арбогаста. А поскольку он ничего не ответил, закрыла глаза. Стоял октябрь 1960-го и в эту пору года она неизменно возвращалась мыслями к роковой осени. Семь лет уже находился он в заключении. На следующий год ей обещали работу во Фрайбурге и она уже сняла там, в новостройках, квартирку для себя с Михаэлем. Все у них переменится. Под лакированной поверхностью доски столешницы были грубыми и шершавыми. Она хорошо изучила его лицо и понимала, как именно он на нее сейчас смотрит. На каждом свидании она обнаруживала у него в лице все новые перемены, а поскольку от разговора они с годами перешли к молчанию, она научилась читать его мысли. Это оказалось несложно, потому что буквально через два-три года его лицо словно бы принялось разрушаться. И смотреть на него она теперь просто не хотела.
– Ты хоть понимаешь, что я говорю, – тихим голосом и не открывая глаз, переспросила она. – Я подаю на развод.
Сперва она сама не осознавала, что в его внешности стало ей так неприятно. Но когда она обратилась за советом к тюремному священнику и он объяснил ей смысл одиночного заключения, особенно в той форме, которая практиковалась в Брухзале в прежние времена, Катрин начала понимать, что именно происходит с Гансом. Преподобный Каргес рассказал ей о кожаных масках, которые заставляли надевать здешних узников, выводя их из камеры, и этот зрительный образ просто поразил и подавил ее. Ей и впрямь начало казаться, будто Ганс снимает кожаную маску только перед входом в комнату для свиданий и будто на лице у него не осталось собственной кожи. Малейшая эмоция отражалась в его чертах, с каждым годом все беспокойнее дергающихся и дрожащих. Поэтому она была убеждена в том, что читает все его мысли и чувства, – поначалу это были печаль и ярость, которые, как у маленького ребенка, сменяли друг дружку за считанные секунды, а потом – только уныние и опустошенность, проскальзывающие не только в глазах или в складках возле рта, но, как ей представлялось, распространяющиеся и на губы, на веки, на глубокие борозды на щеках и даже на то, как он держал голову.
– Понимаю.
Но самым худшим был теперь его голос. Странным образом голос потерял звучность в той самой камере, описывать которую во всех деталях она вновь и вновь принуждала мужа и к которой ревновала точь-в-точь как к воспоминаниям о Марии Гурт, не отпускающих его, в чем она не сомневалась, и до сих пор. Лишь теперь она посмотрела на него. Посмотрела на него долгим взглядом, прежде чем подать ему на прощанье руку. И когда он позднее попробовал прикинуть, сколько же прошло времени после этого прощанья и до следующей встречи, состоявшейся уже на бракоразводном процессе по упрощенной процедуре здесь же, в Брухзале, только в самом городе, это ему не удалось. Должно быть, где-то в начале следующего года, но ему казалась, будто прощальное прикосновение длится, не кончаясь. Время куда-то проваливается, подумал он, вновь подав ей руку.
Суд в Брухзале находился рядом с тюрьмой. Тем не менее, его повезли туда на машине в сопровождении двух конвоиров. Поверх арестантской одежды на нем было пальто, одолженное надзирателем. Будучи вызван в маленький зал суда, Арбогаст немедленно увидел Катрин. Ее адвоката он не знал, но уже у входа в зал с ним поздоровался Винфрид Майер – потрепал по плечу и сказал, что его радует эта встреча. В зале они уселись рядом. Катрин явилась в суд с родителями, которых Арбогаст сразу же обнаружил в вообще-то пустом зале и которые отвели глаза в сторону в ответ на его кивок, Михаэля, на встречу с которым он надеялся, в суде не было. Арбогаст вполуха слушал задаваемые ему вопросы и механически отвечал на них – даже не отвечал, а всего лишь давал соответствующие устные справки; ничего иного от него и не требовалось. У Катрин оказалась новая прическа. На голове у нее был начес, что делало ее лицо незнакомым, да и та повадка, с которой она держалась в обществе молодого нездорово бледного адвоката, была для Арбогаста в диковинку. Один из тюремщиков, которого Арбогаст знал уже много лет, сидел в зале у него за спиной, и он то и дело оборачивался, словно желая удостовериться, что тот все еще на месте. И старый надзиратель, подбадривая, кивал ему.
Хорошо еще, что все заседание продлилось недолго, и адвокат простился с ним прямо в зале суда, пообещав в ближайшее время нанести визит. Арбогаст, кивнув, рванулся было к Катрин с родителями, потому что внезапно осознал: он видит их в последний раз; но адвокат придержал его за рукав и подозвал конвоиров. А тут Катрин уже исчезла, и его самого на той же машине повезли в тюрьму. Вернувшись в камеру, Арбогаст первым делом неторопливо развернул газету. Он был подписан на грангатский “Тагеблат”. Как всегда, некоторые пассажи были вычеркнуты синей тушью и соответствующие купюры проштемпелеваны. Арбогасту так и не удалось сконцентрироваться на случившемся. Лишь на мгновение вспомнил он о том, как Катрин сказала, что хочет развестись, но он и сам не знал толком, когда это было. Он принялся листать малоформатную газету, не читая ее. Единственное, что он понял, глядя на вычеркнутые синей тушью пассажи, – эта газета ему больше ни к чему.








