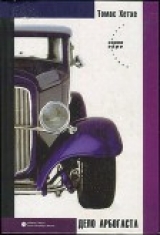
Текст книги "Дело Арбогаста"
Автор книги: Томас Хетхе
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц)
13
Винфрид Майер надписал адрес на большом конверте. Он помнил о том, что в последний раз видел Ганса Арбогаста на бракоразводном процессе, Он слышал, как разговаривает по телефону его секретарша, но не вникал в смысл беседы. У него в бюро по-прежнему пахло краской, хотя ремонт завершился уже полгода назад. На приставном столике стояла ваза с еловой лапой, украшенной рождественской мишурой. Дело происходило 12 декабря 1962 года. Объемистый конверт содержал все материалы по делу Арбогаста, и стоило ему кликнуть секретаршу, как дело навсегда было бы сдано в архив.
Сегодня утром был отклонен его письменный протест на отказ в возобновлении дела по надзорной жалобе. “Глубокоуважаемый господин Арбогаст, ценой долгих хлопот мне удалось получить два новых экспертных заключения, которые вполне способны опровергнуть зловещие выводы профессора Маула”. Винфрид Майер приложил к этому письму копии обеих экспертиз. Первая из них была проведена доктором Ландрумом, судмедэкспертом из Мюнхена, и ее выводы были однозначны. “Осужденный, – написал Ландрум, – показал, что в ходе извращенного полового акта у госпожи Гурт внезапно отказало сердце. Подобное течение событий было для него неожиданно и непредсказуемо”. Это, объяснил Майер своему подзащитному, и было решающим выводом: он, Арбогаст, не мог предвидеть заранее, чем той ночью кончится дело.
Но, собственно говоря, что же именно произошло той ночью? Адвокат вспоминал дни процесса, состоявшегося уже свыше семи лет назад, и, прежде всего, – сильно увеличенные фотографии девушки в кустах малины, продемонстрированные суду профессором Маулом. Арбогаст никогда не распространялся особо насчет того, что он испытывал той ночью, а Майер удерживался от бесцеремонных расспросов. Задним числом ему часто приходило в голову, что весь процесс мог бы повернуться по-другому, если бы он получше разобрался в собственном подзащитном. Майер вложил в конверт и второе заключение. Оно было сделано доктором Нойманом, заведующим кафедрой судебной медицины в клинике Венского университета, к которому он наведался и упросил дать заключение два года назад. Нелегко было получить в полиции и в прокуратуре материалы, необходимые для проведения повторной экспертизы. Протоколы как раз перевозят в составе какого-то архива. Фотографии слишком легко можно повредить или уничтожить. Явное нежелание вновь возиться с делом Арбогаста сквозило во всех инстанциях. Тем весомее экспертный вывод Ноймана: “Убийство по сексуальным мотивам с медицинской точки зрения не доказано. Скорее, сексуальный акт со смертельным исходом, чему предшествовало подавление сопротивления путем физического насилия и удушения. Что же касается убийства методом удушения, то оно не доказано с определенностью, необходимой для уголовного судопроизводства”.
Обзаведшись этим заключением, адвокат посетил Ганса Арбогаста в последний раз. Не стоит, сказал он, изложив подзащитному правовую ситуацию, предаваться чрезмерным мечтам, но все же ему кажется, что на этот раз его надзорная жалоба с просьбой о возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам имеет шансы на успех в уголовной палате земельного суда в Грангате. В ответ Арбогаст – и адвокат это прекрасно запомнил – всего лишь кивнул и молча уставился на него. Стоял солнечный день, и матовые стекла на окнах в комнате для свиданий подсвечивались снаружи. Арбогаст произвел на него скверное впечатление. Полгода назад его надзорную жалобу оставили без внимания. Новые эксперты – ответили адвокату в обосновательной части отказа – не располагают материалами, которых ранее не было в распоряжении профессора Маула. “Это не означает, – написал теперь Майер Арбогасту, – будто в выводах вновь привлеченных экспертов и впрямь нет ничего нового. Но в сугубо юридическом смысле слова, согласно статье 359-й вновь открывшиеся обстоятельства действительно отсутствуют. На это и указал суд, рассмотрев оба заключения судмедэкспертов”.
Майер тут же переадресовал надзорную жалобу в высшую инстанцию. Но и высший земельный суд в Карлсруэ отклонил ее. Теперь я уже и сам не знаю, какие новые шаги можно предпринять в Ваших интересах, – написал Майер, – ибо все правовые средства мною уже использованы”. В конце письма адвокат попросил прощения за то, что острая нехватка времени мешает ему доставить материалы в Брухзал лично. Прочитав это, Арбогаст кивнул, словно в ходе очной беседы с адвокатом, и спрятал письмо в конверт, в котором хранились остальные материалы дела. И сразу же принялся раскрашивать деревянных человечков с курительными трубками, расставленных перед ним на маленьком столе. Тут же находились краски, кисточки, лак, ветошь. Соответствующим образом в камере и пахло, как всегда перед Рождеством, когда заключенные прирабатывают, мастеря игрушки для праздничней распродажи. На Рождество заключенные получали в подарок от здешнего колбасного цеха по три круга краковской или другой полукопченой колбасы, а ведь зимой колбаса, прикрепленная к решетке окна, может храниться долго. В сочельник раздают яблоки и орехи, собранные прихожанами здешнего костела, а к рождественскому ужину подают жаркое с запеченным картофелем и тушеными овощами. И ежегодно на десерт – шоколадный пудинг. В последнее время в тюрьме творилось и кое-что иное. В ходу были изолированные резиной электропровода, которые здесь называли русским словом “спутник” и при случае, свернув в колечко, проглатывали. Как всегда в рождественскую пору самокалечение случалось чаще – многим хотелось провести несколько дней в тюремном лазарете. Когда резиновая изоляция растворялась в пищеводе, колечко распрямлялось и провод ранил стенки желудка. Человек начинал ходить под себя кровью. Мысль об испытываемой при этом боли была приятна Арбогасту. Через полчаса погасят свет. Закрывая баночки с красками, он внезапно почувствовал себя так плохо, что впервые за все годы испугался наступления ночи. Но тут он открыл окно, впустил в камеру холодный воздух и вслушался в шумы и шорохи тюрьмы. Собаки; переговоры из окна в окно; шаги конвоя по металлическому настилу. Кто-то у него над головой барабанил ложкой по отопительной батарее. Откуда-то доносился бой колокола. Как всегда, тюрьма держала его, и он знал, что с ним ничего не может произойти под этими высокими и просторными сводами четырех флигелей, лучами звезды сходящихся к центральной башне, в которой за общим порядком во всех ста двух камерах следил один-единственный надзиратель. Каждая камера, подумал Арбогаст как раз, когда свет погас и он привычным жестом отстегнул койку от стены уже в полном мраке, представляет собой отдельную, полностью изолированную ячейку, если абстрагироваться от узких металлических коридоров, которыми они все же соединены. Каждый из нас здесь одинок, подумал Арбогаст, и, как это ни странно, подобная мысль не встревожила его, а, напротив, избавила от мимолетного страха.
14
В начале следующего года, а точнее в январе 1963-го, в тюремном коридоре произошел инцидент. Задним числом так и не удалось выяснить, кто же выступил зачинщиком беспорядков и что послужило поводом, однако неизменно безучастный Арбогаст внезапно сорвался и в слепой ярости набросился с кулаками на другого заключенного. Конвоиру не удались разнять драчунов. Подняли тревогу, из служебного помещения на помощь конвоиру поспешили еще трое, но прежде чем они оттащили Арбогаста (который был выше на голову любого из них) от жертвы, та оказалась избита столь основательно, что Арбогаст получил десять суток карцера.
Это было первое дополнительное наказание, которому он подвергся в тюрьме. Карцер находился в одной из караульных вышек. Это было пустое – ни стола, ни койки – помещение со стенами из керамической плитки и с бетонным возвышением, которое служило ложем. Арбогасту выдали пару одеял и “парашу” – и больше ничего. Оконце было высоким и крошечным, его можно было по желанию тюремщиков прикрыть металлической крышкой, с тем чтобы наружу из карцера не пробилось ни звука. Прежде чем войти сюда, Арбогасту приказали раздеться. Его втолкнули в карцер обнаженным, сунув ему в руку так называемую “суровую рубаху”, изготовленную из столь прочной ткани, что ее невозможно разорвать с тем, чтобы свить веревку и на ней повеситься. Его посадили на хлеб и чай. Первые два дня ему пришлось не особенно тяжко. Он рассматривал бесчисленные похабные рисунки на здешних стенах. Прямо над бетонным постаментом была крупно изображена женщина с широко раздвинутыми ногами и утрированно большими половыми губами. Соответствующее место было отмечено подписью “пизда” и снабжено указательной стрелкой. Под окном – нацеленный в ту же сторону, что и стрелка, – был изображен циклопический фаллос. Имена, фамилии, даты и проклятия. Не только по-немецки, но и по-итальянски, некоторые даже кириллицей. И сроки – не то заключения, не то приговора – 10 лет, 15 лет. И одна единственная надпись: “Через три дня мне на волю!”
Мария когда-то нашептывала ему что-то на ухо, но на третий день в карцере он обнаружил, что начисто забыл, что именно. И все же он чувствовал тепло ее дыхания, овевающего его ухо, чувствовал ее щеку, прижавшуюся к его щеке, и ее руку, пропущенную ему под мышку, вот только слова, которые она шептала, он позабыл. И хотя он требовал от нее напомнить ему эти слова, она молчала, как немая. И тут нахлынул страх забыть не только это, но и все остальное. Женщины превратились в физиономии на обрезках газет, уже восемь лет служащих ему туалетной бумагой. Внезапная неотвратимость того, что останешься здесь навеки. Он попытался прекратить думать о чем бы то ни было и, главное, чтобы больше ничего не забыть, избегать малейших мыслей о Марии. На пятый день ему вспомнилось, как она, лежа с ним в траве, рассказывала о Берлине. О невыносимо жарком лете на разбомбленном чердаке, на котором она, поваленная на драный матрац, из которого торчали пружины, впервые спозналась с мужчиной, уставившись безучастным взглядом в ночное небо.
– Нет, я там не был. А ты не хочешь туда вернуться?
– Ясное дело, хочу. Здесь я долго не выдержу. Как только муж подыщет себе работу.
– Но тогда мы больше не увидимся.
Она рассмеялась. Но пока-то она здесь, верно?
– Поцелуй меня!
Бетон оказался не таким уж твердым. Возле самого пола он нацарапал ногтями на стене ее имя. МАРИЯ. Затем занялся онанизмом и с изумлением понял, что уже давно не предавался этому занятию, и даже сам не замечал, что воздерживается. Затем разжевал хлеб, превратив его в мягкую теплую кашицу, и запечатал себе ею рот. Выпустил изо рта струю чая так, чтобы она пролилась ему на лицо. Долгое время пролежал на спине, барабаня указательным пальцем по животу – в совершенно конкретную точку повыше пупа, почему-то думая, что если он прекратит барабанить, то сразу же ослепнет. Он занимался этим, как ему казалось, несколько дней, подгоняя палец командой: продолжать! продолжать! И вспомнил все это, только прекратив и уже не помня, когда именно прекратил. И с мгновенным ужасом подумал: ну все, теперь я ослеп. Но тут же обнаружил, что она смотрит на него. Ее глаза смотрят на него точно так же, как тогда, в его объятиях, вот только он не может вспомнить их цвета. Из-за этого он заплакал. И уже обвел имя Мария на стене рамочкой, когда наконец отперли дверь.
Когда Арбогаст вернулся в камеру, в стену ближе к вечеру постучали, вызывая его к окну, а там попросили лечь на пол у батареи и рассказать о том, как было в карцере, тогда им будет слышно. Еще никогда и никому здесь не хотелось с ним разговаривать, а сейчас ничего не захотелось рассказывать ему самому. Пожизненно заключенные, объяснил ему учитель, имеют право выписать какой-нибудь музыкальный инструмент или канарейку. Но Арбогасту не нужна была канарейка. На следующий уик-энд он написал письмо профессору Маулу, завкафедрой судебной медицины Мюнстерского университета, и попросил “не дать ему сдохнуть в тюрьме”. Потому что он невиновен. Маул сделал на полях письма отметку: “Неинтересно. В архив”.
15
– Когда у человека умирает мать, – едва поздоровавшись, начал Каргес, – то это, как выразился один французский поэт, равнозначно тому, что разбилась скрижаль Завета.
– О чем вы? Что вы имеете в виду, ваше преподобие? Моя мать?..
Каргес, стоя в дверном проеме, кивнул.
– Сочувствую вам, Арбогаст. Она умерла вчера.
Это произошло в августе 1963-го. Священник внимательно следил за реакцией заключенного. Арбогаст, стоявший перед тем у окна, подошел к столу, потом к койке, выщелкнул ее, достал матрас, что в дневное время было строжайше запрещено. И, словно именно по этому нарушению внутреннего распорядка тосковал все годы, уселся на койку, сцепив руки на коленях и уставился прямо перед собой. И тут Каргес заговорил вновь.
– Теперь, Арбогаст, вы совершенно законченный тип. Я не имел в виду ничего плохого. Просто ничто в вас больше не поддается улучшению, потому что разбилась форма, в которой вас, так сказать, изготовили. Теперь каждая шишка, каждая царапина останутся с вами раз и навсегда. Теперь вы полностью отвечаете за себя, потому что не существует больше другой жизни, остающейся для вас самого на заднем плане, но рассматривающей вас как своего рода пробу, проекцию, вариант. А ведь как раз об этой форме мы и вспоминаем, когда нам не хочется брать на себя ответственность за нами же и содеянное.
Каргес выждал, рассчитывая на какую-нибудь реакцию со стороны Арбогаста, но тот оставался невозмутим. Каргес даже подумал, не приказать ли ему встать и убрать койку с тем, чтобы арестант хотя бы посмотрел ему в глаза, но тут же отбросил эту мысль.
– Покаяние, Арбогаст, это лестница в три ступени: сперва раскаяние, которое человек должен почувствовать сам, потом исповедь, в ходе которой поверяешь свою вину, и наконец удовлетворение, наступающее после этого. Но знай, что главной ступенью является исповедь, потому что когда ты признаешься, Бог простит тебя, а я смогу отпустить тебе твои грехи. Поверь мне, Арбогаст, сейчас для этого самое время.
– Но мне не в чем исповедываться, – полуавтоматически и не поднимая глаз, пробормотал Арбогаст. – Я ведь невиновен.
– Даже когда мы упорствуем, даже когда не произносим ни слова, высшие силы в конце концов заставляют нас признаться, поверь мне. Само наше молчание в таких случаях красноречиво и становится самообвинением. Как будто что-то в нас протестует против заклятия, мешающего нам выговорить самое сокровенное, и как будто само это заклятие порождает и усиливает протест и, в конце концов приводит к признанию.
И только тут Арбогаст посмотрел на священника.
– Ваше преподобие?
– Я тебя слушаю.
– А мне можно к ней?
– Да. Вам разрешено присутствовать на похоронах. Послезавтра.
Каргес кивнул, на мгновение замешкался, размышляя, не надавить ли на заключенного посильнее с тем, чтобы выжать из него искупительное признание, которое – Каргес в этом не сомневался – и само давным-давно рвалось наружу. Решил однако повременить с этим и постучал в дверь, чтобы его выпустили.
Арбогаст проследил за тем, как отперли и вновь заперли дверь. И ему почудилась, что вместе с последним оборотом ключа в камере стало невыносимо душно – настолько, что он сорвался с места и отворил окно. В камеру нахлынул теплый летний воздух, голоса со двора, словно бы металлическое пение жаворонков с окрестных полей. Я понимаю Катрин, написала ему однажды мать вскоре после развода. Она-то сама была в браке вполне счастлива. И если забыть о смерти мужа, то самую сильную боль причинил ей своим поступком Ганс, и она просто не понимает, как он может жить с такой ношей. Читая это письмо, Ганс, поддакивая, кивал чуть ли не на каждом слове – как будто она и впрямь сидела с ним и взывала к его дремлющей совести. В детстве, если ему случалось совершить какой-то проступок, надо было только вот так покивать, пока она не выскажется сполна, – и на этом дело заканчивалось. И вот он держал в руке письмо и поддакивая кивал. Но и письмо закончилось, голос матери умолк – и ничего не изменилось. Арбогаст и сейчас отлично помнил эту минуту. Голос умолк – и все. Кое-как он сложил прочитанное письмо и сунул обратно в конверт. А сейчас он слушал жаворонков и смотрел на уже убранное поле.
Через день двое охранников и водитель повезли Арбогаста в Грангат где-то около полудня. Перед этим его отвели в подвальный склад и выдали ему цивильное платье. Костюм пропах пылью и нафталином и был слишком теплым для нынешней августовской жары, ведь привезли Арбогаста в Брухзал в январе; за толстыми тюремными стенами этот зной не слишком чувствовался, но уже в “черном вороне” взял свое: прежде чем они прибыли в Грангат, вся рубашка Арбогаста стала мокрей от пота. Всю поездку Арбогаст просидел молча, глядя в зарешеченное окно. Машины, попадавшиеся по дороге, были неизвестных марок и очертаний, а прибыв в город, он не узнал улиц со старыми домиками под черепичной крышей – теперь ему попадались какие-то непонятного назначения ангары и бензоколонки в огнях рекламы. Он надеялся увидеть хотя бы знакомее лицо, но и с этим ему не повезло.
Поскольку до начала похорон оставалось еще какое-то время, он попросил отвезти его сначала в “Золотую семгу”; водитель кивнул и велел объяснить ему, как туда проехать. Едва начав описывать маршрут по улицам Грангата, – а кружить им особенно не пришлось бы, – Арбогаст почувствовал, как у него заколотилось сердце и покрылись потом руки, а когда машина остановилась и он под конвоем вышел на улицу, то на долгий миг замер на пороге фамильного заведения, сделав вид, будто ему хочется для начала малость осмотреться. В машине был хотя бы сквознячок, а тут на него вновь обрушился зной и под рубашкой вспотела уже спина. Он расстегнул ворот, чтобы хоть чуть полегчало. Ничто, на первый взгляд, не изменилось в старом доме, в котором он не был больше десяти лет. И все же фасад выглядел убого по сравнению со свежеокрашенными соседскими домами. Улицу замостили булыжником и расширили, их палисад с дощатым забором исчез вместе с былым покрытием улицы. Осторожно вошел Арбогаст в крошечный холл, а оттуда, минуя пустынную гардеробную, – в пивной зал, в котором, показалось ему, было еще жарче, чем на улице, и вдобавок душно.
Арбогаст и сам не знал, кого он здесь встретит, предполагая, что, скорее всего, это будет Эльке, его младшая сестра, с которой он после своего ареста не обменялся и словом. На протяжении всего процесса она сидела на скамье рядом с матерью и отводила взгляд, когда он пытался встретиться с ней глазами. И в тюрьме она его ни разу не навестила, а после того, как оставила без ответа пару его писем, он прекратил ей и писать. Конвоиры остались у входа в трактир. Арбогаст как раз ослабил узел галстука и окончательно расстегнул белую сорочку, которую надевал в последний раз в день вынесения приговора, когда из кухни появилась Катрин. Ему сообщали, что она и после развода и переезда во Фрайбург регулярно встречается с его матерью и заботится о ней, и все же, как это ни странно, он и мысли не допускал, что может с ней здесь встретиться. В удивлении он обернулся к конвоирам, чтобы они подсказали ему, как вести себя дальше, но им, судя по всему, было все равно. Катрин смерила его быстрым взглядом – и ему сразу же стало ясно, о чем она подумала. Она вспомнила о том, как они с ним когда-то покупали этот костюм. И тут он и сам вспомнил это – эпизод с покупкой костюма. Теперь она улыбнулась и сняла фартук, надетый поверх черного платья, и он двинулся к ней, широко раскинув руки. Но она вдруг обняла его сама и притянула к себе вплотную. А он обескуражено отшатнулся. До сих пор они не произнесли еще ни слова. Он сделал несколько шагов вдоль по просторному помещению.
– Жарко здесь, – выдохнул он наконец, ухватившись за ворот, впившийся в мокрую шею.
– Да уж.
Катрин сложила фартук и положила его на столик, по-прежнему глядя на Арбогаста.
– Здесь все по-старому.
Она покачала головой.
– Все будет продано!
– Вот как?
– Именно.
Он кивнул. Подобно псу, Арбогаст вдыхал знакомые домашние запахи, словно только сегодня утром, а не десять лет назад, вышел отсюда, чтобы добровольно сдаться полиции. Скоро сентябрь – а значит, очередная годовщина встречи с Марией; лежа последней ночью без сна, он размышлял о том, не виноват ли и в смерти собственной матери. Разумеется, все здесь будет продано. От этого трактира матери следовало отказаться сразу же после суда, потому что посетителей все равно не осталось. Арбогаст прекратил ходьбу и вновь посмотрел на конвоиров, по-прежнему стоящих в дверях.
– Не хотите ли пивка, – голосом хозяйки заведения, которой ей так и не случилось стать, спросила Катрин.
Оба конвоира кивнули и с благодарностью приняли бутылки, которые Катрин достала из холодильника за стойкой. Арбогаст не знал, верила ли мать в то, что он невиновен. Вечно он оттягивал этот вопрос до ее следующего визита, а потом так и не задавал его. А теперь ее уже ни о чем не спросишь. Однако в глубине души Арбогаст понимал, что важным для его матери было не то, что он сделал или чего не сделал с Марией, а то, что он сделал с нею самой, с ее жизнью, – не оборвав, но как-то разом остановив. Он вспоминал сейчас, как она сидела в комнате для свиданий в матовом свете, льющемся из окна, – сидела, чуть склонив голову на бок и словно бы прислушиваясь к шуму отопительных батарей; сидела, так ни разу и не глянув ему в глаза. Произошло это вроде бы в ее последний визит. И теперь я и взгляда-то ее больше не почувствую, подумал Арбогаст.
– Где Михаэль?
– Он с Эльке. Она привезет его на кладбище.
– Как у него дела?
– Растет. Буквально не по дням, а по часам.
Арбогаст кивнул.
– А почему он мне не пишет?
– Я и сама его ругаю. Но он ни за что не хочет.
И вновь Арбогаст кивнул.
– А уже есть покупатель?
– Да. Но ты его не знаешь.
– Поступай, как хочешь.
– Адвокат пришлет тебе договор, когда тот будет готов. Но вообще-то дела так быстро не делаются.
– Тогда я малость тут осмотрюсь, пока не стало слишком поздно.
– Изволь.
Зал, в который он когда-то привез бильярдные столы, был пуст. Катрин удалось продать все двенадцать столов вскоре после его ареста, правда, по дешевке. На половицах до сих пор длинные царапины – столы сперва втаскивали сюда, а потом вытаскивали. Окна занавешены, и в зале было очень темно и мрачно, пока конвоиры не открыли дверь, чтобы не упускать его из виду. Свет упал на длинный, застланный скатертью стол, который Катрин, готовясь к поминкам, выставила, как когда-то, на середину зала. Арбогаст узнал старый бело-голубой кофейный сервиз и серебряные приборы, которые раньше выкладывали только по воскресеньям и на праздники. Он провел рукой по скатерти и осторожно поправил указательным пальцем вилку для жаркого.
– Ты ведь к нам позже присоединишься? – спросила Катрин, стоя уже в дверях.
– Нет, мне нужно будет вернуться.
Он покачал головой и напоследок хорошенько огляделся по сторонам в старом зале.
– Но мне хотелось бы кое-что отсюда забрать, – сказал он, обнаружив ящик на подоконнике.
Оба охранника ждали у дверей, пока он аккуратно обтирал от пыли буковое дерево и тонкие металлические шарниры. Возле ящика на подоконнике валялись дохлые мухи, была паутина, стопкой лежала ветошь, которой стирают пивные подтеки.
– А что это такое? – спросила Катрин, когда он вышел из темного банкетного зала.
– Мои бильярдные шары, – ответил Арбогаст, показывая ящик конвоирам с тем, чтобы они смогли проинспектировать его содержимое.
Катрин промолчала. Но по ее взгляду он догадался о том, что она вспомнила, как много значили для него эти шары. Она даже позволила себе усмехнуться, и он отвел глаза. Позже, когда они все вместе отправились на кладбище, Арбогаст с изумлением обнаружил, что Катрин ездит на голубом фольксвагене-“жуке”, а он даже не знал, что она обзавелась правами. На протяжении всей поездки к церемониальному залу кладбища, в котором, как он знал, проводили в последний путь и Марию Гурт, Арбогаст держал ящик с шарами на коленях.
Охранники остались у входа в маленькую часовню, подслеповатые окна которой превращали свет летнего дня в тусклое мерцание. Арбогаст, подойдя к открытому гробу и затем понуро усевшись в первый ряд, чувствовал, что его буквально пожирают глазами. Здесь было прохладно. Лицо матери, в последние годы высохшее, было полуутоплено в белую шелковую подушку, оно казалось таким чужим, что Арбогасту пришлось напомнить себе, кто она. Гроб утопал в цветах и венках. Помадой она никогда не пользовалась, подумал он, и печаль нахлынула, он едва не расплакался. Посмотрев в сторону, он увидел детей, в свою очередь, глазевших на него с нескрываемым любопытством. Никого из них он не узнал. В конце концов родители одернули маленьких невеж. Взрослых Арбогаст узнал почти всех, узнал, даже не глядя в лица, а тех, кого не узнал, “вычислил”, исходя из того, с кем рядом они уселись. В какой-то момент маленькая дверца возле алтаря отворилась и предстал молодой священник. Арбогаст открыл ящик у себя на коленях и уставился на бильярдные шары. Он не отвел от них взгляда на протяжении всей церемонии. Черный шар и два кремово-белых так уютно угнездились в синем бархате, что поневоле пришло на ум обнаженное женское тело.








