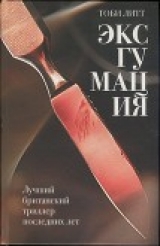
Текст книги "Эксгумация"
Автор книги: Тоби Литт
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц)
37
Посещение театра в инвалидной коляске оказалось интересным приключением. Где бы я ни появился, все разговоры в непосредственной близости от меня мгновенно прекращались. Когда я покатил в бар, чтобы заранее заказать выпивку на антракт, люди разбегались передо мной, как перед танком «Шерман». (Я и был танком, но мои снаряды сеяли сострадание – никто же не хотел получить такой снаряд прямо в сердце.) Однако интересней всего было то, что мне не приходилось менять положение тела перед началом спектакля и в антракте, из-за чего все мое пребывание в театре воспринималось особенным образом. Другие зрители имели возможность переключаться с (относительной) сосредоточенности на расслабленность – меняя положение: они то сидели, то стояли. Для меня же все было едино: мой спектакль начался в тот момент, когда таксист позвонил в дверь и я уселся в коляску, чтобы открыть ему уже в образе инвалида, а закончился, когда таксист (другой таксист) высадил меня у дома.
Сама постановка оказалась такой, как я и ожидал. Декорации изображали исписанные граффити бетонные джунгли в бедном квартале Глазго. Шотландские таны были наряжены в яркие клетчатые спортивные костюмы и кроссовки. Макбет и леди Макбет были увешаны золотыми цепями и утирали носы акриловыми рукавами. Привратник походил на косноязычного уличного бродягу, знающего коды всех подъездов в округе. Видеокамеры на высоких столбах – символ жизни под наблюдением – следили за актерами и зрителями со всех четырех углов сцены. На большом телеэкране зрители видели себя – ряды голов в отраженном свете рампы. Режиссер, Саб Овердейл, желая модернизировать шекспировские драки на мечах, не придумал ничего лучше, кроме как вооружить все действующие лица мачете. («Макбетти с мачете» – так один из критиков озаглавил свою рецензию.) В общем и целом, как это обычно бывает в Королевской шекспировской труппе, актеры явно перегибали палку. Они старались оживить «скучные места» тем, что без необходимости выделяли и обыгрывали каждую фигуру речи. На сцене звучали десятки акцентов, от различных шотландских, свойственных как горцам, так и обитателям долин, до бруклинского и баварского. В постановке были использованы все фирменные приемы Королевской шекспировской труппы: мужчины громко топали по сцене, изображая мужественность, женщины были не более женственны, чем переодетые трансвеститы, массовка была слишком массовой и просто навязывала себя зрителю (каждый актер в ней пытался завладеть вниманием зала, прибегая к какому-нибудь эффектному трюку). Актеры постпенсионного возраста были убеждены, что декламация стихов – это прежде всего про-из-но-ше-ни-е, молодые актеры полагали, что стихи – это нечто вроде слэнга, а считавшие себя театральными мессиями актеры средних лет все свои реплики на более или менее узнаваемом английском буквально вколачивали в зрительный зал как гвозди: вот почему Шекспир по-прежнему актуален, вот почему он обращается к каждому зрителю, вот почему нужно увеличить финансирование театра.
Если бы у меня не было своих особых причин, чтобы досидеть до конца, я бы выкатился из зала еще в середине первого акта.
Вместо этого я развлекался тем, что играл в игру, которой я обычно спасаюсь на плохих спектаклях. Я старался угадать актеров из состава труппы, которые:
а. являются любовниками;
б. были любовниками, но больше друг с другом не спят;
в. станут любовниками после спектакля;
г. перепихнутся после вечеринки в честь последнего спектакля;
д. люто ненавидят друг друга;
е. люто ненавидят режиссера;
ж. ненавидят себя (это легко, они все ненавидят себя);
з. ненавидят зрителей.
Наконец мне осталось последнее испытание: поклон артистов. Интересно, сколько часов – не реальных репетиций, а мысленного предвкушения – актеры тайно тратят, сосредоточиваясь на этих двух-трех минутах? Сколько раз они шлифовали усталый глубокий поклон с болтающимися руками, который призван сказать залу: «В этой своей лучшей роли я, о мои зрители, отдал вам всего себя»? И как часто останавливались перед зеркалом, чтобы отточить деловитое, едва заметное движение туловищем, которое как бы говорит: «Я самый обычный человек, как и вы, без всяких претензий. (Но я неплохо сыграл, правда?)»? Или как работали над той особой манерой отходить в сторону и, улыбаясь, аплодировать партнерше, намекая при этом залу: «Она, конечно, играла хорошо, но все же сколько в ней самомнения!»?
Я вытерпел поклон благодаря единственному известному мне приему: закрыл глаза и просто слушал, как зрители аплодируют: я представлял себе, что этот звук производят не люди, а далекий водопад или оживленная автострада, от которой меня отделяют зеленые луга.
38
Когда все наконец закончилось, я докатил до служебного входа и пробрался за кулисы. Двух лет, прожитых с Лили, оказалось вполне достаточно, чтобы научиться подобной хитрости. (Главное, помнить, что большинство театральных охранников будут вам бесконечно признательны, если вы расстреляете всех актеров, занятых в любом конкретном спектакле. Иногда, чтобы вас пропустили к грим-уборным, достаточно просто выглядеть подозрительно.) С таким реквизитом, как инвалидная коляска, я был обречен на удачу.
Я никогда не был за кулисами в «Барбикане», однако меня не раз пичкали актерскими байками о легендарной неприветливости этого театра. Все актеры, которые здесь работали, неизменно заболевали из-за недостатка естественного освещения и воздуха, который гоняли по кругу в системе вентиляции. Для этой болезни даже придумали особое название – барбиканит.
Я заехал в лифт и нажал кнопку «гримерные» – их предусмотрительно подняли над сценой на шесть этажей.
Декором служебные помещения «Барбикана» одновременно напоминали офис крупной корпорации и начальную школу – желтые стены с отделкой цвета фуксии.
Вот, значит, в каком месте все эти люди предпочитали проводить время, которое у них оставалось после злостного надругательства над Шекспиром, английским языком, моим терпением и терпением тысячи задниц.
Первый же попавшийся мне навстречу актер (в «Макбете» он играл Привратника) объяснил, как найти гримерную ведущих актеров спектакля. Алан и Дороти были известны тем, что делили одну грим-уборную на двоих, несмотря на их звездный статус. Здесь, перед обрамленным лампочками зеркалом, их любили фотографировать журналисты, когда брали интервью сразу у обоих. (Когда их интервьюировали по отдельности, Дороти специализировалась на обаятельных улыбках, которыми расцветала, прислонившись к дереву, а Алан предпочитал фотографироваться в мечтательной позе на вершине какого-нибудь обдуваемого всеми ветрами холма.) Это были настоящие актеры: именно так должны были представлять себе их читатели воскресных газет – в окружении коробочек грима, костюмов и открыточек от поклонников.
Когда я постучал, Алан крикнул через дверь: «Кого там черти принесли?» – но это меня не остановило.
Поскольку я довольно долго катался за кулисами, они оба уже приняли душ, переоделись и готовились отправиться домой.
Других гостей в гримерке не было, а когда Алан и Дороти увидели мою инвалидную коляску, строгие линии на их лицах мгновенно разгладились. (Хотя им, конечно, не могла понравиться моя рубашка зеленого цвета, ведь зеленый считается у актеров несчастливым. Я знал, что это заставит их нервничать: Алан однажды выступил автором сочиненной за него книги о театральных суевериях.) Они приготовились выслушать банальные слова благодарности от имени какого-нибудь общества инвалидов за взнос на приобретение столь необходимого ему мини-автобуса.
Я же решил с самого начала шокировать их, раскрыв карты, а их самодовольные физиономии только утвердили меня в моем выборе.
– Алан, – сказал я, – разве вы меня не помните?
Он привык к такого рода вопросам, только, наверное, не слишком часто слышал их от инвалидов, которых забывать обычно не принято. Ему должны были вспомниться все его пиаровские визиты в больницу к лежащим в коме девочкам или разговоры шепотом с аутичными мальчиками, которые в действительности понимают Шекспира гораздо лучше критиков, не так ли?
– Э-э-э… – затянул он, выжидая.
– Меня зовут Конрад, – сказал я. – Лили когда-то была моей девушкой.
Эффект от моих слов был настолько поразительным, что я бы повторил эту фразу еще раз, если б мог. Алан вскочил с кресла, как будто хотел убежать от меня, но затем, поборов, как мне показалось, свое первое побуждение, подошел к инвалидной коляске и положил свою огромную руку на мою.
– Простите меня, Конрад. Как я мог вас не узнать? – сказал он.
Дороти тут же присоединилась к нему, нагнувшись ко мне с другой стороны и коснувшись другой моей руки. Мне вовсе не хотелось находиться в таком положении слишком долго – даже после душа от них обоих остро пахло лошадиным потом и дорогими духами, призванными заглушить первый запах. Я откинулся назад в коляске, задрал вверх передние колесики и описал двойной пируэт на задних – из серии трюков, которые так нравятся пешеходам.
– Я не удивлен, что вы меня не узнали, – сказал я, приземлившись, – в прошлый раз у меня этой коляски не было.
Алан посмотрел на Дороти, приподняв бровь, что на их кодовом языке означало: Возможно, он не в себе.
Дороти встала на колени рядом со мной и обняла меня обеими руками – получилось не столько объятие, сколько черная дыра из духов и женской плоти, которую я ощущал сквозь ткань.
– Ах, Конрад, – проговорила она, мгновенно переходя к стандартной актерской сцене признания и участия. – Как вы себя чувствуете после этого ужасного, просто ужасного…
Она не разжала своих объятий. Я попытался заговорить, но мой голос потонул между ее грудями, которыми она буквально заткнула мне рот.
Я почувствовал, как тело Дороти чуть сдвинулось в сторону, – значит, она повернула голову. Пока я был ослеплен и обездвижен, она обменивалась с Аланом многозначительными взглядами – уж не знаю, что они могли выражать, кроме вины.
Больше всего в этот момент мне хотелось укусить Дороти за сосок (ведь он болтался прямо перед моим носом) и тем самым вынудить ее дать мне чуть меньше «любви» и чуть больше пространства. Но от такой радикальной идеи я все же отказался и вместо этого симулировал чудовищный приступ кашля.
Она сразу же поднялась с колен и отступила от меня на шаг.
– Простите, – сказал я, задыхаясь и кашляя, – это все аллергия.
– Боже мой, – сказала она и осмотрела себя так, как будто у меня была аллергия на саму ее плоть.
– Может, воды? – спросил Алан, который (пока я был занят) передвинулся к зеркалу и оказался довольно далеко от меня, что выглядело не слишком естественно, особенно после его предыдущих трогательных жестов.
Зеркало было увешано фотографиями, главным образом их сына, Лоренса. Маленьким мальчиком он позировал, широко улыбаясь, на пляже или в парке с каким-нибудь реквизитом в руках (ярким мячиком или теннисной ракеткой); на более поздних снимках он, весь в черном, ухмылялся в камеру, сидя за компьютером или валяясь на кровати.
– Сейчас все будет нормально, – заверил я.
Дороти хотела что-то сказать, но передумала и вернулась в свое кресло для интервью.
Я еще несколько раз кашлянул для верности – не без удовольствия разыгрывая свое любительское представление перед этими двумя монстрами сцены.
Алан присоединился к жене у зеркала.
Когда я снова взглянул на них затуманенными от кашля глазами, они сидели рядышком и терпеливо ждали, взявшись за руки, снова войдя в привычную роль героев воскресных газет. Несмотря на все их сопереживание, я, наверное, казался им новичком-журналистом, который слишком долго возится с батарейками к диктофону.
– Как вам понравился спектакль? – спросила Дороти.
– Ах, спектакль… – ответил я, наслаждаясь этим эпизодом гораздо больше, чем всем виденным на сцене, – он показался мне обычной ерундой, вполне в духе Королевской шекспировской труппы, разве нет? Японским туристам наверняка понравилось.
Дороти с ужасом посмотрела на меня. Алан стоически не менял выражения лица.
– Но главные герои, несомненно… – о, как я обожал эту драматическую паузу, – возвышались над остальными персонажами.
Они посмотрели друг на друга, не в силах устоять даже перед таким смехотворным набором превосходных степеней, который я мог им предложить.
Как в аду, подумал я.
– Спасибо, – поблагодарила меня Дороти таким тоном, как будто хотела сказать: Мне, конечно, уже не раз приходилось выслушивать комплименты, но я искренне рада любой искренней похвале.
– Надо было вам прийти в субботу, – сказал Алан.
Дороти взглянула на него, и ее глаза слегка затуманились при воспоминании о субботе.
Это уже было слишком: меня постепенно втягивали в очередную гротескную постановку Королевской шекспировской труппы под названием «За кулисами».
– Алан, когда меня подстрелили, я сидел за столиком, заказанным на ваше имя. Почему?
На лице Алана не дрогнул ни один мускул, однако левая рука у него дернулась, как при болезни Паркинсона.
– Может, выпьем чего-нибудь? – предложила Дороти.
– Пожалуйста, ответьте на мой вопрос, – попросил я. – Вы ведь понимаете, что мне важно это знать.
Алан по-прежнему молчал.
– Я проверил в «Ле Корбюзье», – продолжал я. – Вы заказали столик. Вы должны были сидеть там, где сидел я.
– Верно, – сказал Алан. – Может, выпьем?
Он опустил руку под стол, пошарил в стоявшей там картонной коробке и извлек из нее большую бутылку «Абсолюта» с голубой этикеткой.
– Я не понимаю, на что вы намекаете, – добавил он.
– Вы беседовали по этому поводу со следователями. Что вы им сказали?
Дороти встала.
– Мы уже рассказали им все, что знаем.
– Тогда расскажите и мне, – попросил я.
– Алану трудно об этом говорить, – перехватила инициативу Дороти. – Я простила его, хотя у него с Лили был короткий роман. Когда мне стало известно об этом, я запретила ему встречаться с ней. Алану пришлось отменить встречу в ресторане. Я, конечно, точно не знаю, но, по-моему, Лили позвонила вам в последний момент, чтобы вы составили ей компанию.
– Точно, – вставил Алан. – Все это мы и рассказали полиции.
Дороти встала рядом с ним, готовая вступиться за мужа, как только я дам ей повод.
– Можно поговорить с вами наедине? – спросил я Алана.
Дороти начала:
– Знаете что…
– У меня есть несколько личных вопросов, касающихся Лили.
– Дороти может остаться, – сказал Алан. – Ей и так все известно.
Я подождал.
– Пожалуйста, уйдите, – попросил я Дороти.
– Нет. – Это было первое искреннее слово, которое она изрекла за весь вечер.
– Ладно, – сказал я. – Как долго вы встречались с Лили?
Алан виновато покосился на жену.
– Месяца два.
– Два месяца? – уточнил я.
– Ближе к трем.
– Вы знали, что мы в тот момент жили вместе?
– Она говорила мне, что собирается расстаться с вами, и в конечном итоге так и произошло. Простите…
– У вас был с ней секс?
– Да.
– С самого начала?
– Да. – Он кивнул.
– Без презерватива?
– Почему он должен отвечать на такие вопросы? – взвизгнула Дороти.
– Потому что Лили была беременна, когда погибла, – спокойно сказал я.
– О Господи! – выдохнула Дороти.
– Боже мой! – воскликнул Алан.
Они опять играли роль? Мне было трудно определить это.
Я повернулся к Алану:
– Насколько я понимаю, это означает, что ребенок мог быть и ваш.
Алан посмотрел на Дороти с мольбой в глазах:
– Я правда ничего не знал. Но почему полицейские мне не сказали? – Затем он обратился ко мне: – Они делали анализ ДНК? Разве они не могут определить, чей это был ребенок?
– Зачем вы должны были встретиться с Лили в тот вечер?
– Это был просто… просто ужин, – ответил Алан.
– Кто предложил встретиться, вы или она?
– Не помню. По-моему, она.
– А когда вы решили не ходить? Когда Дороти заставила вас отменить встречу?
– Дороти и я поговорили начистоту дня за два до этого. В среду. Мы решили, что так будет лучше. Мы ведь счастливы в браке, поверьте. У нас замечательный сын.
Дороти сказала:
– Алан просто сделал глупость. И теперь он понимает это.
– Хорошо, как вы отменили встречу? Вы ей позвонили? Или отправились к ней домой и сказали обо всем лично? Или встретились где-то в городе? Насколько я понимаю, в этот момент вы окончательно с ней порывали, а не просто отменяли очередное свидание?
Алан попытался украдкой взглянуть на Дороти.
– Я позвонил ей из дома поздно вечером в четверг. Мы оба целый день были на репетиции. Я был занят в «Тите Андронике». Дороти была на репетиции… чего?
– «Трех сестер».
– Ах да. Не важно. В общем, я позвонил Лили довольно поздно, где-то в 11.15.
– Вы были рядом, когда он звонил?
Дороти молча кивнула мне, настолько плотно сжав губы, что кожа на ее лбу, казалось, готова была лопнуть.
– И вы сказали, что не можете больше с ней встречаться… что ваша жена обо всем узнала… что вам очень жаль?
– Думаю, она меня поняла. Я не вдавался в подробности, просто сказал, что все кончено, потому что…
– Она любила вас?
Теперь Алан сидел расставив ноги и схватившись руками за голову. Он говорил, обращаясь прямо к ковру, его душили слезы.
– Надеюсь, что нет, – произнес он.
– Когда я встретился с ней в пятницу, она вроде была в полном порядке, – сказал я, сразу вспомнив платье, надетое как для особого случая, новые духи, необычное спокойствие.
Когда, интересно, Лили увлеклась этим огромным рыдающим животным?
– Вы спали с ней во время гастролей с пьесой Стриндберга?
– Что ж, пожалуй, довольно, – вмешалась Дороти.
– Нет, – ответил Алан, – но мог бы. Между нами как бы проскакивала…
Меня не интересовали его почерпнутые на репетициях метафоры.
– Последний вопрос: Вы любили ее?
– Нет, не любил, – снова вмешалась Дороти. – Некоторое время он был как будто одержимым, – даже я это заметила, – но затем все быстро закончилось.
Алан весь подтянулся.
– Знаете, думаю, что, наверное, любил, – сказал он.
Дороти резко повернулась и со всей силы влепила ему пощечину. Он принял удар как должное.
– Какой мне смысл лгать? – проговорил он. – Лили уже нет.
– Зато я жива, – всхлипнула Дороти и наконец разрыдалась, – по крайней мере, пока.
– Как насчет той водки, что вы мне предлагали? – напомнил я.
Но они меня уже не слушали, медленно нащупывая путь к примирению через прикосновения и извинения.
Не утруждая себя прощанием, я открыл дверь и выехал из гримерной задним ходом.
39
Такси до дома.
Наверное, слова Алана содержали толику правды. Когда я сообщил ему о ребенке, он мог забыться и некоторое время отвечать честно. Но Дороти пристально следила за разговором, и было очевидно, что они оба что-то скрывают.
Теперь я знал наверняка, что Алан встречался с Лили, пока мы еще были вместе, и что у них был секс. Я попробовал вспомнить, замечал ли что-нибудь подозрительное в ее поведении. Маловероятно. На той стадии наших отношений я доверял ей, включив автопилот: Лили бы ничего такого не сделала, потому что Лили – это Лили, потому что я жил с ней и любил ее и потому что Лили жила со мной и любила меня. (Фактически, я уповал на то, что я ей доверя и что она, зная о моем доверии, не могла предать его.) Я предпочитал беззащитность, надеясь, что сама возможность причинить мне боль помешает ей изменить мне. Такая тактика срабатывает, когда твой партнер любит тебя и чувствует твою боль как свою собственную. Однако Лили в какой-то момент переступила эту черту – или пролезла под ней.
После смерти Лили удавалось причинить мне больше неприятностей, чем при жизни. (Отныне ничего уже не могло измениться – факты так и останутся фактами. Ее измены стали достоянием вечности.) Я не сомневался, что еще до своей гибели она пересекла ту границу, за которой не было места переживаниям по поводу моих возможных страданий.
Я полностью верил Алану только в одном: Лили сказала ему, что собирается от меня избавиться. В этой моей вере не было никакой логики, просто я испытывал такую боль, что сердцем чувствовал – это правда.
Мне приходилось признать, что Лили умерла, практически наверняка не испытывая ко мне никакой любви, и что, хотя у нее во чреве был ребенок, он мог быть зачат от другого мужчины, – от мужчины, которого она действительно любила и которого она предпочла мне.
Когда Лили позвонила мне и пригласила на ужин, мои бастионы гордого одиночества, которые я успел выстроить за полтора месяца разлуки, рухнули от одного удара ложной надежды – она хочет меня вернуть, хочет покаяться, хочет попросить прощения.
Даже тон, которым она разговаривала со мной по телефону и который вполне объективно отражал состояние наших отношений, не рассеял эту пустую надежду.
Как только Лили меня увидит, думал я, она заговорит искренне. Ей просто не хочется мириться со мной по телефону.
Теперь же вся тщетность моих надежд выступила как никогда отчетливо. Мне только что было предъявлено доказательство: я своими глазами видел того – другого мужчину.
Когда мне позвонила Энн-Мари и предложила приехать, я сказал, что неважно себя чувствую. Мы решили, что будет лучше, если она приедет на следующий день.
Это была самая ужасная ночь с тех пор, как я вышел из комы. На меня навалилось все то, чего я так страшился, и казалось, что мне не на что больше надеяться. Я чувствовал, что меня безжалостно унизили, хотя вокруг не было никаких свидетелей моего унижения. Да и откуда им было взяться? Ведь наиболее значимые события происходили в моей частной версии прошлого. И мы с Лили были единственными обитателями этого воображаемого мира.
Когда я уснул, мне приснилась наша прежняя квартира. Передо мной мелькали сцены из нашего реального прошлого – но пародийные, лишенные всякой достоверности. Снились мне и те эпизоды, в которых я на самом деле участвовать не мог, однако во сне ретроспекция была связной: Лили целует Алана, а затем возвращается домой и целует меня; Лили покупает две бутылки любимой водки Алана, готовясь к его очередному посещению.
Проснувшись, я обнаружил, что бодрствование причиняет мне не меньше страданий, чем вымышленное прошлое сновидений. Я все не мог отделаться от мысли, что к моменту своей смерти Лили меня уже не любила.
Мне казалось, что меня заворачивают в простыню, пропитанную холодным потом.
Может, я заслуживал того, чтобы все это со мной произошло, потому что смеялся над Лили, когда она умирала?
Теперь, в моих фантазиях, она и Алан постоянно смеялись надо мной. В момент ее смерти я оказался виновен в чем-то таком, что во тьме моей спальни казалось сравнимым по тяжести с нажатием на курок того пистолета. Но я узнал о вине самой Лили по отношению ко мне, и поэтому я был почти рад, что тогда не удержался от смеха. Если бы я мог вернуться в прошлое, я бы наверняка снова предпочел смех.
Затем я ощутил, как меня захлестывает новая волна вины: ведь я мог желать подобных вещей, пусть даже гипотетически, из инстинктивного чувства мести. Я был просто подонком, если желал Лили еще большего наказания, ведь она была уже мертва, она уже понесла наказание – смертную казнь.
Был только один способ избавиться от этих ночных страданий, и состоял он в том, чтобы простить в равной степени Лили и самого себя. Но это было невозможно: я по-прежнему любил ее и ненавидел себя.








