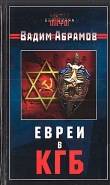Текст книги "Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным"
Автор книги: Тимоти Снайдер
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 39 страниц)
Идеологии искушают и тех, кто их отвергает. Идеология, лишенная своих политических или экономических связей по прошествии времени или из-за отсутствия горячей поддержки, становится морализаторствующей формой объяснения массового уничтожения, которая комфортно отделяет объясняющих от убийц. Удобно считать преступником того, кто является носителем неправильной идеи и именно поэтому отличается от других. Весьма утешительно было бы игнорировать важность экономики и осложнения политики – факторы, которые могли на самом деле быть общими для исторических преступников и для тех, кто позже наблюдал со стороны за их действиями. Значительно привлекательнее, по крайней мере, сегодня на Западе, идентифицировать себя с жертвами, чем понять исторический контекст, в котором они находились вместе с преступниками и сторонними наблюдателями на «кровавых землях». Идентифицирование себя с жертвами подтверждает радикальное размежевание с преступниками. Охранник в Треблинке, запускавший мотор, или офицер НКВД, нажимавший на курок, – это не я, это он убивал таких, как я. Однако не ясно, умножает ли познания эта идентификация себя с жертвами и является ли этот вид отстранения себя от убийц этической установкой. Отнюдь не очевидно, что редуцирование истории до театральных пьес «моралите» делает хоть кого-нибудь более моральным.
К сожалению, принятие статуса жертвы само по себе не обеспечивает верного этического выбора. И Сталин, и Гитлер в течение своей политической карьеры утверждали, что являются жертвами. Они убедили миллионы других людей, что те тоже жертвы – жертвы международного капитализма или еврейского заговора. Во время вторжения Германии в Польшу немецкий солдат считал, что гримаса смерти на лице поляка подтверждает иррациональную ненависть поляков к немцам. Во время голода украинский коммунист находил на своем крыльце трупы умерших от голода. И тот, и другой считали себя жертвами. Ни большая войнa, ни акт массового уничтожения в ХХ веке не начинались без того, чтобы агрессор или преступник сначала не объявил бы себя невинной жертвой. В ХХI веке мы видим вторую волну агрессивных войн с объявлением себя жертвой, в которых лидеры не только выставляют свои народы жертвами, но и открыто ссылаются на массовые уничтожения ХХ столетия. Человеческая способность к субъективной виктимизации, по-видимому, безгранична, и люди, верящие в то, что они являются жертвами, могут совершать акты крайней жестокости. Австрийский полицейский, расстреливавший младенцев в Могилеве, рисовал в своем воображении картины того, что сделали бы с его детьми советские солдаты.
Жертвами были люди; чтобы действительно идентифицировать себя с ними, нужно осмыслить их жизнь, а не их смерть. Жертвы по определению мертвы и не могут защитить себя от того, что другие используют их смерть в своих целях. Легко освящать политику или идентичность смертями жертв. Менее привлекательно (но, с моральной точки зрения, крайне необходимо) понять действия преступников. Моральная опасность, в конце концов, состоит не в том, что кто-то мог стать жертвой, а в том, что этот кто-то мог быть преступником или сторонним наблюдателем. Так и тянет сказать, что нацистский убийца находится за чертой понимания. Выдающиеся политики и интеллектуалы (например, Эдвард Бенеш и Илья Эренбург) поддались этому искушению во время войны. Чехословацкий президент и советско-еврейский писатель оправдывали отмщение немцам как таковое. Люди, называвшие других недочеловеками, сами были недочеловеками. Однако отказывать человеческому существу в праве на человеческую сущность означает считать этику невозможной[775]775
О международной позиции сторонних наблюдателей см.: Power S. «A Problem from Hell»: America and the Age of Genocide. – New York: Basic Books, 2002.
[Закрыть].
Поддаться этому искушению, считать других нелюдями – значит, сделать шаг по направлению к нацистской позиции, а не прочь от нее. Считать, что других людей невозможно понять, – значит, отказаться от поиска понимания, а следовательно, отказаться от истории.
Отмахнуться от нацистского или советского режимов как от находящихся за пределами человеческого или исторического понимания, – значит попасться в их моральную ловушку. Более безопасный путь – понять, что их мотивы массового уничтожения, какими бы омерзительными они ни были, имели для них смысл. Генрих Гиммлер говорил, что хорошо было видеть сотню, пять сотен или тысячу трупов, лежащих рядышком. Он имел в виду, что убить другого человека – это пожертвовать чистотой своей души и что такая жертва ставит убийцу на более высокий моральный уровень. Это выражение преданности особого сорта. Это был пример (хотя и экстремальный) одной из нацистских ценностей, которая не совсем чужда нам: жертва одного человека во имя людей. Герман Геринг говорил, что его совесть зовут Адольф Гитлер. Для немцев, принявших Гитлера в качестве своего Лидера, вера была очень важна. Вряд ли можно было выбрать худший объект для веры, но их способность верить нельзя отрицать. Ганди подметил, что зло зависит от добра в том смысле, что те, кто собрался вместе для совершения злодеяний, должны быть преданы друг другу и верить в свое дело. Преданность и вера не делали немцев хорошими, но они делают их людьми. Как и всем остальным, им было доступно этическое мышление, даже если их собственное мышление было чудовищно ложным[776]776
Fest J.C. Das Gesicht des Dritten Reiches. – Munich: Piper, 2006. – Pр. 108, 162.
[Закрыть].
Сталинизм тоже был моральной и политической системой, в которой невиновность и виновность были как психологической, так и юридической категориями, а моральное мышление было широко распространено. Молодой активист украинской Компартии, отбиравший продовольствие у голодающих, был убежден, что помогает приблизить триумф социализма: «Я верил, потому что хотел верить». Он был восприимчив к морали, хоть и ошибочной. Маргарите Бубер-Нюман, которая была в ГУЛАГе, в Караганде, одна из узниц сказала: «Нельзя сделать яичницу, не разбив яиц». Многие сталинисты и их сторонники объясняли, что человеческие жертвы во время голода и Большого террора необходимы для построения справедливого и защищенного Советского государства. Казалось, чем большим был размах смерти, тем привлекательнее становилась такая надежда.
Однако романтическое оправдание массового уничтожения (состоящее в том, что настоящее зло, если его правильно объяснить, – это будущее добро) является попросту неправильным. Возможно, гораздо лучше было бы вообще ничего не делать. А может быть, с помощью более мягкой политики можно было бы достичь желаемых результатов. Вера в то, что должна быть связь между огромными страданиями и огромным прогрессом, – это своего рода алхимический мазохизм, когда наличие боли – признак некоего имманентного или только зарождающегося добра. Развивать далее это рассуждение – алхимический садизм: если я причинил боль, то сделал я это потому, что имел известную мне высшую цель. Поскольку Сталин представлял Политбюро, представлявшее Центральный комитет, который представлял партию, представлявшую рабочий класс, который представлял историю, у него было особое право говорить от имени исторической необходимости. Такой статус позволял ему избавить себя от всяческой ответственности и перекладывать вину за собственный провал на других[777]777
Как заметил Гарольд Джеймс, теории жестокой модернизации вообще приносят плохие результаты в экономическом смысле (см.: James H. Europe Reborn: A History, 1914–2000. – Harlow: Pearson, 2003. – P. 26). Цит.: Buber-Neumann M. Under Two Dictators: Prisoner of Hitler and Stalin. – London: Pimlico, 2008 [1949]. – P. 35.
[Закрыть].
Невозможно отрицать, что массовый голодомор приносит политическую стабильность особого сорта. Вопрос должен стоять так: желателен ли этот тип мира, должен ли он быть желательным? Массовое уничтожение действительно объединяет преступников с теми, кто дает им приказы. Является ли это правильным типом политической лояльности? Террор консолидирует определенный тип режима. Предпочтителен ли такой тип режима? Уничтожение гражданского населения находится в интересах определенного типа лидеров. Вопрос не в том, является ли все это исторической правдой; вопрос в том, что является желательным. Хороши ли эти лидеры и эти режимы? Если нет, тогда вопрос звучит так: как можно подобную политику предотвратить?
В нашей современной культуре поминовения считается само собой разумеющимся, что память предотвращает смерть. Если люди погибали в таких огромных количествах, то очень хочется думать, что они, по крайней мере, погибли за что-то трансцендентно важное, что можно открыть, развить и сберечь при правильном типе политической памяти, – тогда трансцендентное станет национальным. Миллионы жертв должны были погибнуть, чтобы Советский Союз мог победить в Великой Отечественной войне или Америка – в войне, которую считала справедливой. Европа должна была усвоить свой пацифистский урок, у Польши должна была быть своя легенда о свободе, у Украины должны были быть свои герои, Беларусь должна была доказать свою доблесть, евреи должны были выполнить свое сионистское предназначение. Однако у всех этих позднейших рационализаций (хотя они и передают важные истины о национальной политике и национальной психологии) мало общего с памятью как таковой. О мертвых помнят, но мертвые не помнят. У кого-то другого была власть, и этот кто-то решил, как им умирать. Позже еще кто-то решит, почему они умерли. Если значимость извлекается из гибели, то есть риск, что чем больше будет погибших, тем большей будет значимость.
Здесь, где-то между записью о смерти и ее постоянной реинтерпретацией, пожалуй, и находится цель истории. Только история массового уничтожения может соединить цифры и воспоминания. Без истории воспоминания становятся частными (сегодня это означает национальными), а цифры – публичными, то есть инструментом в международном соревновании за мученичество. Память – моя, и у меня есть право делать с ней все, что пожелаю; цифры – объективны, и вы должны принять мои подсчеты независимо от того, нравятся они вам или нет. Такое рассуждение позволяет националисту гладить себя одной рукой, а другой – бить соседа. После окончания Второй мировой войны, а затем и после кончины коммунизма националисты на всех «кровавых землях» (а также за их пределами) предались количественному преувеличению мученичества, таким образом отстаивая свою презумпцию невиновности.
В XXI веке руководство России ассоциирует свою страну с более или менее официальными цифрами советских потерь во Второй мировой войне: десять миллионов военных жертв и от четырнадцати до семнадцати миллионов жертв среди гражданского населения. Эти цифры являются в высшей мере спорными. В отличие от большинства цифр, представленных в этой книге, они базируются не на подсчете, а на демографических проекциях. Впрочем, независимо от того, верны они или нет, они составляют советские потери, а не российские. Какими бы ни были реальные советские цифры потерь, российские должны быть намного меньше. Высокие советские показатели включают Украину, Беларусь и страны Балтии. Особенно важны земли, которые Советский Союз оккупировал в 1939 году: Восточная Польша, Балтийские государства и северо-восточная Румыния. Там люди гибли в устрашающих количествах, и многие из них погибли не от немецких, а от советских захватчиков. Самые важные из всех высоких показателей потерь составляют евреи: не евреи России, которых погибло только около шестидесяти тысяч, а евреи Советской Украины и Беларуси (почти миллион человек) и те, чью родину оккупировал Советский Союз до того, как их уничтожили немцы (еще 1,6 миллиона человек).
Немцы намеренно уничтожили около 3,2 миллиона человек гражданского населения и военнопленных из Советской России: это меньше в абсолютных цифрах, чем в Советской Украине или в Польше, которые являются намного меньшими по размеру странами, в каждой из которых население составляет приблизительно пятую часть от населения России. Более высокие показатели потерь среди гражданского населения России, которые иногда указываются, позволили бы (если бы были верными) интерпретировать их двумя вероятными способами. Первый состоит в том, что советских солдат погибло больше, чем значится в советской статистике, и люди, указанные как гражданское население, были на самом деле солдатами. Или же эти люди (представленные как военные потери) не были убиты непосредственно немцами, но умерли от голода, депривации и советских репрессий во время войны. Вторая версия не исключает возможности, что во время войны на землях, контролируемых Сталиным, преждевременно умерло больше россиян, чем на землях, контролируемых Гитлером. Это очень даже может быть правдой, хотя вина за многие эти смерти – совместная[778]778
Самым значительным немецким преступлением в Советской России был намеренно устроенный голод в Ленинграде, в результате которого погибло около миллиона человек. Немцы уничтожили сравнительно небольшое количество евреев в Советской России, примерно 60 тысяч человек. Они также уничтожили в дулагах и шталагах по крайней мере миллион военнопленных из Советской России. В советской и российской статистике этих людей обычно засчитывали как военные потери; поскольку я считаю их жертвами намеренно убийственной политики, я увеличиваю цифру 1,8 миллиона, поданную в книге Филимошина (см.: Филимошин М.В. Об итогах исчисления потерь среди мирного населения на оккупированной территории СССР и РСФСР в годы Великой Отечественной войны // Людские потери СССР в период Второй мировой войны / Под ред. Евдокимова Р.Б. – С.-Петербург: РАН, 1995. – С. 124). Я полагаю, что российский подсчет жертв Ленинграда слишком занижен, примерно на 400 тысяч человек, поэтому я прибавил их. Если Борис Соколов прав и советские военные потери были значительно выше традиционно указываемых цифр, тогда большинство этих людей были солдатами. Если правы Эллман и Максудов и советские военные потери были в действительности ниже, тогда большинство этих людей были гражданскими и часто гражданскими не при немецкой оккупации (см.: Sokolov B. How to Calculate Human Losses During the Second World War // Journal of Slavic Military Studies. – 2009. – № 22 (3). – Pp. 451–457; Ellman M., Maksudov S. Soviet Deaths in the Great Patriotic War: A Note // Europe-Asia Studies. – 1994. – № 46 (4). – Pр. 674–680.
[Закрыть].
Взять, к примеру, ГУЛАГ. Большинство советских концлагерей были расположены в Советской России, на значительном удалении он зоны немецкой оккупации. Когда Германия вторглась в Советский Союз в июне 1941 года, в ГУЛАГе находились около четырех миллионов советских граждан. Советские власти во время войны приговорили к лагерям более двух с половиной миллионов своих соотечественников. НКВД работал повсюду, куда не дошли немцы, в том числе и в осажденном и голодном Ленинграде. С 1941-го по 1943 год было зарегистрировано около 516 841 смертей среди узников ГУЛАГа, и эта цифра могла быть выше. Этих сотен тысяч дополнительных смертей, наверное, не было бы, если бы немцы не вторглись в Советский Союз, но погибшие люди не были бы так уязвимы, если бы не находились на тот момент в ГУЛАГе. Людей, погибших в советских концлагерях, нельзя просто считать жертвами Германии, даже если война Гитлера и ускорила их гибель[779]779
О смерти 516 841 узника см.: Земсков В.Н. Смертность заключенных в 1941–1945 гг. // Людские потери СССР в период Второй мировой войны / Под ред. Евдокимова Р.Б. – С.-Петербург: РАН, 1995. – С. 176. О четырех миллионах советских граждан в ГУЛАГе (включая спецпоселения) см.: Khlevniuk O. The History of the Gulag. – Р. 307.
[Закрыть].
Другие люди, такие, как население Советской Украины, страдали под Сталиным и Гитлером больше, чем жители Советской России. В довоенном Советском Союзе у россиян было значительно меньше шансов пострадать от сталинского Большого террора (хотя многих из них он и затронул), чем у представителей небольших национальных меньшинств, и значительно меньше шансов, что им будет угрожать голод (хотя многим он угрожал), чем у украинцев или казахов. В Советской Украине все население было под немецкой оккупацией большую часть войны и смертность была значительно выше, чем в России. Земли сегодняшней Украины находились в центре как сталинской, так и нацистской убийственной политики во время эры массового уничтожения. Около трех с половиной миллионов человек стали жертвами сталинской убийственной политики с 1933-го по 1938 год, а затем еще три с половиной миллиона человек – жертвами немецкой убийственной политики в 1941–1944 годах. Еще примерно три миллиона жителей Украины погибли в сражениях или в результате непрямых последствий войны.
При всем этом независимое украинское государство иногда демонстрирует политику преувеличения. В Украине, которая была одним из основных мест и сталинского Голодомора 1932–1933 годов, и Холокоста 1941–1944 годов, число украинцев, погибших во время Голодомора, преувеличивалось с тем, чтобы превысить количество евреев, уничтоженных во время Холокоста. С 2005 по 2009 год украинские историки, связанные с госучреждениями, повторяли цифру десять миллионов погибших от Голодомора без какой-либо попытки ее аргументировать. В начале 2010 года официальный дискретный подсчет смертей от Голодомора показал 3,94 миллиона человек. Эта похвальная (и необычная) корректировка в сторону уменьшения привела официальную позицию ближе к правде. (В расколотой стране новый президент отрицал специфичность украинского Голодомора)[780]780
Брандон и Лоуэр насчитали 5,5–7 миллионов жертв Украины в войне (Brandon R., Lower W. Introduction // The Shoah in Ukraine: History, Testimony, Memorialization / Ed. by Brandon R., Lower W. – Bloomington: Indiana University Press, 2008. – P. 11).
[Закрыть].
Беларусь была центром советско-нацистской конфронтации, и ни одна другая страна столько не претерпела за время немецкой оккупации. Ее военные потери были выше, чем в Украине. Беларусь пострадала от социального обезглавливания даже больше, чем Польша: сначала НКВД уничтожил в 1937–1938 годах интеллигенцию как шпионов, затем советские партизаны в 1942–1943 годах уничтожили школьных учителей как немецких коллаборантов. Столица, город Минск, обезлюдела из-за немецких бомбежек, бегства беженцев и голодающих, а также из-за Холокоста; затем, после войны, город был отстроен как в высшей степени советский метрополис. Однако даже Беларусь следует общей тенденции. 20% довоенного населения беларусских территорий было уничтожено во время Второй мировой войны, но молодежь учат (и, кажется, она этому верит), что погиб не каждый пятый, а каждый третий. Правительство, принимающее советское наследие, отрицает смертоносность сталинизма, возлагая всю вину на немцев или же вообще на Запад[781]781
Вступление к культуре см.: Goujon A. Memorial Narratives of WWII Partisans and Genocide in Belarus // East European Politics and Societies. – 2010. – № 24 (1). – Pр. 6–25.
[Закрыть].
Пример Германии показывает, что преувеличивание – это не только постсоветский или посткоммунистический феномен. Вообще-то, немецкий подсчет жертв Холокоста является исключительным и образцовым. Проблема состоит не в этом. Поминовение Германией массового уничтожения евреев немцами – единичный пример однозначной политической, интеллектуальной и педагогической ответственности за массовое уничтожение и главный источник надежды на то, что этому же примеру последуют и другие страны. Немецкие журналисты и некоторые историки, однако, преувеличили количество немцев, погибших во время войны и послевоенной эвакуации, бегства или депортации после окончания Второй мировой войны: все еще без каких-либо аргументов приводят цифру миллион или даже два миллиона погибших.
Еще в 1974 году в рапорте архивов ФРГ указывалось, что число погибших немцев, бежавших или депортированных из Польши, составляло примерно четыреста тысяч человек; эту цифру замалчивали, так как она была слишком низкой, чтобы служить политической цели документирования жертвенности. В этом рапорте также указывалось примерное количество погибших немцев из Чехословакии – двести тысяч человек. Согласно совместному рапорту чешских и немецких историков, эта вторая цифра преувеличена примерно в десять раз. Таким образом, цифру четыреста тысяч немцев, погибших при выезде из Польши (она указана в Разделе 10), можно, пожалуй, считать максимальной, а не минимальной.
Судьба немцев, которые бежали или были эвакуированы во время войны, была схожа с судьбой огромного количества советских и польских граждан, которые бежали или были эвакуированы во время немецкого наступления и немецкого же отступления. Опыт немцев, депортированных в конце войны, сопоставим с опытом огромного количества советских и польских граждан, которых депортировали во время войны и после нее. Опыт бежавших, эвакуированных и депортированных немцев, однако, нельзя сравнить с опытом десяти миллионов польских, советских, литовских и латвийских граждан (как евреев, так и неевреев), подвергшихся намеренной немецкой политике массового уничтожения. Этнические чистки и массовое уничтожение, хотя и связанные между собой различными способами, – это не то же самое. Несмотря на все ужасы, которые довелось пережить бежавшим или депортированным немцам, это не были ужасы убийственной политики в смысле планированного голодомора, террора и Холокоста[782]782
Цифры, представленные здесь и в других местах «Заключения», обсуждались в предыдущих разделах книги.
[Закрыть].
За пределами Польши мера польского страдания недооценена. Даже польские историки редко вспоминают советских поляков, которых морили голодом в Советском Казахстане и Советской Украине в начале 1930-х годов, или советских поляков, расстрелянных во время сталинского Большого террора в конце 1930-х годов. Никто не пишет, что советские поляки страдали больше, чем представители любого другого европейского национального меньшинства в 1930-х годах. Редко вспоминают тот поразительный факт, что советский НКВД произвел больше арестов в оккупированной Восточной Польше в 1940 году, чем на остальной территории СССР. Во время бомбардировок Варшавы в 1939 году погибло примерно столько же поляков, сколько немцев во время бомбардировок Дрездена в 1945 году. Для поляков те бомбардировки были лишь началом одной из самых кровавых оккупаций войны, во время которой немцы уничтожили миллионы польских граждан. Только за время Варшавского восстания погибло больше поляков, чем японцев во время атомных взрывов в Хиросиме и Нагасаки. У поляка-нееврея в Варшаве, который был жив в 1933 году, были приблизительно такие же шансы дожить до 1945 года, как и у еврея в Германии, который был жив на момент 1933 года. Поляков-неевреев было уничтожено во время войны почти столько же, сколько было отравлено газом европейских евреев в Аушвице. Фактически, больше поляков-неевреев погибло в Аушвице, чем евреев в любой из европейских стран, за исключением двух (Венгрии и самой Польши).
Польский литературный критик Мария Янион сказала о вступлении Польши в Европейский Союз: «...в Европу, да, но вместе с нашими мертвыми». Важно знать как можно больше об этих мертвых, в том числе и о том, сколько их было. Невзирая на свои огромные потери, Польша тоже являет собой пример политики непомерно высокой жертвенности. Поляков учат, что шесть миллионов поляков и евреев были уничтожены во время войны. Эту цифру, кажется, вывел в декабре 1946 года ведущий сталинист Якуб Берман для внутриполитических целей создания видимого баланса погибших поляков и евреев. Примерное число, которое он «исправил», 4,8 миллиона человек, видимо, ближе к истине. Это все равно колоссальная цифра. Польша потеряла, наверное, около миллиона человек нееврейского гражданского населения из-за немцев и около ста тысяч человек – из-за советского режима. Возможно, еще миллион поляков погибли в результате жестокого обращения и как военные жертвы. Эти цифры чрезвычайно высоки. Судьба поляков-неевреев была невообразимо трудной в сравнении с судьбой людей, находившихся под немецкой оккупацией в Западной Европе. Даже при этом у еврея в Польше было в пятнадцать раз больше шансов быть намеренно убитым во время войны, чем у поляка-нееврея[783]783
Janion M. Do Europy: tak, ale razem z naszymy umarłymi. – Warszawa: Sic!, 2000. О Бермане см.: Gniazdowski M. «Ustalić liczbę zabitych na 6 milionów ludzi»: dyrektywy Jakuba Bermana dla Biura Odszkodzowań Wojennych przy Prezydium Rady Minisrów // Polski Przegląd Diplomatyczny. – 2008. – № 1 (41). – Pp. 99–113.
[Закрыть].
Четырнадцать миллионов человек были намеренно уничтожены двумя режимами за двенадцать лет. Мы едва начали понимать этот факт, не говоря уже о том, чтобы полностью изучить его. Повторяя преувеличенные цифры, европейцы запускают в свои культуры миллионы призраков людей, которых никогда не существовало. К сожалению, подобные фантомы обладают властью. То, что начинается как соревновательная мартирология, может закончиться мартирологическим империализмом. Войны в Югославии в 1990-х начались частично потому, что сербы верили, будто их во Второй мировой войне погибло значительно больше, чем на самом деле. Когда историю удаляют, цифры ползут вверх, а воспоминания уходят вовнутрь, подвергая всех нас опасности.
Могут ли мертвые кому-то принадлежать? Из более чем четырех миллионов польских граждан, уничтоженных немцами, приблизительно три миллиона были евреями. Все эти три миллиона евреев засчитаны как польские граждане, которыми они и являлись. У многих из них была сильная идентификация с Польшей; некоторые люди, погибшие как евреи, даже не считали себя таковыми. Более миллиона этих евреев были также засчитаны как советские граждане, потому что они жили на той половине Польши, которую СССР аннексировал в начале войны. Большинство из этого миллиона жили на землях, которые теперь принадлежат независимой Украине.
Чьей истории принадлежит еврейская девочка, нацарапавшая на стене ковельской синагоги прощальную записку для своей мамы, – польской, советской, израильской или украинской? Она писала по-польски; другие же евреи в той синагоге в тот день писали на идиш. А как быть с еврейской мамой Дины Проничевой, призывавшей свою дочь на русском языке бежать из Бабьего Яра, который находится в Киеве, столице теперешней независимой Украины? Большинство евреев Ковеля и Киева (как и большей части Восточной Европы) не были ни сионистами, ни поляками, ни украинцами, ни коммунистами. Можно ли говорить, что они погибли за Израиль, Польшу, Украину или Советский Союз? Они были евреями, они были польскими или советскими гражданами, их соседи были украинцами, поляками или русскими. Они до определенной меры принадлежали истории четырех стран, поскольку истории этих четырех стран действительно отличаются друг от друга.
Жертвы оставляли после себя скорбящих по ним людей. Убийцы после себя оставляли цифры. Попасть после смерти в большое число – значит раствориться в потоке анонимности. Быть посмертно вписанным в соревнующиеся национальные воспоминания, подкрепленные цифрами, частью которых стала твоя жизнь, – это значит принести в жертву индивидуальность. Это значит быть покинутым историей, которая начинается с предположения о том, что каждый человек незаменим. При всей своей сложности, история – это то, что есть у нас всех, чем мы все можем поделиться. Поэтому даже когда у нас есть правильные цифры, мы должны проявлять осторожность. Одной лишь правильной цифры еще не достаточно.
Каждая запись о гибели предполагает (хотя и не может возместить) уникальную жизнь. Мы должны уметь не только подсчитывать количество погибших в цифрах, но и подсчитать каждую жертву как личность. Одна из очень больших цифр, поддающихся тщательному исследованию, – это Холокост, в ходе которого погибли 5,7 миллиона евреев, из которых 5,4 миллиона были уничтожены немцами. Однако эту цифру, как и все остальные, надо рассматривать не как 5,7 миллиона (потому что это абстракция, которую только немногие из нас могут постичь), а 5,7 миллиона, помноженные на один. Это не какой-то усредненный образ еврея, передающийся через какую-то абстрактную идею смерти 5,7 миллиона раз. Это бесчисленные индивидуумы, которых, тем не менее, нужно посчитать в расцвете их жизни: Добцю Каган, девочку в ковельской синагоге и всех других, находившихся рядом с ней, и всех индивидуальных человеческих существ, которые были уничтожены как евреи в Ковеле, Украине, на Востоке и в Европе.
Культуры памяти оперируют округленными цифрами, округленными до десятков, но помнить мертвых легче, когда цифры не округлены, когда последнее число – не ноль. Таким образом, говоря о Холокосте, возможно, легче думать о 780 863 разных людях в Треблинке, где конечная цифра «три» могла быть Тамарой и Иттой Вилленберг, чьи одежды прильнули друг к другу после того, как их отравили газом, а также Руфью Дорфман, которая плакала вместе с мужчиной, подстригавшем ее волосы, прежде чем она вошла в газовую камеру. Или, может быть, легче представить одного человека в конце цифры 33 761 еврея, расстрелянного в Бабьем Яру, скажем, маму Дины Проничевой, хотя в действительности каждый отдельный еврей, расстрелянный там, мог им быть, должен быть этой единицей, является тем самым одним человеком.
В истории массового уничтожения на «кровавых землях» воспоминания должны включать миллион (помноженный на одного) ленинградцев, заморенных голодом во время осады города, 3,1 миллиона (помноженных на одного) отдельных советских военнопленных, уничтоженных немцами в 1941–1944 годах, или 3,3 миллиона (помноженных на одного) украинских крестьян, которых советский режим заморил голодом в 1932–1933 годах. Эти цифры никогда с точностью не будут установлены, но они тоже вмещают в себя индивидуумов: это крестьянские семьи, делавшие страшный выбор, заключенные, согревающие друг друга в землянках, дети, такие как Таня Савичева, на чьих глазах гибли их семьи в Ленинграде.
У каждого из 681 692 человек, расстрелянных во время Большого террора в 1937–1938 годах, была своя отдельная жизненная история: цифра «два» в конце могла быть Марией Юревич или Станиславом Выгановским – мужем и женой, воссоединившимися «под землей». Каждый из 21 892 польских военнопленных, расстрелянных НКВД в 1940 году, находился в расцвете жизни. «Два» в конце может означать Добеслава Якубовича – отца, мечтавшего увидеть дочь, и Адама Сольского – мужа, написавшего о своем обручальном кольце в день, когда пуля прошла сквозь его голову.
Нацистский и советский режимы превращали людей в цифры, причем некоторые из них мы можем подсчитать только приблизительно, а некоторые реконструировать с достаточной точностью. Мы, ученые, должны искать эти цифры и объяснять их в более широком контексте. Мы, гуманисты, должны снова превратить цифры в людей. Если мы не можем этого сделать, тогда Гитлер и Сталин сформировали не только наш мир, но и нашу человечность.