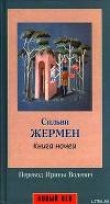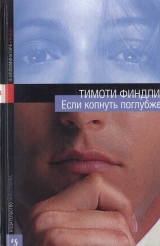
Текст книги "Если копнуть поглубже"
Автор книги: Тимоти Финдли
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
Можно сказать: Я просто струсила. Не захотелось идти именно сегодня. Мерси поймет – ей приходилось принимать от мужчин всякое, от обожания до жестокости. Чем ее может удивить Джейн со своими убогими аристократическими переживаниями? А кроме того, после обеда Джейн все равно собиралась на работу – надо закончить или попытаться закончить свое окно. Ни к чему отвлекаться на Фабиана. Не сейчас. Может быть, через месяц.
Задумавшись, Джейн проскочила нужный поворот и проехала лишний квартал.
Где, черт возьми, она оказалась?
Сент-Патрик-стрит.
Джейн небрежно крутила руль и чуть не сбила пожилую женщину.
Господи, не отвлекайся.
Единственный путь обратно – по Эри-стрит и дальше за угол на юг на Камбриа-стрит. На полпути туда она затормозила.
Это произошло автоматически.
Перед ней рядом с тротуаром стоял фургон телефонной компании «Белл» с мигающими парковочными огнями.
Боже!
Неужели он?
Сердце начало колотиться.
Джейн остановилась за фургоном, но мотор не выключила.
Я хочу одного – увидеть его.
Всего один взгляд – убедиться, что он живой и я не сумасшедшая. Что он реален.
Она ждала и смотрела.
Стекло машины оставалось опущенным. Джейн услышала звук открывавшейся боковой двери дома, в который приехали ремонтники.
– Пожалуйста, – прошептала она. – Ну, пожалуйста.
Из дома вышел мужчина.
Лет, наверное, около шестидесяти. На нем был такой же монтерский пояс, как на ее «ангеле», но более опрятная одежда и вдобавок фуражка.
Джейн закрыла глаза.
И поделом. Не будь идиоткой!
«Что ж… если я все-таки пойду к доктору Фабиану, то, по крайней мере, не надо будет лгать Мерси», – подумала она.
И через пять минут (состарившись лет на десять, как ей показалось) она завернула за угол и снова припарковалась напротив дома врача.
Дом был большой – настоящее викторианское чудо из красного кирпича: с портиками с каждой стороны и филигранной работы фронтонами. Шесть труб, три тенистых сада, кованые решетки и спящая собака. Спаниель Дэниел лежал на передней лужайке под сенью сикоморового дерева.
Джейн вылезла из машины и направилась к парадному подъезду. На широкой медной табличке красовались знакомые слова: «Доктор Конрад Фабиан – вход в кабинет со двора». Она всегда игнорировала эту надпись. Задняя дверь не для меня. В конце концов, существует же такое понятие, как гордость. Джейн отвернулась и смотрела в окно. Не хотела видеть глаза доктора Фабиана – их выражение, – его реакцию на свой рассказ.
Достаточно и того, что ей придется выслушать его заключение.
– Я должна вам кое-что сказать, – начала она.
В этом было нечто от исповеди. Чуть раздвинутая занавеска, позади решетки лишь часть лица. И ложь. Оба: и священник, и кающийся понимали, что сейчас прозвучит ложь. Но вместе с ней и неизбежная правда – тяжесть, от которой можно избавиться, только признавшись, как велико это бремя.
Кое-что рассказать…
– Вам удобно?
– Нет.
Джейн горько рассмеялась:
– Разве мне у вас бывает когда-нибудь удобно? С вами? Я уже думаю, как бы поскорее сбежать: сколько шагов до двери, как обойтись без прощания и проскочить мимо вашей «мисс государственной дознавательницы» за конторкой, чтобы она не поняла, что произошло нечто нехорошее. Ведь так было всегда… и всегда так будет. Я плохая, плохая. А вы хороший.
– Ничего действительно дурного в вас нет. Скажем, вы, Джейн, не способны на умышленное убийство. В этом я абсолютно уверен. А помимо убийства, что бы вы мне ни рассказали, это меня не удивит, – врач помолчал. – Ничего… Если только вы не нанесли кому-то физического ущерба.
– Нет.
– Вот и славно, – улыбнулся он. – Помните мужчину, который влюбился в свою ручную мышь?
– Да. У них была единственная проблема: они не могли заниматься сексом.
– Но они занимались.
– Будет вам! – Джейн отмахнулась и рассмеялась.
– И тем не менее это так. Правда, особым способом. Знаете, где мышь свила себе гнездо?
– А мне надо об этом знать?
– Ради вашего душевного здоровья.
– Тогда рассказывайте.
– В его лобковых волосах.
– Вы меня разыгрываете!
– Нет. И спала там каждую ночь всю свою жизнь.
Первой непроизвольной реакцией было: «как мило». Но вместо этого Джейн спросила:
– И сколько она прожила?
– Пять лет. Обычный срок для белой мыши. – Врач поднял глаза: – Я вижу, вас это разочаровало. Вы считаете, что счастье и согласие между столь несовместимыми особями не должно сохраняться так долго. Вас смущает отклонение от нормы. Это мы знаем. Итак, вы влюбились в коня? В осла? В мула?
– Разумеется, нет. – Джейн посмотрела на врача. – И вообще, с чего вы решили, что я собираюсь говорить о сексе?
– Ну… – он пожал плечами. – Я просто вижу вас. И нахожу в вас перемены.
Она отвернулась.
– Разрешите мне закурить.
– Пожалуйста. Давайте.
– И еще…
– Даже не просите. Вы найдете вино на кухне. Только потом, когда мы закончим. Тогда можете выпить. Но не раньше. Вы это прекрасно понимаете. Мы оба профессионалы.
– Но мне так трудно. Так тяжело.
– Джейн, – доктор Фабиан кашлянул, – я чувствую по запаху, что вы уже подкрепились. Так что закуривайте и начинайте.
– Слушаюсь, сэр, – покорно проговорила она – по-прежнему не оборачиваясь.
Но как, как, как?
Начинай, Джейн. Просто говори, и все.
– Я…
– Да?
Она достала сигарету и прикурила.
– Вам приходилось… Вы когда-нибудь встречали настолько красивых людей, что на них невозможно смотреть?
– Но, чтобы это понять, надо все-таки посмотреть.
– Разумеется… Конечно… – Джейн выдохнула дым. – Ну, вот входит такой человек в дверь. Вы бросаете взгляд и чувствуете, что больно – в буквальном смысле больно – поднять на него глаза. Случалось с вами такое?
– Да.
И никаких объяснений.
Джейн, до мозга костей Джейн, грустно улыбнулась:
– Вы хотите сказать, что мой опыт не уникален?
– Опыт восприятия любого человека другим человеком всегда уникален. Например, я восхищаюсь вашим мужем как актером и нахожу его чрезвычайно привлекательным. Но я, слава богу, не гей. Говорю, «слава богу» только потому, что у меня есть Аллисон, без которой я бы совершенно погиб. Но обстоятельство сходное. Я имею в виду – между тем, о чем вы рассказываете, и что проистекало между мной и Алли и между вами и Гриффином. Замужем за ним вы, а не я.
– Проистекало?
– Хорошее слово. Случилось. Вам следует чаще заглядывать в словарь. Это дает ответы на многие вопросы. Случилось. Очень полезное слово, когда речь идет о любовной связи. А ведь именно о чем-то подобном вы собираетесь мне рассказать.
– Почему вы так считаете?
– Я уже вам объяснял. В вас не чувствуется прежней апатии южанки. Вас что-то разбередило. Взволновало. Таким фактором может быть только мужчина… или, если угодно, женщина. Но в вашем случае, думаю, мужчина.
– Да.
– Итак?
– Итак… – Джейн посмотрела на кончик сигареты. – У вас есть пепельница?
– Прямо перед вами. Перестаньте тянуть резину. У нас только час. Сейчас уже меньше. Рассказывайте.
Джейн подалась вперед. Пепельница стояла на столе у ее правой руки – между ней и окном.
Окно. Сад. Деревья. Небо.
Дверь.
Побег.
Что-то разбередило тебя… Трой… что-то взволновало… мужчина-ангел… но как рассказать о таких вещах?
Доктор Фабиан выпрямил спину и постучал пальцами по крышке стола.
Джейн знала: это приказ.
Говори!
Быстро!
– Да, да… я говорю… сейчас… Джейн говорит, – из ее горла вырвался смешок, не настоящий смех – всего одна нота. – Я Джейн. Вы Тарзан. Так? – Она уткнулась лицом в ладони. – Господи, все не так!
Доктор Фабиан ждал.
Джейн порылась в сумочке и выудила из нее салфетку «Клинекс».
– Тарзан. Тарзан. – Она посмотрела в окно и махнула рукой, словно человек-обезьяна сидел на ветке соседнего дерева. – Он мог быть Тарзаном. Обнаженный. Казался нагим, хотя был абсолютно одет. Даже вены проступали.
– Кто он?
– Мужчина. Мужчина. Какой-то мужчина.
Джейн вобрала в себя воздух и откинулась на стуле – в одной руке салфетка, в другой сигарета.
– Люк перерубил лопатой телефонную линию – это в нашем саду. Хозяин, понимаете, решил обзавестись новой клумбой… многолетники… всякие там розы. И Люк, садовник… вы его знаете, он и у вас работает… разрубил телефонный кабель. Кто-то должен был его починить… привести в порядок. Вот он и приехал. Тот самый мужчина. Тарзан. – Джейн затушила сигарету. – Нагой ангел.
Доктор Фабиан отложил ручку. Больше никаких заметок. Заметки потом. Он редко записывал то, что говорили его пациенты. Ему достаточно было впитывать их слова и смаковать. Итог формировался позднее. Многое было очень личным. Всегда.
Джейн Кинкейд он считал привилегированной пациенткой. Эта женщина его глубоко интересовала, поскольку входила в театральную среду, которую он боготворил. Замужем за актером, и сама художник по реквизиту. И все ее друзья – актеры, художники, писатели – принадлежали к миру, в который Фабиан не сумел попасть, когда молодым человеком мечтал стать хотя бы кем-нибудь – неважно кем – в волшебном круге за занавесом. А тут еще Алли – Аллисон – по доброй воле бросила работу, хотя перед ней открывалась блистательная карьера актрисы. Но она предпочла имитации жизнь. Не хотела больше строгой дисциплины, которой подчинялась двадцать пять лет – ограничения в еде, ограничения в спиртном, никакой любви, никаких любовников. Я хочу быть толстой, обрюзгшей бабой, заявила она, когда они познакомились и полюбили друг друга. И ты мне можешь все это дать, если подаришь свободу.
Свобода.
И вот перед ним Джейн Кинкейд и другой вид освобождения, если, конечно, это действительно освобождение. Совершенно неожиданное. Поскольку главной проблемой Джейн было то, что она добровольно наложила на себя всевозможные запреты. Несмотря на пристрастие к спиртному и чрезмерное курение, она могла бы вести мастер-класс по самоограничению. Помимо прочего, после появления Гриффина она, похоже, не взглянула ни на одного мужчину. Ни малейшего намека. Даже на флирт. Доктор Фабиан начинал подумывать, уж не потеряла ли она вообще интерес к сексу. Вдобавок, судя по всему, Джейн освоила искусство совмещения материнства с работой вне дома, хотя, как было известно практичному доктору Фабиану, у нее имелся доход, который обеспечивал ей независимость, недоступную большинству других женщин.
– …он вошел в дверь. Тот мужчина, – продолжала Джейн. – В заднюю, ту, что с сеткой, на кухне. Было уже за полдень… Я сидела, как обычно, в голубом платье, со стаканом вина и сигаретой.
Джейн запнулась.
Нет, не в голубом. В голубом я была в другой раз. Когда его измарал Трой.
Фабиан наблюдал за ней. И мысленно отметил: надо запомнить «голубое платье».
– …думаю, все дело в металлической сетке – в отблеске солнца на ней, в духоте и дыме сигареты. Я даже не очень его разглядела – не поняла, кто он такой и зачем пришел (как Трой). Встала и пригласила: «Заходите». И он вошел.
Джейн закрыла глаза.
– Вам приходилось встречать, видеть или наблюдать человека, который беспредельно и абсолютно невинен? На самом деле невинен. Который не понимает, кто он и чем обладает. Абсолютно невинного? Совершенно? Именно такой человек стоял в тот день за дверью. Тот самый мужчина. Телефонист. Динг-дон. – Джейн невольно рассмеялась. – Меня словно молнией поразило. Я попятилась и села. Поневоле пришлось – не могла стоять. Знаете, это все настолько безумно и настолько нереально. – Она зажгла вторую сигарету, загасила первую и продолжала: – Он оказался передо мной. Светловолосый. Не такой уж высокий – пять футов девять дюймов, от силы десять. В выцветших, выцветших, выцветших – почти до белизны – джинсах, причем драных: на лодыжках, на коленях, на бедрах, на заднице, в паху, о господи, даже на карманах, словно он специально рвал, старался убить эти самые джинсы, так как они прятали от мира то, что не должны были скрывать. Лохмотья, поистине лохмотья. Но одетый в них человек не был… как это называется?.. Провоцирующим? Он никого не провоцировал – не предлагал: посмотрите сюда. На меня. Он только… он просто… просто был там. Стоял передо мной. Безо всякого выражения. И ничего, совсем ничего не отражалось у него на лице. Словно он только что вышел из-под душа и не нашел полотенца, чтобы прикрыться. Так и остался обнаженным. Совсем.
Доктор Фабиан отодвинул стул от стола и от Джейн. В саду за окном чирикал воробей.
– Я…
– Да?
– Не знаю когда, не знаю как, но через некоторое время мы заговорили. Я объяснила свою дурацкую реакцию тем, что приняла его за другого, и он извинился. Не хотел вас напугать, сказал он. Понимаете? Совершенно невинен. Я выпила немного вина и предложила ему пива. Но он ответил: Я на работе. А потом – не знаю через сколько минут – моя рука потянулась, вот так. И пальцы, понимаете, коснулись его руки. Вот и все. Потянулась и коснулась. Он уставился на меня. Нет, не уставился – наблюдал за мной. Заметил мою руку… мои пальцы. Но не отступил. Ни малейшего признака сопротивления – ничего подобного. Просто покорился, принял мое прикосновение, отдался ему. Я могла быть пулей убийцы… Могла быть…
Джейн подалась вперед и стиснула руки.
– Могла даже быть самой его смертью.
Из-за двери доносилось гудение компьютера «мисс государственной дознавательницы».
– Его кожа была такой мягкой, такой теплой – как у доверчивого ребенка, – Джейн запнулась. – Почему я должна об этом рассказывать?
– Потому что вы сами этого хотите.
– Да, да, может быть. Наверное, у меня нет выбора. В конце концов, я ведь добрая католичка.
– Правды не скрыть – так, кажется? Иначе дорога в ад.
– Не в ад. В чистилище. Это еще хуже. Почитайте Данте. Кроме того, я там уже побывала. Помните отца? Маму? Мою худосочную сестрицу Лоретту? И заблудших, изнеженных братцев?
– Я бы не стал называть это чистилищем, Джейн. Освенцим – чистилище. Сталинград – чистилище. Джим Джонс, принудивший паству к коллективному самоубийству[18]18
В ноябре 1978 г. весь мир был потрясен, узнав о страшном конце возглавлявшейся Джимом Джонсом секты «Народный храм». 912 человек, подчинившись приказу Джонса, совершили самоубийство, выпив яд, или, по меньшей мере, не слишком сопротивлялись, когда им стреляли в затылок. Среди погибших было много детей.
[Закрыть], – чистилище. Вы называете чистилищем семью. Подождите, пока не попадете в настоящий ад!
– Ад – это все остальные люди. Не помню, кто это сказал.
– Сартр.
– Что ж, он был прав.
– Ад, моя дорогая леди, – не деградация семьи. Ад – это когда приходится расплачиваться за то, чего ты не совершал. Господи! Вы, чертовы католики, совсем сведете меня с ума!
Джейн улыбнулась.
Добро пожаловать в наш клуб, подумала она.
– Итак… вы коснулись его. Его.
– Да. Руки. Тыльной стороны.
– И?
– Он коснулся меня. – Джейн помолчала. – Точно так же. Вот здесь. – Она показала где, но не дотронулась до кожи, словно считала это место священным.
Теперь молчал доктор Фабиан. Что особенно потрясающего в прикосновении к руке?
– Никто ничего не сказал, – наконец продолжила Джейн. – Ни слова. Ни он. Ни я. – Она закрыла глаза. – Но я заметила, что у него эрекция. Почему? Я хочу спросить: «почему?» Потому что он дотронулся до моей руки? – Она вдохнула, выдохнула и снова посмотрела в окно. – На нем были белые трусы. «Белее белого» – откуда это? Из рекламного ролика? Белее белого и совершенно истертые – не толще рисовой бумаги. – Последовала долгая пауза, а затем прозвучало всего одно слово, но как целое предложение: – Съедобный.
– Съедобный? – тихо переспросил врач.
– Да. – Джейн проглотила застрявший в горле ком. – Я разглядела его сквозь одну из дыр. – И затем: – Позвольте мне выпить вина.
– Нет.
– О господи!
Она поднялась.
Доктор Фабиан взял со стола ручку. Он ни разу не видел Джейн Кинкейд в таком состоянии.
Дэниел теперь находился в боковом дворике. Он, видимо, перемещался вместе с солнцем – искал укрытие, когда его настигал блеск светила. Пес сделал три больших круга и улегся на кирпичи с решетчатым узором. Решетка. Снова чертова решетка. Исповедь.
Он развалился под скамейкой, на которой кто-то – наверное, Алли – оставил подушку и недочитанный роман. Умиротворяющая картина семейного благополучия: скамья в тени, красные кирпичи, ждущая книга, цветущие лилии, развесистое дерево – клен.
– Я никогда не считала пенис, эрегированный или нет, красивым. Если хотите знать правду, я вообще никогда не думала об этом. Женщины не такие. По крайней мере… Нет, не такие. Я хочу сказать, не такие, как мужчины. Нас привлекает другое: фигура мужчины – талия, задница, плечи. Может быть, руки. Да, руки. А главное – в совсем иной эстетике. Искренней улыбке. Отсутствии супер-эго. В чувстве юмора. В любви – страсти к чему-нибудь, кроме самого себя, – к езде на велосипеде, сидению на берегу озера, чтению, музыке – все равно. А пенис тут ни при чем. Знаете… это истинная правда. Я не смогла бы вам описать пенис Гриффа. – Джейн рассмеялась. – Не подвергался обрезанию – это точно. Но какого дьявола мне знать его размеры? Кому это интересно? Он есть, и все. Он…
– Я вас слушаю.
– Я хотела сказать, он мой. Но теперь я в этом не уверена.
– Неужели?
– Да. Но не об этом сейчас речь. Речь о другом человеке. О мужчине-ангеле – он был как Адам до фигового листка. И я внезапно почувствовала себя Евой. – Джейн улыбнулась. – А ведь я даже не побывала в том чертовом саду и не видела той чертовой яблони. Не говоря о…
– Змие?
– О, не надо быть настолько буквальным.
– Это ваши образы – не мои.
Джейн скомкала салфетку в ладони и посмотрела на нее.
– Белая, – прошептала она.
– Белая?
– Да. Белая и нежная. Его кожа. Его рука. Он сам. Очень хрупкий. Я чувствовала – стоит снова до него дотронуться – и он растает. И невольно вспомнила о Монике Левински… о ее проклятых узких трусиках, ее проклятом голубом платье, ее проклятых опытных коленях… и о чертовом Билле Клинтоне, который ей позволил себя иметь и вместе с собой весь мир… и весь мир наблюдал за ним. А он был такой красивый… этот телефонист… ангел. Такой чистый. Такой невинный. И так был готов получить и тут же потерять все. Но… Ничего такого не произошло. – Джейн встала, будто принимая приглашение на вальс. – Не забывайте, сэр, я леди. Я Ора Ли Терри из Плантейшна, штат Луизиана. «Пожалуйста, вашу руку, сэр, и ведите меня в круг танцующих» – так говаривала моя мать и рассчитывала, что я буду следовать ее примеру.
Очень заманчиво. – Она пошире открыла окно.
Дэниел свернулся калачиком. Видимо, под скамейкой было слишком много тени и он внезапно замерз.
Джейн подняла глаза: высоко по небу плыли птицы.
Она отвернулась от садового пейзажа и натолкнулась взглядом на репродукцию на стене рядом со стеллажом за спиной доктора Фабиана – «Ученый» Пауля Клее[19]19
Пауль Клее (1879–1940) – швейцарский живописец. Один из лидеров абстрактного экспрессионизма.
[Закрыть], работа 1933 года. То было, догадалась Джейн, внутреннее око доктора – каждый день, когда он направлялся к своему столу, оно напоминало ему, что мир полон тайн и что мы ничего не знаем, совершенно ничего. Овальное, будто детской рукой исполненное изображение лица с мукой в глазах и опущенными уголками губ рассказывало о его времени – о его собственном времени и о том, в котором жила она, Джейн. И доктор Фабиан.
– Я мысленно расстегнула ему молнию, стянула до колен трусы и взяла его член в рот.
Она коснулась салфеткой глаз.
– Если не хотите, можете не продолжать, – предложил врач.
– Не хочу, но должна, – вздохнула Джейн. – У меня было такое ощущение, словно я изголодалась. И вот передо мной еда. Что это значит? Я была просто ненасытна. В мыслях. В мыслях. Мысленно я упала на колени. Прикасалась к самым интимным частям его тела. Рванула его рубашку так, что поотлетали все пуговицы и, как градины, посыпались на пол. Я и сейчас слышу, как они стукаются о доски. Я его хотела. Обнаженного. Всего. Целиком. Я сняла с него башмаки, носки. Целовала пальцы на его ногах. Лизала бедра. Сосала соски. А затем…
Джейн поежилась.
– Затем он спросил, как ему попасть в подвал.
Доктор Фабиан завернул колпачок на ручке и оттолкнул блокнот.
– Ничего… понимаете, ничего этого не было.
– Понимаю.
– Господи боже мой! Что со мной случилось?
Джейн села.
Прошло несколько мгновений. Доктор Фабиан встал, вышел на кухню и вернулся с двумя стаканами и бутылкой вина.
– Вот и славно, – просто сказал он. – Вам нужно было выговориться. Первый шаг сделан. Я знаю, что вы заняты. Но после того как закончите работу над окнами, нам надо провести еще один сеанс. Я попрошу Беллу вам позвонить.
Беллой звали «мисс дознавательницу», которая и теперь, как подозревала Джейн, по своему обыкновению, скорее всего, подслушивала за дверью.
– А сейчас, – продолжал доктор Фабиан, – я хочу, чтобы вы ясно поняли одну вещь. Вы не сошли с ума. Вы просто-напросто вернулись к естественным желаниям после долгих лет добровольной ссылки. Добро пожаловать домой. Салют!
И они выпили.
5
Суббота, 11 июля 1998 г.
Бутафорский отдел располагался в задней части Фестивального театра. Из многочисленных окон открывалась широкая панорама реки. Тот, кто выходил покурить, оказывался на вершине довольно крутого спуска с высоты примерно футов в восемь (выросшая в Штатах Джейн так и не привыкла к канадской метрической системе).
Каждый сотрудник отдела располагал собственным рабочим пространством – широким столом и полками под окном: вроде бы все вместе, но каждый сам по себе. Можно не обращать внимания на коллег, а если захочется – поболтать. В помещении постоянно играл проигрыватель – что-нибудь ненавязчивое, без воплей и грохота. Все двадцать с чем-то человек приносили свои любимые диски: кто-то классические, кто-то нет. Вклад Джейн составляли восемь СД с лучшими гитарными композициями Андреса Сеговия, который умер больше десяти лет назад, но до сих пор почти ежедневно продолжал им играть. А в дни утренников при желании можно было послушать трансляцию со сцены.
У Оливера Рамси были детские глаза и такие руки и улыбка, что могли разбить любое сердце. И его постоянно приходилось переспрашивать, настолько тихо он говорил.
Тем не менее он был педантичным и требовательным работником и ничего не упускал. Получив задание и проконсультировавшись с режиссерами и дизайнерами, он поручал изготовление каждой детали или набора деталей реквизита кому-нибудь из своей команды. Оливер не терпел не только слова «босс», но и слова «персонал». Звучит так, будто вы свора конторских чиновников, говорил он. Слово «команда» подходило больше – ведь бутафорский отдел напоминал отлично управляемый корабль, который вышел в исследовательское плавание к неизведанным берегам: реквизит – словно собранные образцы заморской экзотики. В конце каждого рабочего дня зимой и весной все члены команды должны были демонстрировать свои «находки». Канделябр семнадцатого века, жаровни и фонари шестнадцатого, алтари пятнадцатого и гобелены двенадцатого – вот несколько примеров того, что требовалось в текущем сезоне, не говоря о тривиальном оружии, ломающихся стульях, обеденной утвари, «оловянных» блюдах и печально знаменитой «бочке мальвазии», в которой утопили герцога Кларенса[20]20
Герцог Кларенс – герой пьесы Уильяма Шекспира «Ричард III» (брат короля).
[Закрыть]. Плюс отделенная от тела голова некоего «политического противника», которая вызывала рвотный позыв, если на нее смотреть дольше трех секунд. Эту голову произвела на свет Мери Джейн Рэлстон, и с тех пор коллеги гадали, кто послужил ей моделью. Пока что не удавалось найти связи ни с кем из ныне живущих.
Последним заданием Джейн стал витражный триптих для постановки Роберта «Ричард III». Премьера должна была состояться 7 августа, то есть меньше чем через месяц. Джейн давным-давно сделала наброски и предварительные зарисовки и показала их художнику Саре Монктон, руководившей также разработкой костюмов для «Много шума…», для которой Джейн сделала набор разрисованных вееров.
Роберт просил, чтобы оконный триптих напоминал об историческом прошлом Англии и изображал убиение дракона святым Георгием. Этот сюжет занимал центральное окно, а по обе стороны должны были располагаться крупные планы дракона и святого до роковой встречи.
Джейн с огромным удовольствием занялась исследовательской работой – заказала массу дорогостоящей литературы, которой впоследствии суждено осесть в театральной библиотеке. Изрисовала пять альбомов набросками, сделала множество записей и расчетов и сопроводила их цветовыми схемами, фотографиями, репродукциями и другими справочными материалами. И только потом взялась за триптих.
Как раз сегодня она намеревалась завершить лик – кто осмелится назвать его лицом – святого Георгия – во всей славе и романтическом ореоле. Джейн шла к этому моменту долго и упорно: заполнила пол-альбома эскизами, но ни один ей не нравился.
Она приехала без пятнадцати два, положила папку на стол, достала альбом и отправилась на воздух с сигаретой, пепельницей и деревянным стулом. Позади нее из окон доносилась музыка – то был диск Мери Джейн Рэлстон с мелодиями из «Отверженных».
Она закурила, открыла альбом и стала листать страницы.
Нет – нет – нет…
Может быть – может быть – может быть…
Нет.
Ничего даже приблизительно подходящего.
Джейн долистала до чистой страницы и нерешительно взялась за карандаш.
Внизу на склоне кто-то спустил с поводка собак и бросал им мяч.
Трава. Собаки. Мяч.
Мяч. Мячик. Мальчик.
Телефон.
Две минуты спустя Джейн уже вовсю рисовала – и ни разу не остановилась, чтобы оценить то, что получалось.
Закончив, она посмотрела на лист, закрыла глаза и тихо расплакалась.
Боже мой! Боже мой!
Это был он. Мужчина-ангел. В половине второго, когда Джейн уехала в театр, Мерси вымыла посуду, приготовила лимонад, переобулась и повела Уилла и Редьярда на прогулку.
Чтобы попасть в парк, надо было идти на восток, повернуть на Сент-Винсент-стрит и двигаться дальше на север. Улица выводила на западную окраину парка, где вплоть до самой реки раскинулась внушительных размеров игровая площадка. Мерси, Уилл и Редьярд редко задерживались в этом месте, разве что Редьярд учует белку – тогда они дожидались его. Пока он еще ни одну не поймал. Пока, думала Мерси. Слава богу.
Мерси всегда клала в сумку пакет с «птичьим хлебом», как она его называла – кубики черствого хлеба для уток, лебедей и гусей и к нему покупной птичий корм: кукурузу, семечки подсолнечника и зерно. Все это они разбрасывали там, где останавливались.
Когда игровая площадка оставалась за спиной, надо было перелезть через невысокий барьер, и они оказывались в настоящем парке – с дорожками, деревьями и скамейками. На полпути стоял металлический павильон, или «беседка», как окрестила его Мерси. Нечто вроде бельведера, но без крыши и весьма свободной композиции.
После того как Уилл прочел «Лесси, домой!», Мерси сходила в «Фанфару» и купила «Остров сокровищ». Она знала, как мальчик любит читать. Он был настолько увлечен своими книгами, что Мерси порой сомневалась: полезно ли это для здоровья. Уилл не поддавался соблазну поиграть в теннис или бадминтон на заднем дворе. Правда, он катался на роликах с другими мальчишками с улицы – ближе к вечеру или, если получалось, после ужина. Но у него было мало закадычных друзей, и, судя по всему, он не скучал, если они где-нибудь играли без него. Зимой он встречался с Гарри Ламбермонтом и Малли (полное имя Малкольм) Роузкуистом. По субботам они катались на коньках и иногда ходили в кино. Но мальчугану шел всего восьмой год – рановато для абсолютной свободы. И хотя ни Джейн, ни Мерси не хотели докучать ему своей назойливой опекой, обе держали ухо востро и внимательно следили за тем, куда он ходил и что делал без них.
Дети актеров – особая порода. В глазах других детей актеры ведут шикарную, блистательную, недоступную для остальных жизнь – их портреты печатают в газетах и журналах, часто выставляют в разных общественных местах: в маленьких лавках, в витринах больших магазинов и в ресторанах. Совсем не редкость вопросы вроде: «А правда, что твой отец гомик?» Или такие безапелляционные утверждения, как: «Все говорят, что твоя мать – алкоголичка». В подобных делах дети редко проявляют деликатность. Им просто хочется узнать, что происходит в том, другом мире. А потом они начинают, причем с изрядной долей драматизации, рассказывать о своем: «Вчера папаша скинул мамашу с лестницы» – и это означает, что мать всего лишь споткнулась на ступеньках.
Дети актеров наблюдают уникальный распорядок дня родителей и прислушиваются к полуночным застольям на кухне, когда один, срываясь на крик, вопрошает: «Господи, и как же, по-твоему, я должен это произносить?», а другой столь же громко отвечает: «Надо вопить, словно тебе оторвали яйца!» То, что все это не имеет никакого отношения к настоящей жизни, должно быть усвоено, понято и принято чуть ли не с колыбели.
Напряжение в их семьях ощущается сильнее, чем в обычных: дают себя знать постоянно поджимающие сроки или скрываемые результаты успехов и провалов – что может случиться когда угодно. И вечеринки по воскресеньям и понедельникам совсем не такие, как в других домах. Хотя актеры вовсе не предаются «разгулу пьянства и похоти», как ошибочно когда-то писали в прессе. Их вечеринки – веселье и «выпуск пара», когда можно на время расстаться со сценическими волнениями и насладиться едой, вином и хорошей компанией.
Уилл принимал свое положение театрального ребенка с удовольствием и чувством ответственности. Его интриговало то, что делали родители. Наблюдая за игрой отца на сцене, он всегда погружался в мир непостижимых тайн. Откуда взялся этот другой человек? Почему я раньше никогда его не видел? Почему волосы у него светлые? Зачем он целует эту женщину? И почему мама не возражает? Но Уиллу даже не приходило в голову задавать подобные вопросы. Их нельзя было сформулировать.
А мать не допускала его к себе, когда работала – делала наброски, придумывала дизайн или рисовала. И в студию не разрешала входить – только вместе с собой. В остальное время она запирала дверь. Это тревожило Уилла. Что за секреты? Неужели она занимается чем-то дурным? (Он боялся, если плохое всплывет, ее могут арестовать. И в пять лет спросил об этом Мерси.)
Но вообще-то он гордился ими обоими. У родителей было много хороших друзей, которые нравились Уиллу: Клэр и Хью, Найджел и Сьюзен, Роберт, Оливер и другие.
Суббота одиннадцатого июля выдалась, как говорила Мерси, «погожей» – безоблачное небо и только легкий ветерок.
Пока шли по парку, Уилл молчал. Теперь они сидели на скамье в своем так называемом секретном местечке у реки в тени ветвистого дерева. Мерси налила себе и Уиллу по кружке лимонада. Редьярд отправился к воде и, припав на передние лапы и задрав зад, наклонился, чтобы попить. Берег был крутой, и пес совсем не хотел свалиться в воду.
Наблюдая за Редьярдом, Уилл спросил:
– Что случилось с мамой?
Мерси вздохнула, отвернулась и вытащила сигарету и несколько спичек, которые взяла у Джейн.
– О чем ты, дорогой? – Она хотела казаться непринужденной, но сломала первую спичку – пришлось зажигать вторую.
– Мама больше не приходит пожелать мне спокойной ночи, – ответил мальчик. – И почти не разговаривает. Вот сегодня, за обедом, не сказала ни одного слова. – Уилл осуждающе посмотрел на Мерси, словно виновата была она, и уперся ладонями в скамью, будто собирался подняться и уйти.