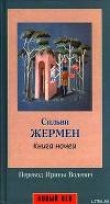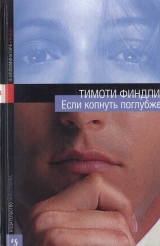
Текст книги "Если копнуть поглубже"
Автор книги: Тимоти Финдли
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
Добыча
Все в жизни по плану: солгав,
ты покаяться сразу спешишь
И нервный подъем ощущаешь,
добычу в силке увидав.
У. Х. Оден «Детективная история»
1
Среда, 5 августа 1998 г.
Они договорились встретиться у реки.
Подъезжая на «субару», Джейн заметила, что Милош поставил фургон компании «Белл» на площадке Театра Тома Паттерсона.
Тоже не хочет все это афишировать… Конечно, да и не может, как и я…
– Привет.
– Привет.
На нем были те же самые выцветшие почти до белизны джинсы – разодранные на обеих коленках и на одном бедре.
– Как жизнь?
– Нормально. А у вас?
– Замечательно.
Он забрался на сиденье рядом с ней.
Джейн почувствовала запах мыла, с которым Милош принимал ванну или душ. Запах шампуня, которым мыл волосы. Запах порошка, в котором стирали его рубашку. Дыхание – смесь корицы и сигарет. И запах от рук, видимо, недавно державших тост.
Джейн тронулась с места и свернула на юг по Эри-стрит.
– Куда мы едем? – спросил Милош, опуская стекло.
– За город.
– В деревню?
– Почти.
– Нас никто не увидит?
– Нет. Это уединенное место. Заброшенная ферма.
– О!
Джейн покосилась на него.
– Вы как будто нервничаете?
– Просто не хочется, чтобы узнала жена.
– Не узнает.
Город остался позади, и взгляду предстал сельский пейзаж: пастбища, на которых пасся скот, поля с зерновыми в человеческий рост, живописные луга, где проводили второй за лето покос. Тракторы, косилки и даже мужчины с вилами, грузившие сено на конные повозки.
– Здесь очень много людей, – заметил Милош.
– Поверь, там, куда мы едем, никого нет, – улыбнулась Джейн. – Расскажи мне о себе.
– Я поляк.
– Об этом я догадалась.
Милош посмотрел на нее с подозрением, словно засомневавшись, не сделал ли ошибки, сказав ей о своей национальности.
– По имени, – снова улыбнулась Джейн. – Такое имя вряд ли могло бы принадлежать итальянцу.
– Да уж… – Он тоже наконец ухмыльнулся. – Имя чисто польское.
– У тебя есть дети?
– Сын.
– И у меня тоже.
– Понятно.
– Сколько ему… твоему сыну?
– Около шести недель.
– А моему – семь. Лет.
– О!
– Да, да. Я старше.
– Заведете еще?
– Хотела бы. Но не знаю. А ты?
– Думаю, что нет.
– Нет? А почему?
– Мой мальчик нездоров. Жена не… Судя по всему, он не поправится. Жена очень несчастна. Наверное, она больше не захочет иметь детей. Я беспокоюсь. Может, мне не следовало это говорить. Мы еще плохо друг друга знаем. Но он болеет. И я беспокоюсь.
– Сочувствую.
Некоторое время они ехали молча.
– Что говорят врачи? – наконец спросила Джейн.
Милош отвернулся.
– Трудная ситуация, – ответил он.
– Понятно.
– Моя жена не любит врачей – медицину – больницы. Она очень расстроена.
Джейн вспомнила, что рассказывала ей Мерси. – А разве ты не можешь сам отвезти его в больницу?
– Нет.
Они проехали еще одно поле, где убирали урожай.
И следующие десять минут ни один из них не произнес ни слова. Пока Джейн не нарушила молчание:
– Здесь мы повернем.
От шоссе отходила боковая дорога, но въезд на нее почти совершенно скрывали деревья и кустарники. На углу среди самбука и боярышника сохранились развалины известняковой стены.
Господи, подумала она, мы говорим о наших детях. Как я могу?
То ли три, то ли четыре года назад – точно она не помнила – Джейн начала заниматься в классе пожилого местного художника Джей Ти Уатерби, которого сейчас уже не было в живых. И вместе с другими учениками выезжала с ним на пленэр. Один случай ей запомнился особенно: требовалось нарисовать какое-нибудь старое, заброшенное здание, которое сначала предстояло найти, – дом, амбар, сарай, пусть даже туалет во дворе.
У них было три машины: два фургона и «субару». Все ученики так или иначе работали художниками – в торговле, в архитектуре, журнальными оформителями, дизайнерами или, как Джейн, декораторами. Джей Ти был превосходным педагогом, и заниматься у него, особенно если человек уже являлся профессионалом, считалось большой привилегией.
– На этот раз я собираюсь вывезти вас за город, – заявил он, пока они перед отправлением в путь подкреплялись вином и сэндвичами. – Не хочу демонстрировать вам старые муниципальные дома и общественные здания. Намереваюсь присмотреться к текстуре развалин.
Текстура развалин. Это словосочетание Джейн с тех пор не забывала.
– А когда дело дойдет до людей, когда мы обратимся к живым существам, я попрошу вас сосредоточиться на том же. Не на красоте юности, а на красоте старости. Нашим моделям будет за шестьдесят пять. Я нашел мужчину и женщину – супругов, – которые называют себя «натуристами». Иными словами, нудистов. Им восемьдесят четыре и восемьдесят пять.
Джейн вспоминала о них с теплотой. Они позировали сидя, держась за руки.
– Но сегодня наш объект – красота видавшего виды дерева и кирпича, красота известняка покосившихся амбаров и разваливающихся домов. Брошенных комнат и гниющих балок. Я не собираюсь вам указывать, что рисовать. Вы прекрасно знаете: я никогда так не поступаю. Пусть предмет сам привлечет ваше внимание – и никаких объяснений, никаких словесных интерпретаций. Только вы, ваше зрение, перья и карандаши.
Они приехали туда, куда Джейн везла теперь Милоша – к заброшенному дому, пустому амбару, заросшим дорожкам и запущенному саду.
Когда-то за этим местом заботливо ухаживали пять или шесть поколений одного семейства. Но вот последние умерли, и за тридцать лет здесь не сохранилось ничего от былой жизни. Окна выбиты, двери слетели с петель, по комнатам разгуливает ветер. Оба крыльца завалились, печные трубы раскрошились, обои выцвели, привидения разбежались, осталась только память о криках и шепоте, голосах в коридорах и смехе на лестнице. Даже мыши как будто ушли. Словно когда-то давным-давно всех срочно эвакуировали.
В амбаре и сарае забытая, гниющая утварь, остатки конских волос, коровий и свиной навоз, лестницы сломаны, все в паутине, окна от времени заросли толстым слоем грязи, упряжь и недоуздки разбросаны беззаботными шаловливыми детьми, которые забегали сюда поглазеть, как жили «тогда», «раньше», «сто лет назад».
Джейн проехала по дорожке и дальше во двор, где росли клены и рушились заборы.
И почувствовала, как со всех сторон ее обступают призраки – мужчины, женщины, дети, собаки, кошки, лошади, коровы: все хотели посмотреть, кто посмел потревожить их развалины…
Джей Ти называл этот амбар собором среди дикой природы. Джейн была с ним согласна. Вся территория – и дом, и сарай, и амбар – казалось, обладала некоей святостью.
Она заехала с задней стороны дома, где располагалась прачечная и ручной насос. Помещение успело лишиться двери, кожаные части насоса сгнили, но на ввинченном в стену крюке до сих пор висел металлический ковшик.
Они вылезли из машины, и Джейн открыла багажник.
– Я захватила для тебя одеяло и халат на случай, если замерзнешь.
– Это вряд ли, – заметил Милош. – Сегодня так жарко, что я вспотел в одной рубашке, хотя и открыл в машине окно.
Он улыбнулся.
Это хорошо, подумала Джейн. Я и хотела, чтобы он вспотел. В таком случае…
Она не забыла захватить немного масла для загара, зная, что на модель наносят такое масло, если человек позирует обнаженным перед художником и особенно перед фотографом. Тогда свет лучше обрисовывает линии тела.
Она подала Милошу одеяло и халат и, порывшись в сумочке, извлекла фотоаппарат.
– Фотоаппарат? – встревожился он.
– Да. Я собираюсь тебя снимать.
– И делать отпечатки?
– Да.
– И кто их увидит?
– Только я. И ты.
– Не знаю… Если жена…
Джейн рассмеялась:
– Милош, перестань… Ты что, подозреваешь, что я пошлю снимки твоей жене? Зачем мне это надо?
– А если кто-то другой…
– Никто. Даю тебе слово. Фотографии предназначены только для меня, чтобы я могла тебя нарисовать. Так тебе будет даже легче – не придется долго позировать без движения. – Джейн ждала; на секунду ей показалось, что он откажется.
– Так их никто не увидит?
– Никто, кроме меня. Я даже сама все проявлю и напечатаю. – Она солгала: в их доме не было лаборатории. Но пока ей не хотелось об этом думать. Главное – сделать снимки.
Милош, отвернувшись, колебался, затем пожал плечами и сказал:
– Ну, если вы обещаете…
– Обещаю.
Он улыбнулся, подошел и пожал ей руку.
– Хорошо, давайте.
Джейн чувствовала, как он нервничал, но сама волновалась не меньше, если не больше его.
Я – профессионал. Он не должен догадаться, что в этом есть что-то, помимо профессионального занятия. Нельзя проявлять признаков желания – меня ничего не интересует, кроме его контуров и проекций.
Джейн пыталась думать о формах, но думала только о теле.
Фотография ню. Старо как мир. Обнаженные мужчины и женщины – господи! – тысячи, десятки тысяч во всех газетных киосках страны. Повсюду!
– Тогда приступим. Нельзя упустить подходящий свет.
– Нельзя. – Милош посмотрел на небо. Было без пятнадцати четыре. – Где? – спросил он.
– Я думаю, в амбаре.
Брошенное здание выглядело точно так же, как в прошлый раз, – только обшивка еще больше ободралась.
Отовсюду сквозь дыры проникали наполненные пляшущими пылинками полосы света – одни резкие, словно прожектора, другие более театральные, будто ими управляли.
За стойлами у лестницы находились люки, через которые некогда подавалось сено и солома. Копны тридцати– или сорокалетней давности то ли от времени, то ли по чьей-то воле оказались сваленными на пол и теперь лежали немым напоминанием о другой эпохе – о других судьбах, другом труде и заботах.
Обтесанные липовые опоры покоились в зацементированных основаниях, но цемент выветрился, и стал виден песок и щебень. Грубо срубленные горизонтальные балки все еще держались на своих местах, хотя обшивка стен отсутствовала. Все в этом амбаре было ручной работы: брусья скреплены деревянными колышками, обшивка – там, где она сохранилась, – прибита самодельными гвоздями с квадратными головками.
Милош, похоже, подавленный размерами пустого пространства, в котором они оказались, начал машинально расстегивать пуговицы на рубашке.
Теперь Джейн точно знала, чего хотела. Надо было только найти место, где ему сесть.
Две-три копны соломы и одеяло на них – именно то, что требовалось.
Она поставила сумку на пол и стала стаскивать в нужное место солому; в итоге две копны пошли на сиденье и три – чтобы облокачиваться. Эти три она положила друг на друга.
Все продумывалось заранее – на прошлой неделе, когда она прикидывала, чего должна добиться.
Милош сидел на расшатанных ступеньках ведущей на чердак лестницы и снимал ботинки и носки. Рубашка уже висела на колышке, ремень и верхняя пуговица брюк расстегнуты.
– Здесь очень тепло, – заметил он.
Отлично, подумала Джейн. Чем теплее, тем лучше.
Она открыла футляр камеры.
«Кэнон».
На объективе значились цифры: 70/200, 2,8.
Они ей ничего не говорили. Джейн только знала, что нужен именно такой фотоаппарат. Эту модель ей одолжила подруга, которая занималась портретной съемкой.
«Поскольку ты очень мало понимаешь в объективах, профессиональная камера тебе ни к чему, – объяснила она. – А эта как раз подойдет».
С чего начать?
И как?
По крайней мере, у нее есть рудиментарные знания основ фотографирования.
Ты рассуждаешь, будто цитируешь учебник, сказала она себе. А это не упражнение из учебника.
Что же это в таком случае?
Упражнение в страсти. Признай, что с удовольствием отшвырнула бы фотокамеру и встала перед ним на колени.
Милош снимал джинсы.
Под ними оказались боксерские трусы, чего Джейн никак не ожидала. Грифф таких никогда не носил, и она считала, что все молодые люди обтягиваются «Келвином Кляйном», как однажды выразилась Клэр, пролистав номер журнала «Ванити Фэр», который якобы посвящен мужской наготе. Никогда не разденутся до конца, ворчала Клэр. Не то, что женщины. Всегда одно и то же. Даже в девяностых им – все, а нам – ничего.
– Куда мне сесть? – услышала она вопрос Милоша.
Оторвавшись от фотоаппарата, Джейн заметила, что он все еще мнется у лестницы и боксерские трусы по-прежнему на нем.
– На одеяло.
Он направился туда.
– И, Милош…
Он оглянулся через плечо:
– Что?
– Белье надо тоже снять.
– Да, да, конечно.
Он отвернулся, и Джейн заметила, что его спина вспотела. И бока тоже – на них из-под мышек катились струйки пота.
Милош аккуратно свернул трусы и положил рядом с джинсами. А затем возвратился к импровизированному креслу из соломы. Этого момента Джейн боялась больше всего. Вот сейчас он повернется, взглянет на нее – и ей придется ответить взглядом.
Спокойно. Это всего лишь один мужчина из многих. Очередная модель. Тело, и больше ничего.
Но некоторые тела настолько возносятся над красотой… и ты чувствуешь… Что? Необходимо вернуть их обратно на землю…
Милош заметил ее взгляд – рука, нервно дрогнув, потянулась к гениталиям. Однако он пересилил себя и положил ладонь на бедро.
– Так? Нормально?
Джейн сделала шаг вперед.
– Давай на одеяло. – Господи, прекрати говорить так по-деловому.
Ты похожа на кастрированного, злобного старшего сержанта. Расслабься!
Дай мне возможность! Дай мне возможность – всего одно мгновение! Он такой…
Милош забрался на солому.
– Мне лечь?
– Нет, – на мгновение ей пришлось отвести глаза. Посмотреть сначала направо, потом налево; на свою ладонь, на запястье, на локоть.
К ступне Милоша пристали соломинки. Джейн тянуло их снять, но она не смела его коснуться.
– Можешь сесть спиной к балке? Прислонись спиной к соломе. Если плечам станет колко, поправим одеяло.
Теперь она находилась в ярде от его свесившихся ног.
Милош откинулся назад.
– Да, колется, – признался он.
Джейн отложила фотоаппарат и тоже полезла на солому.
– Ну-ка, привстань.
Милош повиновался.
Она ухватилась за край одеяла и потянула вверх.
Но когда присела на корточки и повернулась, обнаружила перед собой его лобок. Волосы блестели от пота. Капля скатилась с торса и попала ей на щеку.
– Извини, – тихо проговорил Милош и вытер ее кончиками пальцев.
– Не извиняйся. Я тоже вспотела.
– Да, да, очень жарко.
– Ужасно.
Милош сел.
Казалось, он сразу понял, как ему позировать для фотографии: одно колено слегка приподнято, руки у бедер, пальцы тянутся к коже, а один уже коснулся.
Джейн схватила фотоаппарат.
Она дрожала.
Предстояло сделать сорок кадров – по десять на каждой из четырех пленок.
Она заранее так решила: если будет больше, он не усидит. Джейн знала по прежним занятиям, как утомительно для моделей долго находиться без движения – они теряют сосредоточенность и словно впадают в спячку.
Кадр 1. Линия размыта, как она того и хотела, – не начинается, а истекает.
Кто-то – вроде бы Джей Ти Уатерби – говорил: Никогда не начинай линию на листе – начинай за пределами, а на листе продолжай движение, как танцоры, когда появляются на освещенной сцене. Тебе случалось уловить момент начала их движения? Никогда! Они просто уже здесь. Здесь, и все.
Так…
Пусть линия формируется сама.
Пусть линия формируется сама.
Пусть линия…
Джейн посмотрела в видоискатель.
Одна линия.
От правого виска к левому бедру.
Шея оказалась длиннее, чем она предполагала, – от уха до ключицы.
Не отворачивайся – веди линию.
Камера нырнула вниз.
Именно так, как она хотела.
Черно-белая линия.
Правая рука, выбеленная пыльным лучом, скрылась в водопаде света, и нервные тени, будто не желая попадаться на глаза, отступили.
Ключица – изгиб груди – сосок.
Очень даже пригодный для сосания.
Не смей!
Делай снимки!
Ее рука стала затекать.
Не шевелись!
Как странно.
Даже превосходно сложенные мужчины не без изъяна.
Джейн вспомнила, как наблюдала за Гриффом – он, сидя, надевал носки и помедлил, прежде чем подняться. Складка, демаркационная линия, граница располагалась над пупочной впадиной – пупком – и к этой черте постоянно стремились, словно жаждали ее коснуться, лобковые волосы, всегда указуя в центр – в другую линию, на груди. Маленькие стрелки, образующие единую, направленную вверх стрелу.
Рисовать фотоаппаратом…
Вот так.
Я рисую фотоаппаратом.
– Не двигайся. Сиди спокойно.
Ее поразил собственный голос.
– Хорошо, – ответил Милош.
От живота к бедру. Озерцо пота. Волосы.
Две линии: одна ныряет вниз, другая взлетает вверх.
Влага.
Волосы. Волосы поблескивают. Если бы время в этот момент застыло, она бы задержалась и пересчитала их. Но время бежало вперед. Волосы, казалось, тянулись к ней – вверх – к камере – и вниз, в бездну паха.
И вот он – этот самый пенис…
Но почему вдруг этот самый, а не его пенис?
Перестань задавать идиотские вопросы – снимай! Carpe diem – лови момент.
Щелчок.
Первый.
Кадр 19. Хотя амбар был мертв – или представлялся таковым, – в нем еще сохранилась жизнь. Ни коров, ни овец, ни лошадей, ни кур, ни свиней, но остались ласточки. Стрижи. Крылья. Метания. Крики.
Гнезда прилеплены к поперечным балкам: прутики и обмазка – грязь, слюна и солома.
Милош поднял глаза на влетающих и вылетающих птиц.
Джейн попросила его податься вперед, чтобы тело казалось тоньше, не таким приплюснутым. Более гибким.
Волосы на руках и ногах искрились на солнце. Его движение, когда он приноравливался к новой позе, вызвало небольшую пыльную бурю, всполошившую птиц, которые занимались выведением второго поколения потомства. Деловитые, они чинили гнезда и непрерывно стрекотали, как играющие в маджонг китайские мандарины.
Милош улыбнулся.
– Любишь птиц? – спросил он.
– О да. А ты?
– Люблю. Сними их, пожалуйста.
На этой пленке у Джейн оставалось всего четыре кадра.
– Очень прошу, – добавил он.
– Хорошо.
Она два раза щелкнула птиц, а потом, едва сознавая, что делает, подошла к Милошу, коснулась ладонью его бедра и тут же сфотографировала мягкий пенис, который, словно ласточка на яйцах, покоился в своем волосяном гнездышке.
– Птицы, – проговорила Джейн.
Милош опустил на нее глаза. Улыбнулся.
– Да, – ответил он. – Птицы.
Пленка кончалась, и Джейн попросила Милоша встать.
Он уже позировал сидя почти два часа, хотя за это время успел отлучиться за амбар помочиться.
Именно так, Джейн. Он отлил. Облегчился. Пописал. Отметился на земле – написал свое имя.
Когда он вернулся, она последовала его примеру.
Разница в том, что я не могу написать свое имя.
Джейн?
Д-Ж-Е-Й-Н? Ты не можешь написать пять букв?
Господи – ты уж совсем! Брысь обратно в свою нору.
Просто шутка. По-моему, шутка – это как раз то, что тебе сейчас нужно.
Спасибо. Обойдусь.
Вот забрало так забрало. Охота пуще неволи. Ну как, что надо фразочка? Приперло так, что без этого никак?
Прекрати.
Я только подумала…
Не смей.
Извини.
(Неприятная пауза.)
Так ты напрудила лужу? Это и есть твоя подпись?
Меня зовут «Лужа».
Отстань.
Не могу. От тебя – ни на шаг.
Он теперь стоял над ней. Весь.
– Повернись.
– Пожалуйста.
– Наклони голову – прислонись левым виском к балке.
Милош послушался.
– И плечом тоже… да, да, именно так… Джейн больше не могла говорить.
Он был совершенно, абсолютно прекрасен. Что же мне теперь делать?
Господи, что же мне делать?
Снимай!
Джейн отступила назад.
– Вот так…
Его тело дрогнуло.
– Положи правую руку на… задницу…
– Сюда?
– Именно.
Запястье коснулось тела, ладонь раскрылась, большой палец смотрел в сторону.
Одна длинная линия, Джейн, одна линия. Длинная линия от шеи к губам вверх и вниз к внутренней стороне правого бедра.
И вдоль изгиба руки – к ладони. Во всех местах соприкосновения пот; волосы текут вниз по икрам; под ногтями рук чернота, метки труда – земля – как безмолвный возглас, как мягкое напоминание, что он тоже плоть от ее плоти. Оставалось два кадра.
– Посмотри на меня.
Милош поднял голову.
Затвор щелкнул.
Джейн положила фотоаппарат.
– Все.
Они пожали друг другу руки.
Джейн отвернулась.
– Нет, – возразил Милош, коснулся ее плеча и повторил: – Нет.
Она взглянула на него: одно колено на соломе, другое приподнято – весь перед ней.
Он потянулся за фотоаппаратом.
– Нет, не все, – сказал он и поднял камеру, – остался еще один кадр.
Кадр 40. Джейн.
Беглец
Извечный червь сомненья не дает покоя:
Судья на нервах, справедлив ли приговор?
Улики, показания и ропот —
нестройный висельников хор…
А нам смешно… такой все это вздор…
У. Х. Оден «Детективная история»
1
Пятница, 7 августа 1998 г.
Всегда знаешь, что в доме кто-то есть. Не потому, что не заперта дверь, открыто окно или со второго этажа долетел какой-то звук. Просто знаешь, что ты не один, – и все.
Люк это ощутил, как только вошел в дом на Маккензи-стрит, оставив свой фургон на подъездной дорожке. Странно. Вообще-то он собирался поехать с работы прямиком к Мерси, но передумал, решив сначала принять душ, переодеться и выпить пива.
Единственной «ненормальностью» было то, что потух фонарь над боковой дверью – либо перегорел, либо его кто-то выключил. Люк зажег старую настольную лампу у двери на кухню и попытался вспомнить, когда менял в фонаре лампочку. То ли месяц назад, то ли два – он был не уверен.
В задумчивости подошел к холодильнику и достал «Слиман».
Почему бы не щелкнуть выключателем и не выяснить, в чем тут дело? Но он сам прекрасно знал ответ на собственный вопрос. Если свет выключили, значит, в доме есть кто-то, кроме него. А Люк еще не был готов к тому, чтобы принять это. Рад был прикинуться, будто ни о чем не догадывается. Может, пронесет.
Отчего мы всегда пытаемся разыграть безразличие, когда чувствуем, что за нами наблюдают из темноты?
Люк достал из кармана сигареты и зажигалку, бросил джинсовую куртку на спинку стула и сел там, где никто не мог бы оказаться у него за спиной.
Иногда, вернувшись домой, он включал радио. Но не сегодня – сегодня он хотел улавливать любой необычный звук.
Почему воры никогда не пукают?
Потому что они не едят бобов.
Четвертый класс, Ленни Грэгсон – кавычки открываются, кавычки закрываются.
Люк невольно улыбнулся.
Жаль, что у меня нет собаки.
Нет. Больше никогда в жизни не заведу. Это решение было принято после того, как Дэнни попал прямо перед домом под колеса грузовика. Ни за что.
Никогда.
Люк отхлебнул из бутылки и закурил.
А что, если кому-нибудь позвонить… Например Мерси.
Он посмотрел на телефонный аппарат в другом конце комнаты. И тот, казалось, ответил ему нетерпеливым взглядом: «воспользуйся мной – мне наскучило безделье».
Нет. Плохая мысль. Нечего еще кого-то впутывать в это.
Телефон поник и недовольно надулся.
Люк стал прикидывать, что сейчас делает Мерси.
И бессознательно посмотрел на часы: без восемнадцати восемь.
Наверное, стоит у плиты и готовит ужин для Джейн и Уилла, если они не собрались в «Паццо». Стоит у плиты, режет лук или укладывает последнюю деталь в пазле Уилла: он дарит ей это право, как мужчина – любимой женщине бриллиант, если, конечно, у мужчины имеется бриллиант.
Что-то упало на пол – в доме, а может, в воображении.
Зажги больше света. Веди себя естественно. Никогда не позволяй врагу заметить твой страх.
А вдруг это дядя Джесс…
По-твоему, он не враг?
Люк встал. Еще две лампочки на кухне. В заднем коридоре.
На лестнице.
Он принялся мурлыкать себе под нос:
Путь далекий до Типперери…
Путь далекий домой…
«Типперери» было старинным семейным прозвищем сортира.
По дороге он завернул в комнату, которой пользовался как кабинетом. Зажег медную лампу под зеленым абажуром и, не открывая, запер дверцу шкафа.
Если кто-то засел внутри, потребуется топор, что бы оттуда выбраться. Но там такая теснотища: ложкой не замахнешься – не то что топором…
В столовой никого. Только двенадцать пустующих стульев и гниющие яблоки на блюде.
В гостиной тоже.
И на лестнице.
Люк подергал ручку – передняя дверь заперта.
Теперь на верхнюю площадку. Выключатель коридора второго этажа.
Пусто.
Люк заглянул во все спальни и в каждой зажег свет.
Всего-то и оставалось: маленькая ванная с туалетом и некогда родительская, а теперь его большая ванная и спальня.
Люк осмотрел бельевую кладовую – ничего, кроме белья. Почти разочарование.
Напряжение давило на спину, плечи, колени.
Он потянулся рукой к выключателю на стене своей спальни.
Но свет не вспыхнул.
По-прежнему царила темнота.
Кто-то его ждал.
– Я вывернул лампочки, – раздался голос. – Я вижу тебя, но не хочу, чтобы ты на меня смотрел.
– Почему?
– Не слишком приятное зрелище.
– Ты ранен?
– Вроде того.
– «Вроде того» – не причина, чтобы мне на тебя не смотреть.
– Ну… может, больше, чем «вроде того»… Не хочу, чтобы ты меня видел, и все. Меня пометили.
– Господи! Ты хочешь сказать, тебя порезали?
– Да. Лицо. Так у них принято.
– Тебе больно?
– А разве нам всем не больно?
– Перестань хорохориться – скажи правду.
– Конечно, больно, мудак! Ты что, думаешь, когда режут, не больно?
– Вызвать врача?
– Только попробуй – и ты покойник! Мертвец!
Люк понимал, что так оно и будет: Джесс никогда не грозил зря, и в его заднем кармане всегда лежал нож с выкидным лезвием.
– Послушай, позволь мне тебе помочь. Как-нибудь. Не дури. Разреши хоть что-нибудь сделать.
– Нет, малыш. Я уже промыл порез. Просто не хочу, чтобы ты меня видел.
– Они знают, где ты?
– Наверное. – Джесс помолчал и добавил: – Извини, я не хотел втягивать тебя в неприятности, но мне больше некуда было идти.
Старая песня. Все та же старая песня: больше некуда идти…
– Там на комоде ночник. Можешь ввернуть ту лампу.
Люк подошел к комоду и ввернул лампочку в патрон.
Джесс полусидел-полулежал на кровати, привалившись спиной к подушкам; одеяло сбито. Он подтянул к ягодицам ноги в нелепых детских кроссовках, одной рукой прижимал к лицу полотенце, а в другой держал полупустой стакан с лучшим в доме виски.
В слабом свете единственной лампы Люк не видел порезов на его лице – да еще мешала рука Джесса с полотенцем. Но он разглядел, что оба глаза у дяди подбиты.
– Прикури-ка мне сигарету, малыш, – попросил тот.
– Да, сэр. – Люк невольно улыбнулся. – Ты говоришь, прямо как отец.
– А что в этом удивительного? Я его брат. Мы оба унаследовали этот голос. Так что давай прикуривай.
Люк повиновался и подошел к кровати.
– Не смотри!
– Кончай валять дурака! Куда мне ее совать? В пустоту?
Джесс поставил стакан с виски на прикроватный столик и взял сигарету. Но так и не отвел от лица полотенце.
– Где бутылка?
– Вот здесь, на полу.
Джесс показал.
– Там что-нибудь осталось?
– Конечно. Я пью всего лишь вторую порцию.
Люк обошел кровать, взял бутылку и отправился с ней в ванную, вынул зубные щетки из стакана и налил в него виски. Стаканом для воды воспользовался Джесс.
Только тут Люк заметил окровавленное полотенце за унитазом и пятна крови по бокам раковины: Джесс, видно, хватался за нее руками, когда промывал себе раны.
Интересно, как она темнеет, пролитая кровь. И ни с чем ее не спутаешь. Должно быть, древний инстинкт самосохранения: берегись – здесь льется кровь.
Он вернулся в спальню и со стаканом в руке сел на стул у окна. Закурил, посмотрел во двор.
– Что я должен делать?
– Ты не должен никому говорить, что я здесь.
– Не скажу.
– И не должен вызывать никаких врачей.
– Не буду.
– И, естественно, ни слова полиции.
– Ты просишь очень много молчания.
– И считаю молчание знаком согласия. Ты уже обещал никому не говорить. А это значит – не сообщать и полиции. Ясно?
– Да.
– Вот и хорошо. Учти, я не шучу.
– Знаю.
– Заикнешься – и ты покойник.
– Разумеется. Покойник.
– Я слышал, ты обзавелся женщиной.
– Да?
– Да. Один тип в городе сказал. Мол, у Люка теперь есть подружка.
– Для подружек я немного староват, Джесс. Мне почти пятьдесят. А она еще старше.
– Шутишь? Почти пятьдесят? А я бы дал тебе сорок, не больше.
– Пятьдесят, пятьдесят… так-то.
– Как ее зовут?
– Мерилин Монро.
– Ну, конечно…
– Не скажу. Она просила меня молчать. Как и ты.
– Вот и ладно. И как она – хорошо трахается?
– А ты?
– Хо-хо! Ничего себе, племянничек! Огрызается!
– Короче, Джесс, тебя мои дела не касаются. Давай обсудим твои. Что с тобой происходит?
Будто не знаешь, будто не догадываешься…
– Просто лежу здесь и думаю.
– Неужели? О чем?
– О том, как в старину мы приходили сюда и заваливались на эту кровать. Как по воскресеньям врывались и устраивали кучу-малу. Мама и папа – Марбет и Проповедник – были в чем мать родила, а мы орали и наваливались на них – вдесятером, да еще две собаки и кошки. А потом пели.
– Пели?
– Да, пели. «Велосипед на двоих», что-нибудь вроде этого. «Луна восходит над горой» или «Надень свою старую серую шляпку». А заканчивали всегда «Типперери», потому что, вопя и прыгая, так возбуждались, что кому-нибудь непременно требовалось бежать в сортир отлить. Господи, какие хорошие были времена! Господи, какие хорошие! Господи!
Джесс расплакался.
– Хорошие времена. Чудесные времена. Веселые времена. Постоянно возились… постоянно смеялись… постоянно пели. С мамой и папой.
Люк смотрел, как он вытирал полотенцем глаза.
– Я сделал кое-что плохое, – продолжал Джесс. – По-настоящему плохое. Самое плохое, на что способен человек.
– Знаю.
– Откуда? Я же тебе не дозвонился.
– Не дозвонился?
– Я тебе звонил. В дом Кинкейдов. Несколько недель назад. Сразу после… после того раза, как мы с тобой виделись.
– Да, ты прав. Ты мне не дозвонился.
– Что-то приключилось с чертовым телефоном. Не было соединения.
– A-а… Тогда.
– Да, тогда.
– И чего ты хотел?
– Если бы я знал. Помощи.
– Какой?
– Господи, откуда я знаю? Помощи, и все! Но так и не дозвонился.
– И…
– И… Люк, я так устал – очень устал. И боюсь. Я не знаю этого человека – себя. Не знаю того, кто кажется мной, но я его никогда не встречал – только в самых кошмарных снах. И вот… я… я его боюсь – он меня пугает. Страх такой, что пробирает до самого нутра. Господи, я так не хочу быть этим человеком. Я – это не он. Нет! Я его не знаю. Кто, черт возьми, он такой? Кто мной владеет? Откуда взялся? Как получился… получился из того счастливого ребенка? Откуда объявился? Господи, я никого не хочу убивать! Не хочу! Почему я это делаю? Почему? Господи! Господи, помоги! Кто-нибудь, помогите!
Люк поднялся – сгорбленный, сигарета прилипла к губам, ноги тяжелые, будто налились цементом, – подобрал с пола бутылку виски: надо ему что-нибудь дать. Что-нибудь – хотя бы это. Подошел к кровати, снова наполнил стакан Джесса и коснулся гранью бутылки его лба. Пусть ощутит прохладу. Пусть ощутит хоть какую-то связь: холодное стекло в данном случае – как рука – как палец – нечто почти очеловеченное.
Вернувшись к своему стулу, он подлил виски и себе.
И стал смотреть на дядю. Тот скрючился на кровати – глаза убийцы, что они видели? Руки убийцы, что они натворили? И сердце так и не повзрослевшего ребенка, неспособное к сопереживанию. Джесс всегда сочувствовал только себе: своим неудачам. И не понимал, что другие тоже умели чувствовать. Только он грустил, и только он веселился. Никто другой никогда не плакал.
Похоже на строчку из песни.
А почему бы и нет? Разве песня не может сказать правды?
– Джесс!
Никакого ответа. Лишь взгляд переместился с кончика сигареты на виски в стакане.