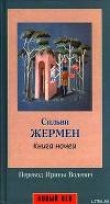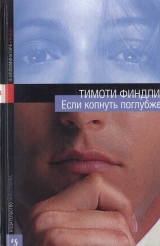
Текст книги "Если копнуть поглубже"
Автор книги: Тимоти Финдли
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
Поначалу присутствие окон на сцене немного мешало актерам. Но их движения были давно отработаны, и в итоге все утряслось.
Особенно эффектным бесплотное присутствие дракона и его победителя было в предпоследней сцене, когда духи убиенных жертв тревожили сон отчаявшегося короля. И Джейн невольно порадовалась: хотя не она придумала витражи и не она включила их в ткань спектакля, но исполнение было все-таки ее. Все вокруг начали ее поздравлять.
А она думала только об одном: Видел бы Грифф! Послушал бы… Разделил бы со мной торжество. Был бы рядом. Но его не было! Господи, черт побери! Отправился играть в гольф! В гольф! В мой главный день! Ну подожди: когда у тебя будет премьера – если будет, – пойду играть в бридж. Вот паразит!
Джейн вернулась домой в шесть, и Мерси сообщила, что пришло письмо – из Плантейшна.
Мейбел.
– Но сначала наполним бокалы, – сказала Джейн. – Что бы ей ни было нужно, меня сейчас ничем не проймешь. У меня сегодня триумф.
– Поздравляю.
Но Мерси видела, что Джейн все больше и больше нервничает из-за постоянного отсутствия Гриффина, и поэтому ничего не сказала о рисунках.
3
Понедельник, 20 июля 1998 г.
– День что надо.
– Что есть, то есть.
Гриффин установил мяч на новой метке и скосил глаза, прикидывая траекторию. Они подошли к предпоследней, семнадцатой лунке стратфордского сельского клуба, и дальше начинались деревья.
Деревья – его враги, помеха при выполнении удара.
– Слышал последние новости о Левински? – спросил Джонатан.
– А мне это нужно?
– Ну… все-таки интересно… Вроде как…
– Вроде как что?
– Эти секретные агенты… люди Клинтона из кожи вон лезли, чтобы они не давали показаний, но их все-таки вызвали.
– Надеюсь, все они солгут. Неужели эти гнусные люди никогда не остановятся? Представляешь, что будет, если мы все окажемся под постоянным колпаком? Ха!
– Вот именно: «Ха!» Но если ты под присягой, ни о каком вранье не может быть и речи.
– Бедняга!
– Обрати внимание на мяч, Грифф. Играй!
Гриффин опустил клюшку и посмотрел на режиссера.
Оба молчали.
Играй!
Джонатан улыбнулся и пожал плечами:
– Во всем этом есть определенный урок: в Клинтоне и Левински, в Балканах, в том, чем занимаемся мы, – и его необходимо усвоить. Ты наблюдаешь, ты слышишь – тебя тащат в суд, и ты даешь показания. Ты говоришь правду.
Правду.
Да. Если деревья не мешают тебе видеть ее.
– Это ритуал, Грифф. Обряд. И актеры исполняют его лучше, чем кто-либо в мире. Может быть, за исключением Папы Римского. Все на свете, – Джонатан широко развел руки, – ритуал. Бить по мячу, играть роль, мне – расчленять и собирать воедино пьесы, каждому – тянуть ритуал собственной жизни и совершать обряд самоутверждения. Это то, о чем я рассказывал вам с Зои. Кстати, вижу, что теперь ты начинаешь улавливать суть. И слава богу. Это тебе на пользу. И Зои тоже. Никакой лжи. Никакой. Мы все свидетели на суде жизни – и надо говорить только правду. Точно бить по мячу. Если же мы этого не делаем – приходится расплачиваться. Мяч улетает за деревья: ты становишься актером на роли без слов, я – режиссером любительских спектаклей. Мы оказываемся в разных постелях. Или возвращаемся к женам и недоумеваем, зачем от них сбежали.
Гриффин отвернулся. Да, да. Где-то в далеком прошлом у Джонатана Кроуфорда была женщина. Женщина, которая родила ему сына. Ее звали Анной. Анной Черчилл. А сына?
Грифф не помнил.
Но и у меня тоже…
Не надо…
Когда-то в прошлом существовала женщина по имени Джейн Терри. Женщина, которая родила мне сына. Его имя я помню – Уилл. Уилл и Джейн.
– Займись мячом, Гриффин.
Он опустил глаза.
Как далеко этот мяч.
Он расставил ноги и принял стойку.
Два пробных замаха и…
О!
Да…
Совсем не туда.
Чертовы деревья.
Грифф резко отвернулся:
– Извини.
Джонатан помолчал, а потом подал ему чистый белый платок.
– Поверь, я сталкиваюсь с этим каждый день. Согласимся на ничью. Пошлем подальше восемнадцатую лунку и пойдем обедать.
– Хорошо, – отозвался Грифф. – Спасибо. – Он вытер глаза и высморкался. – Проклятое солнце. Всегда одно и то же.
– Ну-ну. – Джонатан улыбнулся и погрозил пальцем. – Мы же договорились: только правду. Это не солнце. Это Джейн и Уилл. Со мной тоже так бывает, когда я начинаю думать об Анне и Джейке и оплакивать их потерю.
Ах да, Джейк. Джейкоб.
Их сумки для клюшек стояли на электрокаре. Джонатан пристроил свою так и не использованную клюшку рядом с другими и положил мяч в карман.
– Никогда не видел смысла в этих карах. Разве что у человека случится инфаркт… Но сам я играю ради тренировки. И во имя исполнения обряда.
– Н-да, – ухмыльнулся Гриффин. – Обряда, разумеется.
– Забавно, – заметил Джонатан, поворачивая в сторону здания клуба. – Я совсем не ощущаю жары.
– Еще бы, – отозвался Грифф. – Это вполне естественно: сегодня понедельник.
Оба рассмеялись.
Над ними на небе не было ни единого облачка.
И все же…
Послышался гром. Неизвестно откуда.
4
Понедельник, 20 июля 1998 г.
Эта фотография Мейбел Терри была сделана в 1972 году, когда Джейн исполнилось десять. Ее мать со всеми своими четырьмя детьми снялась в студии, на фоне хитроумно освещенного фона из крепдешина. Они приехали на поезде в Новый Орлеан и переночевали в отеле «Гранд Плаца», чтобы, когда щелкнет аппарат, милые крошки выглядели свежими, как маргаритки.
Мастерская фотографа находилась в Гарден-Дистрикт, районе, который всем профессиональным художникам и людям искусства придавал налет декаданса высшей марки. Это выражение Джейн услышала много позже и решила, что оно прекрасно описывает тамошнюю атмосферу. В десять лет она видела только слишком людные, шумные улицы. А здесь в воздухе носились терпкие ароматы каджунской[28]28
Искаженное произношение слова Acadian (Cajun). Район каджунов расположен на юго-западе штата Луизиана и населен потомками акадийцев, колонистов из поселения Акадия во Французской Канаде, которые в XVIII в., во время войны с французами и индейцами, были сосланы англичанами в различные колонии Юга.
[Закрыть] и креольской кухни, и почти с каждого балкона на следовавшее мимо семейство Терри взирали кошки.
Лоретте было тогда тринадцать. Она только-только начала испытывать телесный дискомфорт. И еще страшно раздражалась из-за того, что мать одела ее по-детски: плотно стянула платком и сплющила наливающиеся груди и вплела в волосы ленту. Обе девочки были в бархате, обе – в туфельках «Мери Джейн», в завитушках волос – банты. А мальчики – в синих матросках и коротеньких штанишках. На ногах высокие, до колен, гольфы с раздражающими кожу резинками – Джейн ясно помнила, как Луций то и дело приспускал их вниз и чесал икры.
Сама Мейбел нарядилась в старомодное «чайное» платье. В таких в 30-е и 40-е годы светские дамы обычно восседали во главе стола за серебряным чайником в гостиных с закрытыми ставнями и потолочными вентиляторами.
Теперь, вставленная в паспарту и обрамленная в серебро, фотография поражала почти викторианской претенциозной изысканностью и стояла в студии Джейн на книжной полке на уровне глаз. Джейн словно демонстрировала, что не позволит фотографии себя запугать. Каждый раз, заходя в комнату или отрываясь от работы, она напоминала себе об этом, наталкиваясь взглядом на знакомое изображение.
И вот Джейн сидит за столом и снова смотрит на Мейбел, положив ладонь на нераспечатанный конверт.
Мать казалась нарочито безмятежной: не двигайся, сложи руки; если угодно, можешь улыбаться, только не показывай ни капли озабоченности, радости, гордости или разочарования. Не показывай ничего – она всю жизнь исполняла этот приговор. Просто существуй.
Ее увядающая красота была мастерски отретуширована и восстановлена, но ретушь не вытравила печати удивления и девичьих надежд в глазах. Они останутся на лице Мейбел вопреки всем страданиям. Мать так долго репетировала свою роль, что застывшая маска стала эмблемой ее места в общественном миропорядке. Эта Мейбел Харпер Терри принадлежит к избранным, читалось во всем ее облике – в положении рук с ухоженными, но не накрашенными ногтями, в развороте плеч, от рождения отделившем ее от «вульгарного мира», в линии подбородка – не опущенного, не задранного, но демонстрировавшего себя. Все это были необходимые и присущие ей отличительные признаки.
Складки платья без видимой нарочитости скрывали другие складки – чрезмерно пухлых рук и обвислой груди. Подстриженные и завитые за два дня до отъезда из Плантейшна волосы тщательно расчесаны и уложены, будто Мейбел была искусным парикмахером. А ее прямая спина выглядела так, словно была стянута платком, как у Лоретты.
Глядя на фотографию, Джейн сразу вспоминала голос, который все детство звучал в ее ушах: Ты должна слушать свою маму…
Джейн посмотрела на конверт.
Неужели умирает?
Мейбел Харпер Терри?
Нет, никогда.
Она не умрет. По крайней мере, пока существую я.
Или в письме что-то другое? Лоретта, Гарри, Луций?
Хочу ли я узнать? Нет, но придется.
Джейн вздохнула, налила вина, закурила и стала думать о родных.
Братья – старший Гарри и младший Луций – были ее близкими товарищами в детстве. А Лоретта, казалось, принадлежала иной семье – вроде троюродной сестры. Или другой дальней родственницы.
Но все они, безусловно, являлись персонажами какой-то пьесы Теннесси Уильямса или романа Карсон Маккалерс[29]29
Карсон Маккалерс (Смит) (1917–1967) – американская писательница. В ее произведениях отражены быт, умонастроения и психологический климат Юга США 30–50-х годов.
[Закрыть], стоило только вспомнить театральные монологи и бесконечные восторги матери по поводу прошлого. И пока дети, как могли, пробивались в будущее, ее голос слагал истории их жизней. Хотя сама Мейбел этого не сознавала, она могла бы послужить идеальной моделью Аманды Уингфилд из «Стеклянного зверинца». В июне Джейн ходила смотреть пьесу и буквально съежилась от страха – слава богу, пошла одна: Грифф в тот вечер был занят в «Много шума…».
Постановка оказалась яркой, трогательной и довольно красивой – Марта Генри играла Аманду с зажигательной смесью веселья и грусти. Единственным провалом оказалась девица, которая исполняла роль Лоры: вялая, бесцветная, – сплошное занудство. Но Джейн втайне порадовалась: уж слишком образ Лоры напоминал ей Лоретту.
Несколько лет назад Джейн видела Джули Харрис в нью-йоркской постановке «Зверинца». Когда-то эта самая Джули показалась ей олицетворением ее собственного взросления и разочарований. Это было в допотопном черно-белом фильме по роману Карсон Маккалерс «Участница свадьбы». В 1975-м или 1976 году Джейн смотрела его по телевизору поздно вечером, одна в доме, с полным стаканом сворованного из буфета виски «Джим Бим». Мейбел в это время умчалась куда-то спасать Лоретту, которая в очередной раз с помощью зубной щетки вызвала у себя приступ рвоты.
Черно-белый фильм…
Этель Уотерс и Джули Харрис…
Прекрати! Не углубляйся дальше… Ассоциации бесконечны. И ты со всем этим покончила.
Джейн чувствовала себя лично виновной в проблеме расовых взаимоотношений. Она была, по ее убеждению, белой южанкой с либеральными взглядами и стояла за чернокожих – привыкла, чтобы с ней считались, и, если требовалось, высказывалась во всеуслышание. Но теперь она жила на Севере, и ее чувства, к собственному неудовольствию, весьма переменились. Она по-прежнему отстаивала ту же точку зрения, но в глубине души думала иначе: Половина черных живут на пособие, живут за счет остальных, высасывают из Канады все соки, а сами палец о палец не хотят ударить – только жалуются, что до них никому нет дела…
Пожалуйста, хватит об этом!
И все же…
Я бы душу отдала, чтобы думать по-другому. Как это я дошла до подобных мыслей?
Джейн взглянула на фотографию.
Нам было не дано повзрослеть. Не дано созреть.
Зрелый человек не колеблется.
Вот они все пятеро: Мейбел, Лоретта, Гарри, Джейн и Луций. В смехотворной фотостудии со всеми этими софитами, пальмовыми ветвями и крепдешином.
Чуть вправо, малышка…
– Надо было отказаться, – проговорила Джейн вслух.
Глядя из сегодняшнего дня, Джейн находила Лоретту на фотографии такой печальной. Ведь Джейн знала, что было дальше – многолетняя погоня за физическим совершенством: Лоретта отказывалась от любой, дарованной ей надежды на счастье, воображая, будто сбрасывает лишний вес и свои огрубевшие формы. Она напоминала загнанного в угол зверька, который гложет собственную плоть.
А Гарри? Как насчет Гарри? На фотографии он казался очень строгим и добропорядочным, а ведь именно таким как раз поклялся не быть. Как и Грифф, он мечтал стать великим спортсменом, но занимался не хоккеем, а гольфом и теннисом. Джейн вспомнила, как он играл с Троем Престоном. Трой Престон умер. А Гарри?
Пропал.
Просто пропал.
Мы появляемся и пропадаем.
Мы чахнем.
Мы увядаем.
Кто это сказал?
Ты сказала.
Теперь Гарри исполнилось бы тридцать восемь. Где ты, Гарри?
Благослови тебя Господь.
Джейн перекрестила изображение брата.
Иди с миром.
А Луций?
Луциус. Луси.
Она громко рассмеялась.
Напяливал мою одежду… и попался, когда мама возвратилась домой и увидела его в своем серебристом вечернем платье и бальных туфлях, со своим японским красным лакированным веером, наряженного наподобие королевы масленичного карнавала.
Это в шесть лет.
Или в семь.
А сейчас?
Бог знает…
Мысль о СПИДе – даже только о слове, не говоря уж о самой болезни – заставляла Джейн ежедневно шепотом молиться за Луси и ставить за него свечу. И отгонять злых духов от него, в его серебристом наряде.
Можно написать книгу, подумала она, и назвать ее «Четыре маленьких Терри». О том, как мать губительно кроила их при помощи пары ножниц и ножа для резьбы по дереву. Три слепые мышки, плюс еще одна… Все желания умирали в душах детей, пока Мейбел убивала в них все живое. Но она так и не поняла, что существует определенный вид ненависти, которая помогает жить вечно.
Их ничто не уничтожит. Ничто не убьет – ни огонь, ни вода, ни рука преступника, ни общественное презрение, ни болезнь, ни что там еще бывает… Даже собственная мать. Нельзя разрушить их тягу к настоящей жизни – или, в случае с Лореттой, тягу к настоящей смерти.
Но родившись Терри, Терри и останешься – несмотря на разочарования, несмотря на отчаяние. С этим ничего не поделать.
И вот перед ней письмо Мейбел, и это означает, что обыкновенная Джейн Кинкейд снова превращается в Джейн Ору Ли – мою драгоценную Джейн Ору Ли, которая никогда доброго слова не напишет, Джейн Ору Ли, которая звонит только на Рождество и на Новый год, чтобы выразить соболезнования.
Соболезнования.
Джейн улыбнулась. В английском языке не существовало такого слова, которое Мейбел хотя бы раз не перепутала. Соболезнования на Рождество и поздравления на похоронах.
Такова уж моя мать.
Благослови Господь и ее. Она дала мне жизнь и то, что заменило любовь в мире, который прошел мимо Мейбел и оставил ее несчастной, практически бездетной вдовой, брошенной в пустыне непонимания. «Обмиллионенная», как она однажды выразилась о себе. Обмиллионенная, но одна со своим богатством и с этими бескрайними, насколько хватает глаз, хлопковыми полями. И что со всем этим делать?
Вот они, глаза Мейбел. В них добрые намерения и неусыпная строгость. Они смотрят на Джейн – и в аппарат, которому суждено поведать историю жизни и оставить изображение погибших амбиций в тусклой серебряной рамке.
Джейн отвернулась.
Не надо плакать.
– А почему не надо? – она бросила вопрос в пустоту комнаты. – Почему, черт возьми, не надо? Я только что произнесла реквием по своим родным. Хотя, насколько мне известно, ни один из них по-настоящему не умер.
Джейн посмотрела на фотографию, налила еще вина и вскрыла конверт.
Клауд-Хилл
Плантейшн
Воскресенье, 12 июля, 1998 г.
Ора Ли, дорогое дитя!
Я должна сообщить тебе самую печальную на свете вещь. Умерла твоя сестра Мари Луиза Лоретта Терри…
Джейн закрыла глаза.
Так…
Это было неизбежно.
Нам всем суждено умереть, Джейн.
Да. Но не такими молодыми.
Она опять вгляделась в фотографию.
Прощай.
Джейн встала. Ей было невыносимо оставаться рядом со снимком.
Забрала сигареты, допила то, что было в стакане, захватила бутылку и отправилась на заднюю веранду. Проходя через кухню, махнула Мерси письмом и бутылкой, которые держала в одной руке.
– Плохие новости. Иду на веранду – хочу побыть одна. Расскажу, когда вернусь.
– Конечно, конечно, – отозвалась Мерси. – Сочувствую.
Джейн удалилась на веранду.
Уилл был с Редьярдом в саду.
Не обращая на них внимания, она села.
Уилл отвернулся и пошел через боковую дверь на кухню.
– Мама на меня сердится?
– Что ты, милый, конечно, нет. Просто она получила письмо – плохие новости от бабушки. Давай оставим ее в покое. Возьми пепси. Мы можем поиграть в слова.
– Давай.
Они сели за кухонный стол и принялись играть.
А Джейн налила в стакан вино, закурила, сбросила туфли и, устроившись в шезлонге, снова развернула письмо.
Слава богу, она, по крайней мере, выбрала легкий способ уйти. Безболезненно, сама того не сознавая. Дешевое виски «Старая ворона» прямо из бутылки, – конечно, не из стакана, словно пить из стакана – обычай иностранцев; ничему подобному я ее не учила, но Мари Луиза Лоретта всегда все делала по-своему – и это тоже. Приняла пузырек таблеток, разлеглась на кровати, как королева, включила свою любимую музыку, заснула и умерла.
Ворона взлетела на ореховое дерево – хлопанье крыльев, будто знаки препинания. Конец предложения. Приговор Лоретте – и точка. Говорят, что отсутствие аппетита, или анорексия, – если и не болезнь, то очень серьезное отклонение от нормы. И этот недуг подчинил себе Лоретту, как оккупированную территорию – Лоретта и сама не знала, что сдалась, хотя капитуляция уже состоялась.
Лоретту обнаружил некто Недди Форсайт. Утверждает, что любил ее, но она ни разу не упоминала при мне этого имени. Я не слышала ни о каком Недди Форсайте, пока в тот день – в прошлую пятницу – не зазвонил телефон. В десять утра. Повторяю – утра. Не могу представить, что ему понадобилось в квартире Лоретты в такой час. Но он был там, и именно он нашел Лоретту. Мертвой.
Пришлось туда ехать и ждать, пока он откроет мне дверь, так как своих ключей у меня не было. Достаточно приятный на вид молодой человек, лет на десять моложе Ретты. Речь спокойная, даже любезная. Хорошие манеры. Заметно неплохое воспитание, хотя я не слышала ни о каких Форсайтах в Плантейшне. Вероятно, откуда-то приехал. С Юга или с Севера. Не исключено, что из Нового Орлеана или еще дальше – из Арканзаса. Говорит, как один из нас. Чувствуется мягкость и все такое…
Сиявшее над ореховым деревом солнце вытравило на белом небе все голубое – и на тысячи миль ни одного облачка. Такое небо теперь навсегда, подумала Джейн.
Ворона растопырила крылья и встряхнулась.
Она тоже так считает. Летала там наверху и все поняла. Добрая, старая ворона. Словно знает, о чем письмо, и явилась скорбеть со мной.
Джейн стала читать дальше.
Она лежала на кровати – Лоретта – поверх чего-то голубого – ее любимый цвет, как и твой. Все известные мне женщины семьи Терри обожали голубое. Наверное, дело в цвете глаз или чем-то подобном.
– У меня зеленые глаза, мама, – произнесла Джейн вслух. – Ну, да ладно.
Я сидела с ней одна – пять часов. Совсем одна. Встала только раз – поправить ей подол и снять с нее туфли.
Она так любила хорошую обувь и наряды – Лоретта. Ты же помнишь. Все эти платья и вся эта косметика – бесконечные прически и таблетки. И ее квартира – со всякими там финтифлюшками. И все ее тайные поездки в Новый Орлеан – будто мы о них ничего не знали.
А теперь – этот молодой человек. И сколько их было еще? Помнится, я как-то ей сказала: «Ретта, дорогая, я тебя не понимаю». Разговор происходил то ли два, то ли три, может даже четыре, года назад. Вот тогда я ей это сказала. А чего еще ждать от любящей матери, если ее девочка стала чужой – ничего общего с тем, как ее воспитывали и где она выросла.
И я ей сказала – так и сказала: «Мое дорогое дитя, – столько всякой обуви, а все равно несчастна».
Ни разу в жизни, ни единого разочка она не испытала счастья, сколько бы ни тешила себя этими тряпками и прочей мишурой. Никогда.
Так оно и было, Джейн прекрасно это знала.
А за несколько дней, может быть, за неделю, точно не помню, до того, как она взяла да и умерла, я ей сказала: «Радость моя, посмотри на себя, только посмотри: сорок лет, а худющая как палка – моришь себя голодом, не даешь себе даже переваривать пищу, запихивая в горло зубную щетку, гробишь себя чрезмерной худобой. Ради чего? – спросила я ее. – Почему? Почему? Зачем?»
Я хочу, Ора Ли, чтобы ты знала. И рассчитываю, что ты поймешь. Это не я довела ее до этого. Нет, не я. Она сама с собой это сделала. Но она была моим первым ребенком. А первый ребенок – всегда золотой. Так что я оплакиваю смерть моей золотой девочки так же, как радовалась ее рождению. Она ушла. Она умерла. Я ее потеряла. Но у меня по-прежнему есть ты.
Я каждый день молюсь за тебя. И за нее. И я надеюсь, что ты тоже будешь за нее молиться – за свою сестру Мари Луизу Лоретту. Пойди и поставь свечи, как мы с тобой уже делали раньше. За нее и за меня тоже.
Твоя любящая мать
Мейбел Терри.
P. S. Вердикт коронера: «Смерть в результате несчастного случая».
Джейн сложила письмо, убрала в конверт, выпила вино, налила в стакан еще и закурила.
«Смерть в результате несчастного случая». Что ж… По крайней мере, настоящая причина не названа.
Ворона что-то сказала.
Джейн подняла глаза.
Вот она сидит, самодовольная, – предводительница своего племени, лоснящаяся, великолепная голова в профиль – все помыслы вечно только о безопасности, которую представители животного мира не могут гарантировать ни себе, ни своим детям.
Мы тоже животные, подумала Джейн. Биологически.
Ворона покосилась на нее.
Теперь она меня знает – так же, как я ее.
Мы живы.
А Лоретта умерла.
Ворона что-то снова выкрикнула.
Имя врага. Или, может быть, жертвы. Пища. Жизнь и смерть в одном слове: сова.
Как бы слово «сова» ни звучало по-вороньи.
Джейн улыбнулась. Потом посмотрела на огонек сигареты.
«Поставь свечи, как мы уже делали раньше» – говорилось в письме.
Обязательно.
Два года назад Мейбел единственный раз приезжала из Плантейшна. «Я становлюсь слишком стара для путешествий, – сказала она. – В аэропортах всегда умудряюсь заблудиться. И на этот раз чуть не опоздала на самолет. Благодарение богу, один любезный молодой господин подвез меня на электрической тележке, какими пользуются при игре в гольф. Не потеряла день».
Мейбел гостила неделю. «Я чуть не распрощалась с жизнью от этой вашей навевающей тоску по дому жары, – призналась она. – А ведь надеялась, что здесь, на Севере, такого не бывает». В последний день ее визита они отправились в церковь Святого Иосифа поставить свечи и больше часа не поднимались с колен. Мейбел не переставала молиться, упрашивая Господа, святого Иосифа и Преподобную Деву Марию позаботиться о душах покойного мужа и четверых своих детей.
«И не забывай ставить свечи за Ору Ли и Мари Луизу. Я дала вам с Реттой их имена, потому что они наши богобоязненные предки и благословляют нас своим заступничеством».
Хорошо, мама.
Когда Мейбел предложила пойти в церковь вместе, Джейн запаниковала. Она даже не помнила, где ее четки и есть ли у нее подходящий платок, чтобы покрыть голову. Она так редко посещала храм, что имя священника пришлось выяснять заново. Преподобный Малачи.
– Почему они все ирландцы?
– Потому что ирландцы идут в священники, если не могут найти другой работы, – объяснила Мерси.
– Если бы я не любила тебя, то решила бы, что ты злая. Ты говоришь жуткие вещи.
– Правда никогда не бывает доброй. Поэтому мы не очень хотим ее знать.
– Верно, – улыбнулась Джейн. – Тебе надо когда-нибудь написать книгу.
– О чем?
– Господи! Ты просто безнадежна!
После часа молитвы и слез Мейбел поднялась с колен и обратила глаза к алтарю. А Джейн едва держалась на ногах – у нее нестерпимо болели колени.
Еще трое или четверо прихожан стояли поодаль друг от друга на коленях, углубясь в молитвы или просто глядя на алтарь.
– Почти так же мило, как у святого Августина, дома в Плантейшне… Может быть, не совсем, но почти. Ты хорошо расплатилась за свечи?
– Да, мама. Я положила двадцать долларов.
– Что ж, это достойная лепта. За наши души ничем не расплатиться, но приходы всегда нуждаются в пожертвованиях.
– Да, мама.
Джейн в конце концов повязала голову синим шифоновым шарфом. А на Мейбел была простая, без всяких украшений, черная соломенная шляпка. И черное платье. Она не надела даже свой жемчуг. Только взяла четки – черные бусины с серебряным распятием.
– Как ты думаешь, я могу поговорить со священником?
– Скорее всего, нет.
– Почему? Разве ему не положено быть здесь?
– У него есть другие обязанности. Ты же знаешь – как всегда у священников: страждущие прихожане, посещение больниц – молитвы с больными и за больных, деловые встречи…
– Да, да, конечно… вечное добывание денег… Дома то же самое.
Они направились к дверям, преклонили колени, благочестиво окунули пальцы в сосуд со святой водой, перекрестились и вышли на солнце.
– О, благословенное, благословенное солнышко! – провозгласила Мейбел. – Даст бог, послезавтра я буду гулять в саду в Клауд-Хилл и пересчитывать мои розы. Хорошо бы ты как-нибудь взяла своего золотого сыночка и вечно отсутствующего мужа и приехала в Плантейшн, погуляла бы со мной, днем и вечером, пока еще светло.
Она пристально смотрела на раскинувшийся у подножия лестницы город и перспективу Гурон-стрит, так же, как, новобрачной, возможно, глядела вперед, готовясь сделать шаг в предстоящую ей жизнь.
– Знаешь, Джейн Ора Ли, я теперь ни с кем не гуляю. Никогда. Похоже, мои прогулки закончились. И мне этого не хватает. – Она посмотрела на Джейн так, как смотрят на матерей дети, а не матери на детей. – Мне не хватает тебя, Джейн Ора Ли. И всех моих малышей. Всех четверых.
На мгновение Мейбел прикрыла глаза.
– Мне нравятся утопающие в зелени улицы, – проговорила она. И повернулась к Джейн: – А теперь дай мне руку. По крайней мере, хоть прогуляюсь с тобой вниз по лестнице. Спуск такой длинный, а я всегда боялась упасть.
Джейн взяла мать под руку, и они двинулись вниз – сначала по ступеням, а потом, оказавшись на улице, повернули за угол и прошли еще полквартала до места, где стояла «субару».
Джейн вдруг поняла, что после этой встречи она, скорее всего, никогда больше не увидит Мейбел.
И, прощаясь в пятницу, догадалась: мать тоже понимает это.
– Спасибо, что позволила мне приехать, – сказала Мейбел.
– Я рада, что ты приехала, мама, – ответила Джейн. – Действительно рада. Я по тебе скучаю, – как бы это дико ни звучало, она говорила правду. – Счастливого пути. Я стану каждый вечер молиться за тебя.
– Молись особо за сестру Ретту, – отозвалась Мейбел. – Она в этом очень нуждается, дорогая. Чтобы достучаться до Господа после всего, что она с собой сотворила, после всей ее сумасшедшей жизни – для этого надо очень много молиться.
И наконец:
– До свидания, Ора Ли.
– До свидания, мама.
Последнее объятие – и несколько шагов до нанятой машины, где у открытой дверцы поджидал шофер Джон.
Мейбел забралась внутрь.
Джон захлопнул дверцу и сел на водительское место.
Мерси стояла на переднем крыльце – она уже попрощалась с Мейбел в доме.
Уилл и Редьярд смотрели из окна второго этажа.
Мейбел послала воздушный поцелуй, прощально взмахнула рукой, и машина тронулась.
А Джейн так и осталась стоять на дорожке.
Ее плечи дрожали.
Мерси спустилась с крыльца и обняла ее.
– Извините. Извините. Извините, – повторяла Джейн.
– Это ничего, – успокоила ее Мерси. – Это вполне естественно. Да, она уехала – но разве не чудесно, что ей оказалось под силу такое путешествие. Возможно, последнее в ее жизни, но, готова поспорить на любые деньги, самое для нее важное.
– Вы, конечно, правы. Мне только жаль, что остаток жизни ей придется провести в одиночестве.
– Да, но… разве не это ждет нас всех, когда дело дойдет до конца? – Мерси усмехнулась.
Они направились к дому, и, к тому времени как подошли к двери, Джейн уже смеялась.
5
Среда, 22 июля 1998 г.
– Здорово, что мы с тобой вот так уединились, – сказала Клэр. – Всем наверняка будет жутко любопытно, о чем это мы секретничаем.
– Да.
– Перестань, черт тебя побери, отвечать односложно.
– Что?
Клэр расхохоталась.
– Что тебя так рассмешило? – поинтересовалась Джейн.
– Я попросила тебя не отвечать односложно, а ты сказала «Что?».
Джейн отвернулась.
– Хорошо, – уступила Клэр. – Так о чем мы с тобой говорим?
– Обо мне.
Клэр успокоилась и откинулась на спинку стула.
Джейн удалось занять в обеденное время в «Балди» лучший столик – в уединенной нише чуть ниже по лестнице.
«Балди» оказалось вполне подходящим названием для этого места. Как однажды выразилась Клэр: «Забалдеть здесь легче легкого». Это было небольшое, почти интимное заведение над очень дорогим, но весьма популярным рестораном «Черч». В 70-е годы его открыл великий Джо Мэнделл, но как только дела в «Балди» и «Черч» пошли на лад, он занялся другими вещами. «Так уж устроен мир, – говаривал Джо. – Нельзя требовать от актера, чтобы он всю жизнь играл одну и ту же роль».
Перед представлением здесь любили поесть зрители, а после того как опускался занавес, собирались актеры. Предпочитали «Балди», где можно было хотя бы до некоторой степени укрыться от посторонних взглядов.
Джейн пригласила Клэр пообедать только в этот же день утром: Если ты занята, освободись.
Клэр с удовольствием отменила встречу с человеком, которого на самом деле не очень хотела видеть. И ждала у своего дома на Шрузбери, снедаемая любопытством – с чего такая срочность. По телефону она вопросов не задавала. Обычная для Джейн Кинкейд история: «Бросай-все-ты-мне-нужна». Отказать ей было немыслимо.
– Поедем на моей машине, – предупредила Джейн. – Мне надо забрать свое барахло из театра.
Что бы это ни значило.
И вот они сидели друг против друга: Джейн – очевидно, в спешке – оделась несколько небрежно, зато Клэр была элегантна как всегда: в коричневатых и жемчужных тонах, очень темных солнечных очках и без драгоценностей – только обручальное и свадебное кольца, часы и серебряная пряжка. И еще – серебряная зажигалка «Данхилл», которой она только что щелкнула.
Посмотрела, как затянулась Джейн, закурила сама, выпрямилась и сказала:
– Так-так, дорогая, у тебя дрожат руки. Значит, что-то серьезное.
– Да.
– Выпьешь?
– «Вулф Бласс» с желтой этикеткой.
– Никаких коктейлей?
– Только «Вулф Бласс».
Клэр одним движением пальца привлекла внимание официанта – у Джейн никогда так не получалось.
– Бутылку «Вулф Бласс» с желтой этикеткой. Откройте бутылку для миссис Кинкейд, а потом мы допьем вино под еду. Мне – двойную водку с мартини, безо льда, с ломтиком лимона.
Клэр сняла темные очки и, не убирая в футляр, оставила на столе.
Джейн развернула салфетку и разложила у себя на коленях – карта без границ: некуда идти и негде скрыться. Пустыня пустоты. Вот здесь я теперь живу, подумала она.
Клэр стряхнула пепел с сигареты в cendrier из хрусталя. Она любила это слово, сама не зная почему. Клэр копила слова, как скопидом, говорила, что любит «раскладывать их по сундучкам». Каждый год они с Хью проводили два месяца во Франции, наезжая оттуда в Италию и Испанию, – все это было связано с их любовью к образам, выраженным через визуальные виды искусства или в словах. Язык есть язык – кому какое дело до его происхождения. Некоторые слова во французском, испанском или итальянском звучали намного красивее, уместнее и точнее, нежели их английские аналоги. И Клэр ими просто упивалась. «Пепельница» – это слишком приземленно. A cendrier — убедительно, изящно, элегантно. Итак, она стряхнула пепел в cendrier.