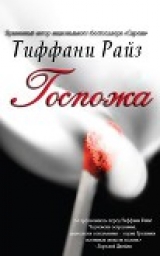
Текст книги "Госпожа (ЛП)"
Автор книги: Тиффани Райз
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
Глава 19
Королева
Нора лежала на полу и смотрела на дверь. После позднего ужина с Мари-Лаурой, Андрей проводил ее в комнату, запер и как обычно предупредил, если она попытается что-то предпринять, Деймон будет ждать ее прямо за дверью, готовый пристрелить – или того хуже. Смерть ждала ее за дверью. Она едва замечала остальную комнату. Шаги в коридоре привлекли все ее внимание.
Шаги затихли, и Нора заставила себя дышать, расслабиться. Осторожно она встала с пола и попробовала открыть окно. Конечно же, это была пустая трата времени. Элизабет со своим адским детством, обезопасила дом для детей с абсурдной тщательностью. Будь у Норы бита, она бы все равно не смогла разбить стекло. И кто-то, Андрей или Деймон, любезно приколотили дерево к раме. Она была в ловушке. Ничего не остается, кроме как ждать и молиться день напролет.
И планировать.
К тому же пока она верила в силу молитвы, она верила в существование запасного плана, на случай если Бог захочет, чтобы она подняла свою задницу и сделала все сама. Планы побега... это была ее специальность. Дочь человека, который обедал с мафией, она рано поняла, что мир был уродливым, опасным местом, полным мужчин со стволами, которые погладят тебя по головке, назовут милым ребенком и затем уйдут, и убьют кого-то, совершившего фатальную ошибку, перейдя им дорогу. Подонки этого мира были лучшими друзьями ее отца и одновременно его худшими врагами.
Так что даже будучи в нежном возрасте одиннадцати лет она начала все понимать. Правильно изогнутый крючок от вешалки, мог открыть дверь машины меньше чем за секунду. Крошечный шарик от подшипника, зажатый между двумя пальцами и направленный в центр стекла, мог разбить его на тысячи кусочков. Этот провод к этому проводу, и машина заведется, ключ не обязателен, и не нужно никакого разрешения.
Они не связали ее, прежде чем запереть в комнате. Нет причин беспокоиться, если она не сможет выбраться через дверь, окно или потолок. В ловушке... она была в ловушке в этом доме, который был домом кошмаров для подрастающего Сорена. Он едва не умер в этом доме, в тот день, когда его отец застукал его с сестрой в библиотеке. Он едва не умер, а теперь эта участь может постичь ее.
Нет. Она не поддастся этим катастрофическим мыслям. В конце концов, она была Госпожой, а не какой-то отчаявшейся девицей, ожидающей принца на белом коне, который прискачет и спасет ее. Сорен научил ее быть сильной. Любая женщина, разделяющая постель с садистом, должна быть сильной.
Эти мысли взбодрили Нору, и она медленно перекатилась по полу.
Постель садиста...
В комнате, куда они бросили ее, не было кровати, но, очевидно, она здесь была раньше. Нора увидела горки пепла на полу, почерневшие стены и потолок, уловила запах жженой древесины и ткани. И тогда она поняла, что уже была в этой спальне. Поднявшись на ноги, Нора подошла к двери. Она даже не потрудилась прикоснуться к дверной ручке. Одно подергивание, и Деймон скорее всего начнет стрелять. Нет, она не пыталась выбраться... ей просто нужно было вспомнить.
В ночь, когда она впервые посетила эту комнату, ей было семнадцать. Два года она страстно желала своего священника, любила его, повиновалась каждому его приказу, который он отдавал под прикрытием общественных работ, которые предписал ей судья Хакнесс. Все это время она подозревала... что-то. Она и понятия не имела что именно, но понимала, что знала и понимала, что Сорен тоже знает. Ей было невыносимо годами жить, держа язык за зубами. Ее нутро подсказывало, что каким-то глубинным способом, который она не могла постичь, Нора принадлежала Сорену. Даже если он ни разу не прикоснулся к ней, ни разу не поцеловал ее, ни разу не занялся любовью с ней, это ничего не меняло. Она принадлежала ему. Она знала это.
И он тоже. Но так было до тех пор, пока его отец не умер и он, наконец, не ощутил себя в безопасности, чтобы рассказать ей правду. Он рассказал ей... именно в этой комнате.
Нора стояла у двери с закрытыми глазами, и, когда снова их открыла, она увидела стул у окна... увидела Сорена, моложе, чем она была сейчас, молящегося в своей детской, его золотистые волосы, словно нимб, сияли в лунном свете. Пересекая комнату, Нора вдохнула воспоминания о той ночи – стоя на коленях у ног Сорена, свернувшись клубочком на его коленях, в окружении его рук. Он обнимал ее ранее: когда ее отца приговорили к тюремному заключению, когда ее мать отвернулась от нее в последний раз – но все предыдущие разы, он обнимал ее как священник, заботливый друг, утешающий встревоженную девушку и не более. В ту ночь он обнимал ее как любовник. Он спросил, хочет ли она знать правду о нем, о них, и произнес самые строгие предупреждения о том, что ее жизнь больше никогда не станет прежней, если она позволит ему рассказать правду.
И на это предупреждение она просто ответила:
– Расскажите мне.
– Расскажите мне... – сказала она пустой комнате. Но нет, не полностью пустой. Кровати не было. Оказалось, кто-то сжег ее и оставил сгореть дотла, оставив сажу, ожоги и пепел. Да, даже остатки пепла змеями ползли по стенам и поднимались к потолку, вокруг слов, которые кто-то, скорее всего Элизабет, пыталась стереть, но так и не смогла.
Любовь сестры твоей.
– Больная сука, – Нора подняла руку и провела пальцем по словам на стене. Как посмела Мари-Лаура высмеивать Сорена и Элизабет за грехи их детства, грехи, за которые Бог ни в раю, ни на земле не сможет наказать их?
В ночь похорон отца Сорена он признался ей в своих самых темных секретах, и она слушала в полном молчании и ужасе, но в ужасе не от его поступков, а в ужасе за то, что этот мужчина, которого она всецело любила, пережил. Она никогда не забудет, как он отвернулся от нее и посмотрел на луну. Слова, которые он произнес... она хотела взять их в ладони, зажечь и смотреть, как они сгорают, пока не перестанут отдаваться эхом в ее ушах.
– Я как он, как мой отец. Я получаю величайшее удовольствие от причинения боли. Элеонор, ты даже представить не можешь, что я делал со своей сестрой... что она делала. Я не хочу, чтобы ты представляла... Пожалуйста, – умолял ее Сорен, – пожалуйста, никогда не представляй. – И ради его блага и блага Элизабет, она ни разу не пыталась представить.
Но сегодня, она понимала, что должна представить.
– Сорен, – прошептала она его детской. – Пожалуйста... не подведи меня. Если я хоть наполовину знаю тебя так хорошо, как и ты меня...
Она начала осматривать комнату, где Сорен потерял свою девственность с Элизабет, со своей сводной сестрой, комнату, где он впервые начал изучать странные темные желания, с которыми был рожден. Она знала себя. Она знала свое прошлое. Будучи юным подростком, она часто обжигала себя свечным воском, вырезала мелкие узоры на коже иглами – игры, это были просто игры. Вызовы. Дерзости. Игра на слабо с самой собой. Все они начинались в юности. Первыми жертвами садистов были их собственные тела. Первыми садистами у мазохистов были они сами. Симона, одна из любимых сабмиссивов Сорена, однажды призналась, что играла в Ковбоев и индейцев с братьями только потому, что те всегда связывали ее по время игры. Она до сих пор стыдилась сексуального возбуждения, которое испытала, когда старший брат привязывал ее к ножкам родительской кровати. Когда игра заканчивалась, она исчезала в уединении собственной спальни, связывала себя, оставляя лишь одну свободную руку, чтобы мастурбировать.
Невинные детские игры...
Нора опустилась на четвереньки и проползла вдоль плинтуса в поисках шатающейся доски. Ничего. Над верхней частью оконной рамы она нашла только пыль. В комнате было не много мебели, лишь остатки кровати и книжный шкаф.
Книжный шкаф.
Опустившись на колени перед полками, Нора пробежалась глазами по книгам. Они выглядели нетронутыми, непрочитанными. Сорен почти все детство, с пяти до десяти лет, провел в Англии в школе-интернате. Книги скорее были украшением в этом доме, где каждая улыбка была не более чем шоу. Сорен вернулся в дом в одиннадцать, после того как убил мальчика, который напал на него в постели.
Нора изучала названия книг, память перебирала давний разговор между двумя людьми, которые еще не были любовниками.
– Тебе нужно стоп-слово, Элеонор.
– Я доверяю вам.
– Это все хорошо, но я не до конца доверяю себе. Выбери слово, и я вырежу его у себя на сердце, и когда ты его произнесешь, будешь знать, что я должен остановиться. В противном случае существует большая вероятность, что я не остановлюсь, даже если ты будешь сопротивляться, особенно если ты будешь сопротивляться.
Она вспомнила самый первый стих, который она выучила, будучи ребенком. Слова были полной бессмыслицей и все же они с легкостью слетали с языка. «Варкалось. Хливкие шорьки...»2.
– Бармаглот, – сказала Нора в возрасте восемнадцати лет, в тот день Сорен начал тренировать ее. – Я всегда любила монстров.
– Он всегда был моим любимым монстром, – ответил Сорен.
И Нора, тогда еще Элеонор, вспомнила, как улыбнулась ему, как целовала его...
«Ты мой любимый монстр», – сказала она в его губы.
Игнорируя все книги на полках, Нора осторожно выдвинула золотообрезный в твердом переплете экземпляр «Алисы в зазеркалье» и положила его на колени.
Я вырежу его на сердце...
Нора закрыла глаза и позволила книге раскрыться.
Она посмотрела на книгу, и слезинка покатилась по ее щеке и упала на бумажного монстра.
– Ох, Сорен, – прошептала она, любовь и тоска воевали за ее сердце. Любовь к мужчине, и боль за мальчика. – Бедный маленький мальчик, спасибо тебе.
Книга раскрылась именно на Бармаглоте. И причиной тому было бритвенное лезвие, которое тридцать шесть лет назад спрятал ребенок между страницами. Нора взяла лезвие из книги и посмотрела на него под светом. Бескислотная бумага отлично сохранила его – никакой ржавчины, никакого гниения. Сейчас оно было таким же острым, как и в день, когда Сорен спрятал его в книге, спрятал после использования на своей сестре... или, еще хуже, на себе.
Она вернула книгу туда, где нашла ее. Будь у нее слиток чистого золота, он бы ощущался менее ценным, чем эта серебристая сталь, которая могла освободить ее из веревок, которые привяжут ее к постели Мари-Лауры ночью, или, возможно, даже спасти от нападения. Правильно направленное, оно могло перерезать сонную артерию, бедренную вену. Если Толстяк и Малыш сообразят, она могла отрезать им яйца и затолкать их в глотки. Она улыбнулась, представляя это. Больше никаких пораженческих мыслей. Она переживет это, чтобы увидеть, как ее похитители расплачиваются за свои преступления. Она будет жить, чтобы увидеть, как они умирают.
Новая драгоценная надежда пробурила отверстие в ее сердце. Она спрятала ее там, и позволила ей там обосноваться. Тридцать шесть лет назад измученный маленький мальчик спрятал лезвие внутри этой книги и тридцать шесть лет спустя женщина, которая выросла с любовью к нему, нашла его в тот момент, когда она больше всего нуждалась в нем. Лезвие в ее руке ощущалось чудом, знаком, спасением. Она спрятала лезвие в задний карман, куда могла залезть, даже со связанными руками.
– Боже, спасибо, – она помолилась с самой глубокой, с самой искренней благодарностью, которую когда-либо испытывала. Даже в ту ночь, когда убили ее отца, и она поняла, что теперь свободна от него и его рода навсегда, она не ощущала этой бесконечной неизмеримой благодарности. – Спасибо за то, что сделал его таким… спасибо.
Как она не могла поблагодарить Бога сейчас? Сорен признался, что были времена, когда, будучи ребенком и подростком, он спрашивал Бога, почему тот сделал его таким, сделал таким, что он получал величайшее удовольствие, причиняя самую жестокую боль. Теперь она знала причину и не могла дождаться, когда увидит его снова, не могла дождаться, чтобы поскорее рассказать ему.
Бог создал Сорена таким, чтобы он оставил здесь этот драгоценный подарок для нее, за три года до ее рождения.
Часть третья
Королевский гамбит
Глава 20
Пешка
Наступил вечер, и Лайла поняла, что сойдет с ума от ожидания. Ее дядя и Кингсли что-то задумали, и что бы это ни было, ей не позволят в этом участвовать. Она бродила по дому, в который их привезли, и нашла чем себя развлечь. Прекрасный дом, отлично обставлен и, несомненно, любим. Девушка нашла один розовый носочек в коридоре перед комнатой, которую ей выделили. Носочек маленькой девочки... Лайла смотрела на него, пока, наконец, не подняла и не отнесла в прачечную. Она чувствовала себя незваным гостем в этих комнатах и коридорах. Они принадлежали детям. Любовь должна наполнять каждую комнату. Но вместо нее Лайла ощущала лишь страх.
Зная, что он запретит ей выходить из дома, Лайла даже не сказала дяде, что решила прогуляться. Она оставила записку на кровати, если он начнет искать ее, и ушла. Но не успела дойти до конца подъездной дорожки, как услышала позади себя шаги.
– У тебя слишком длинные ноги. – Уес прибавил шаг.
– Прости, – ответила она и улыбнулась ему, когда он догнал ее в конце длинной дорожки. – Я попытаюсь их укоротить.
– Я привык ходить с Норой. Забыл, что не все женщины на планете креветки.
– Когда хочет, она может очень быстро ходить. – Лайла снова пошла вдоль дороги, обсаженной деревьями. – Но никогда не проси ее...
– Бегать. Знаю. Она ненавидит бегать. Сказала, что у нее аллергия на бег. У нее большой список аллергий.
– Да. Давай вспомним, там... готовка.
Уес кивнул.
– У нее определенно аллергия на готовку. Все, что требует больше двух ингредиентов или, как она называет, выпивки и рюмки, заставит ее сдаться и заказать еду на вынос.
– Уборка, – вспомнила Лайла.
– И это тоже. До того, как я переехал к ней, она отпугнула шесть горничных
– Шесть? – Лайла осмотрелась, отмечая прекрасный августовский вечер, проникающий сквозь деревья свет заходящего солнца, и этого парня, идущего рядом с ней. Она хотела, чтобы они хоть немного насладились вечером, но страх сковывал ее сердце в неумолимой хватке. – Почему так много?
– Эм... – Уес поморщился, и Лайла поняла, что нечаянно наткнулась на запретную территорию.
– Дай угадаю... Я не захочу этого знать.
– У нее есть дурная привычка не убирать за собой одежду.
Лайла раздумывала говорить или нет Уесу то, что хотела сказать. Почему бы и нет. Дядя пытался защитить ее от правды о нем и ней, но этого никогда не делала ее тетя.
– Я читала ее книги. Тебе не нужно притворяться что она... ну ты понимаешь...
– Нормальная? – продолжил Уес.
– Ванильная, – ответила Лайла. – Прочитай хоть одну ее книгу и узнаешь много нового.
Уес вздохнул с очевидным и абсолютным облегчением.
– Слава Богу. Я не был уверен в том, что ты знаешь, а что нет.
– Я знаю достаточно, чтобы ходить вокруг ее спальни без бронежилета.
– Все не так плохо, честно. Я жил с ней. Большинство своих вещей она хранит в шкафу. Иногда я нахожу карабины между подушками дивана. Однажды я случайно сел на колесо Ватенберга. Болючая штуковина. И она порвала мои джинсы.
Лайла рассмеялась, и звук срезонировал от дороги и разлетлся среди деревьев.
– И у нее есть большая сумка, – сказал Уес, разводя на три фута руки. – Большую часть времени она находится в ее кабинете. Нора сказала мне не открывать ее, иначе я больше не захочу смотреть ей в глаза.
– Ты открывал ее?
– Неа, – он помотал головой, и сердце Лайлы подпрыгнуло, последний лучик заходящего солнца осветил волосы Уеса. Она ощутила самое непреодолимое желание провести ладонью по его волосам. Но сдержалась. Ему, скорее всего, не понравится, что какая-то девушка, которую он едва знает, взъерошит ему волосы. – Мне нравится смотреть ей в глаза.
– Думаю, я бы все равно смогла смотреть ей в глаза, даже после открытия сумки. С другой стороны, мой дядя... – Лайла понизила голос и поняла, что покраснела...
– Думаю, ты и о нем знаешь. – Уес скрестил руки на груди.
Лайла кивнула.
– Ну, если она такая, значит и он такой. В противном случае они бы не были так долго вместе. Я даже случайно слышала их. – Случайно? Не совсем, но ему не обязательно знать об этом.
– Однажды я подслушивал за своими родителями. Боже мой, я думал, что больше не стану нормальным.
– Мои родители развелись, когда я была маленькой. Думаю, мне бы понравилось то, что мои родители настолько влюблены друг в друга, что иногда можно услышать их в постели.
– Мне жаль. Да, думаю, лучше слышать, как родители занимаются сексом, чем вовсе не слышать. Сколько тебе было, когда они разошлись?
– Шесть. Гитте – два. Они не подошли друг другу, так сказала мама. Никто из них не сделал ничего плохого. Между ними не осталось ничего общего. У нее была хорошая работа и деньги, поэтому мы остались в доме, а он съехал. Min onkel Сорен пытался вмешаться, но это было сложно сделать через океан. Он постоянно звонил, проверял нас.
– Min onkel?
– Мой дядя Сорен, – поправила она себя. – Прости.
Уес лишь улыбнулся.
– Не извиняйся. Серьезно. Мне нравится, когда ты переходишь на датский.
Лайла покраснела, словно он сделал комплимент ее груди, а не словам. Раз они были на улице, может он не заметит в солнечном свете, как она краснеет от одного разговора с ним.
– Случается, когда я устаю. Прыгаю туда-сюда.
– Нам лучше вернуться, если ты устала.
Она покачала головой.
– Нет, еще нет. Я не хочу возвращаться. Там слишком...
– Знаю, – тихо ответил он, посмотрев мгновение на солнце, и затем перевел взгляд на нее. – Все так напуганы, и все становится еще хуже, когда мы рядом, пугаем друг друга еще больше.
– Сложно быть рядом с ним, – ответила она. – С дядей. Он так сильно ее любит, и я не могу ему помочь. Даже не могу смотреть ему в глаза... Невыносимо видеть его таким напуганным. Даже не помню, когда видела его таким напуганным. – Лайла сошла с дорожки и направилась в подстриженную рощицу.
– Никогда?
Уес следовал за ней. На поляне она нашла поваленное дерево и села на него.
– Не думаю, что что-то может его испугать. Все плохое, что происходило, он всегда стойко выдерживал, оставаясь спокойным. Однажды Гитта упала и ударилась головой о камень. Столько крови... Никогда так много не видела. Мы все кричали и плакали. Он заставил ее рассказать о дне в школе, и что она узнала за эту неделю. Что угодно, чтобы успокоить ее и удержать в сознании. В тот день я поняла, что он отличается от нас.
– Как отличается? – Уес сел рядом с ней на бревно. Он привстал и сел поудобнее, и Лайла заметила, как на его руках сокращаются мышцы. Ей нужно прекратить замечать подобные вещи.
– В Дании нет католиков. Это светская страна. Никто не ходит в церковь. Думаю, в тот день я поняла, что он католик и верит в Бога... он верит, что есть некая высшая сила, которая заботится о людях. У него есть вера, и она успокаивает его, когда все остальные боятся.
– Странно иметь дядю священника?
– И да, и нет. – Лайла посмотрела на темнеющее небо. – Так привыкла к этому, что странно ощущается, когда перестаю думать об этом. Когда смотрю что-то по телевизору о Папе или Риме, то думаю «он один из них...»
– Он не один из них. У священников не должно быть девушек.
– Девушка – не самая странная часть. Если бы ее у него не было, вот тогда было бы странно. Какой мужчины выберет одиночество, если может быть с ней?
– Ни один мужчина в трезвом уме.
Лайла пыталась улыбнуться, но Уесли не посмотрел на нее. По какой-то причине казалось, будто он пытался что-то от нее скрыть. Но он вновь посмотрел на нее.
– Я не осуждаю его за любовь к ней. Просто хочу, ради ее же блага, чтобы она не была влюблена в него, – неуверенно произнес Уесли, словно не хотел обидеть Лайлу.
– Не говори ему об этом, – девушка поняла, что перешла на шепот, – но я думаю так же.
– Да? – Уес посмотрел на нее полными удивления глазами. – Я думал...
– Я люблю его. Очень. Он был отцом мне и Гитте, после того как наш ушел. Но я люблю свою тетю тоже и не могу представить, как ей тяжело.
– Тяжело?
– В нашем доме, в Копенгагене, она его жена. Мы заботимся о ней как о члене семьи, потому что так и есть. Но в других местах, она просто его...
– Любовница, – закончил за нее Уес, и она была тому рада. Для нее это слово было предательством.
– Да, любовницей. Она говорила, что влюбилась в него, когда ей было пятнадцать, и любила его каждый день с момента их встречи. Уже прошло почти двадцать лет. И ни разу у него не было возможности публично заявить, что они вместе. Она – его грязный секрет. Она – то, что он должен скрывать. Когда я узнала, что она ушла от него, то не удивилась и не злилась. Мне было грустно, но я понимала почему.
– Я рад, что ты поняла, – сказал Уес. – Я не хотел, чтобы она к нему возвращалась. По многим причинам. Мне кажется, она считает меня плохим, потому что я не хотел, чтобы у нее были такие отношения. Она заслуживает лучшего.
– Так и есть, – согласилась Лайла. – И он пытался дать ей больше.
– Что ты имеешь в виду?
– В последний раз, когда она навещала нас, мы с тетей Элли отправилась на прогулку. Я спросила ее, почему они с дядей так и не поженились. Сказала, что сочувствую ей, потому что она не может стать его женой. Я спросила, злилась ли она на него за то, что он не бросает свою работу и не женится на ней.
– И что она ответила?
– Сказала, что служба священником – то же что и быть писателем, целителем или родителем. Это призвание, а не работа. Это не то, что ты делаешь, а то, кем ты являешься. И она больше не будет просить его оставить священство, как и он не будет просить ее оставить писательскую деятельность или просить мою маму перестать быть мамой. Сказала, что для католиков священство было таинством. Священство заложено в его ДНК. Она любила его, и он был священником, и, если он оставит священство, то больше не будет собой. Он отринет такую часть себя, что в нем не останется ничего, что можно любить. И тогда она сказала мне то, чего я никогда не знала...
– Что же? – спросил Уес, цепляясь за каждое произнесенное ею слово. У Лайлы никогда не было никого, кто так внимательно ее слушал.
– Она сказала, что я не должна осуждать его за то, что он не уходит из церкви и не женится на ней. Он предлагал однажды, и она отказалась.
Уес замер. Казалось, он даже не дышал. Почему интимная жизнь ее тети и дяди так много значили для него, она не могла понять и не хотела. Но она не была глупой. Очевидно, у Уеса были чувства к ее тете. И, казалось, это было больше, чем влюбленность.
– Он просил выйти за него, и она отказалась, – повторил Уес.
– Да, и тогда она ушла от него. Сказала, что боялась, что передумает и скажет «да», и он отречется от церкви ради нее. Говорила, что его предложение было сродни самоубийству, чтобы доказать свою любовь. Она ушла, чтобы он не мог разрушить того мужчину, в которого она влюбилась.
Несколько минут они сидели в полной тишине, пока растворялся вечер, и наступала ночь.
– Это безумие, – наконец сказал Уесли. – Все это время я думал, что она ушла от него, потому что он не мог перестать быть тем, кем был для нее.
– Он предлагал. Она отказалась. Сказала, что предпочтет быть любовницей священника, чем женой призрака священника.
Уес начал что-то говорить, но она услышала, как ее зовет женский голос.
– Мы здесь, Грейс, – сказал Лайла, и Уес спрыгнул с бревна. Лайла тоже начала спрыгивать, но Уес встал перед ней и протянул руку. Она приняла его руку и позволила помочь. Она бы удачно приземлилась даже в темноте, но не могла же она отказаться от шанса прикоснуться к руке Уеса?
– Что случилось? – спросил Уес, когда Грейс выбежала на поляну.
– Твой дядя гадает, где ты пропала, – сказала Грейс, и все трое вернулись на дорогу к дому.
– Мне нужно было прогуляться, – ответила Лайла. – Я схожу с ума в этом доме.
– Не могу винить тебя. – Грейс быстро пожала ее руку, добрый и ласковый жест, который Лайла оценила, хотя часть ее снова хотела ощутить руку Уеса. – Но уже поздно, и ночью твой дядя хочет видеть всех под одной крышей.
Мимо них проехала машина, и Уес смотрел, как она уезжает.
– Да? Тогда, куда черт возьми собрался Кингсли?








