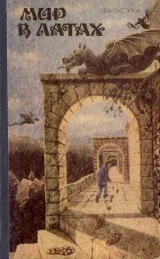
Текст книги "Мир в латах (сборник)"
Автор книги: Татьяна Полякова
Соавторы: Рэй Дуглас Брэдбери,Роберт Шекли,Роберт Ирвин Говард,Владимир Першанин,Далия Трускиновская,Евгений Гуляковский,Фриц Ройтер Лейбер,Николай Романецкий,Михаил Емцев,Владимир Рыбин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 40 страниц)
“Тимоти, – прошипел кто-то за обоями, шепча и выдыхая слова. – Тимоти боится темноты”.
Голос Леонарда. Ненавистного Леонарда!
“Мне нравятся свечи, только и всего”. – ответил Тимоти укоризненным шепотом.
Снова разряды молний, раскаты грома. Взрывы хохота. Лязг, позвякивание, крики, шуршание одежды. Сквозь главный вход вползло облако холодного тумана. Из тумана, складывая крылья, выпал высокий мужчина.
“Дядюшка Эйнар!”
Тимоти рванулся вперед изо всех сил, перебирая тонкими ногами, прямо сквозь туман, под защиту зеленых, шелковистых крыльев. Он бросился в объятья дядюшки Эйнара. Эйнар поднял его в воздух.
“У тебя есть крылья, Тимоти!” – он легко, как пушинку, подбрасывал мальчика. “Крылья, Тимоти, а ну-ка, лети!” Внизу мелькали лица, темнота вращалась вокруг него. У Тимоти перехватило дыхание. Он махал руками, как крыльями. Руки Эйнара подхватывали его и раз за разом подбрасывали к потолку. Потолок, черный как уголь, стремительно надвигался на него. “Лети, Тимоти! – кричал Эйнар громко и гулко. – Лети на крыльях!”
Он чувствовал, как восторженные мурашки бегут у него по плечам и лопаткам, как будто прорастали там корни, и лопались почки, и расцветали, и разворачивались влажные еще перепонки крыльев. Он лепетал что-то несвязное, а дядюшка Эйнар вновь направлял его в высоту.
Осенний ураган разразился над домом, дождь обрушился на крышу, сотрясая стропила, заставляя пламя свечей яростно метаться. И сотня родственников всех форм и размеров глядела из всех черных заколдованных комнат, как дядюшка Эйнар жонглировал мальчиком в гудящих просторах.
“Достаточно!” – произнес Эйнар наконец.
Тимоти, осторожно поставленный на дощатый пол, без сил привалился к Эйнару и только всхлипывал счастливо: “Дядюшка, дядюшка, дядюшка!”
“Ну как, понравилось летать? А, Тимоти? – спрашивал Эйнар, наклоняясь к нему и трепля его волосы. – Ну хорошо, хорошо…”
Приближался рассвет. Прибыли уже почти все родственники и все готовились отойти ко сну на дневное время. Они будут спать без движений и звуков до следующего заката, когда снова раскроются гробы из красного дерева, и они выпрыгнут из них, чтобы приступить к пиршеству.
Дядюшка Эйнар и дюжина других спустились в погреб. Мать проводила их вниз к тесным рядам отполированных до блеска гробов. Эйнар двигался по проходу, волоча за собой крылья, сделанные, казалось, из брезента цвета морской волны. Они издавали при движении странный свистящий шорох, а натыкаясь на что-нибудь, гудели, как туго натянутая кожа барабана под ударом осторожных пальцев.
Наверху Тимоти устало лежал, напряженно размышляя и пытаясь полюбить темноту. В темноте много чего можно сделать и никто не будет за это ругать, ибо никто не увидит. Он действительно любил ночь, но это была специфическая любовь: временами этой ночи было так много, что он начинал бунтовать против нее.
В погребе двери из красного дерева плотно закрылись, притянутые изнутри бледными руками. Некоторые родственники, трижды перекружившись, улеглись спать по углам. Солнце встало. Пришло время сна.
Закат. Пиршество возобновилось взрывообразно, как будто кто-то ударил палкой по гнезду летучих мышей. По всему дому мгновенно разнеслись крики и хлопанье крыльев. Откинулись крышки гробов. Зазвучали шаги по лестнице погреба, гости покидали сырой подвал. В дом через парадные и задние двери впустили еще несколько десятков запоздалых гостей.
Шел дождь, и промокшие гости отдавали Тимоти свои пропитанные водой кепки, шапки и шали, и он относил их в шкаф. Комнаты были переполнены. Смех кого-то из кузенов вырвался из одной комнаты, обогнул стену другой, срикошетировал, отразился и вернулся к Тимоти из четвертой, четко различимый и циничный.
По полу пробежала мышь.
“Я узнал тебя, племянник Либерсроутер!” – провозгласил отец рядом с Тимоти, но обращаясь не к нему. Дюжина возвышающихся над Тимоти гостей теснила его. Его задевали локтями, толкали, но не обращали на него ни малейшего внимания.
Под конец Тимоти проскользнул к лестнице, ведущей вверх.
Он тихо позвал: “Сеси. Где ты теперь, Сеси?” Прошло некоторое время, прежде чем она ответила.
“В Долине Импириал, – пробормотала она слабо. – Около соленого озера Солтон-Си. Здесь грязевые гейзеры, пар и тишина. Я в жене фермера. Я сижу на крылечке. Я могу заставить ее двигаться или что-то сделать или о чем-то подумать. Солнце садится”.
“На что это все похоже, Сеси?”
“Слышно шипение грязевых гейзеров, – сказала она медленно, как будто говорила в церкви. – Пузыри, наполненные паром, пробиваются сквозь грязь, как будто лысые мужчины пытаются вынырнуть из густого сиропа головами вперед. Серые головы лопаются, как каучуковая ткань, спадают с шумом, как будто чмокают громадные, мокрые губы. И струйки дыма вытекают из прорех в ткани. И все пропитано запахом серы и древнего времени. Динозавр варится здесь уже десять миллионов лет”.
“Он уже мертв, Сеси?”
Мышь обогнула ступни трех женщин и исчезла в углу. Мгновением позже в углу из ничего возникла прекрасная женщина. Она улыбалась всем белозубой улыбкой. Что-то прижималось к залитому дождем стеклу кухонного окна. Оно вздыхало и плакало, оно барабанило по стеклу и припадало к нему, но Тимоти ничего не замечал. В воображении он был далеко отсюда. Вглядываясь внутрь себя, он находился вовне, за пределами дома. Дождь и ветер обволакивали Тимоти, а темнота с огоньками свечей зазывала его. Там танцевали вальс, высокие, стройные фигуры двигались под звуки неземной музыки. Звездочки света вспыхивали на стекле бутылок, с бочонков отваливались комки земли, и паук сорвался с паутины и, молча перебирая лапками, мчался по полу.
Тимоти вздрогнул. Он снова был в доме. Мать велела ему сбегать туда, сходить сюда, помочь там, обслужить тех, беги в кухню, возьми то, принеси это, еще тарелок, предложи добавки – еще и еще – пирушка продолжалась.
“Да, он мертв. Вполне мертв”. – Сонные губы Сеси еле двигались. Вялые слова медленно выплывали из резко очерченного рта. – В черепе этой женщины, вот где я нахожусь, гляжу ее глазами, вижу это неподвижное море. О, здесь так тихо, что становится страшно. Я сижу на крыльце и жду возвращения мужа. Временами из воды выпрыгивает рыба, звезды отражаются на ее чешуе, и она падает обратно. Долина, море, несколько автомобилей, деревянное крыльцо, мое кресло-качалка, я сама, тишина”.
“И что теперь, Сеси?”
“Я встала с кресла-качалки”, – ответила она.
“И?”
“Я сошла с крыльца и иду к грязевому гейзеру. Самолеты пролетают надо мной, как доисторические птицы. И снова тихо, так тихо”.
“Ты долго будешь оставаться внутри нее, Сеси?”
“Пока не наслушаюсь, не нагляжусь, не начувствуюсь, пока не изменю каким-то образом ее жизнь. Я иду по деревянному тротуару. Мои шаги звучат на досках устало, медленно”.
“А теперь?”
“Теперь вокруг меня столбы серного пара. Я смотрю на лопающиеся пузыри, как после них поверхность снова разглаживается. Какая-то птица с криком проносится мимо моей головы. А теперь я внутри птицы и улетаю прочь! И пока я еще не улетела далеко, своими маленькими глазками я вижу, как женщина сходит с тротуара и делает шаг, второй, третий к грязевому гейзеру. Я слышу звук, как будто валун погрузился в расплавленную топь. Я продолжаю кружить над ней. Я вижу белую кисть, она судорожно дергается над поверхностью и исчезает в серой лаве. Лава затягивается и успокаивается. А теперь я лечу домой, быстро, быстро, быстро!”
Что-то громко стукнуло в окно. Тимоти вздрогнул.
Сеси широко раскрыла глаза, ярко сверкавшие от полноты бытия, счастья, возбуждения.
“Вот я и дома!” – сказала она.
После паузы Тимоти сообщил: “Сбор Семьи в разгаре. Все собрались”.
“Так почему ты здесь, наверху? – Она взяла его за руку. – Ну хорошо, проси. – Она хитро улыбнулась. – Выкладывай, что ты хотел у меня попросить?”
“Ничего я у тебя не хотел просить, – ответил он. – Ну, почти ничего. Ну…о, Сеси! – И слова полились из него торопливым потоком. – Я хочу сделать что-то такое, чтобы они все смотрели на меня, что-то, чтобы показать, что я не хуже их, что я такой же, как они, а я ничего не могу и я чувствую, как надо мной все смеются, и, ну, я думал, может, ты можешь…”
“Я могу, – сказала она, закрывая глаза и улыбаясь каким-то своим мыслям. – Выпрямись. Замри. – Он подчинился. – Теперь закрой глаза и старайся ни о чем не думать”.
Он стоял совершенно прямо и ни о чем не думал, ну, может быть, думал о том, как ни о чем не думать.
“Ну что ж, идем вниз, Тимоти?” – Сеси была в нем, как рука в перчатке.
“Глядите все!” – Тимоти держал в руке стакан теплой, красной жидкости. Он поднял стакан так, что весь дом обернулся и смотрел на него. Тети, дяди, кузены и кузины, братья и сестры!
Он выпил стакан до дна.
Он повелительно ткнул рукой в сестру Лауру. Он выдержал ее взгляд и прошептал ей нечто такое, от чего она застыла в молчании и неподвижности. Он чувствовал себя огромным, выше дерева, когда шел к ней. Все замерли. Все в ожидании глядели на него. Лица выглядывали из всех дверей всех комнат. Никто не смеялся. На лице матери застыло изумление. Отец выглядел пораженным, но обрадованным и с каждым мгновением наливался гордостью. Тимоти аккуратно прокусил вену на шее Лауры. Пламя свечей заколыхалось. Снаружи на крыше плясал ветер. Родственники глядели из каждой двери. Он забросил в рот поганку, проглотил, затем закружился, хлопая себя по бокам. “Гляди, дядюшка Эйнар! Я, наконец, могу летать!” Размахивая руками, он бросился бежать вверх по лестнице. Мимо мелькали лица.
Когда он взлетел на самую верхнюю площадку, то услышал издалека, снизу крик матери: “Прекрати, Тимоти!” – “Эй!” – закричал Тимоти и бросился в пролет, размахивая руками, как крыльями.
На полпути вниз его воображаемые крылья исчезли. Он завизжал. Дядюшка Эйнар подхватил его.
Бледный Тимоти яростно дергался в его руках. Непрошеный голос прорвался из уст мальчика: “Это я, Сеси! Прошу всех навестить меня наверху, первая комната налево!” Под раскаты оглушительного хохота Тимоти пытался заставить замолчать вышедшие из повиновения губы.
Все смеялись. Эйнар поставил его на пол. Родственники вереницами потянулись наверх к комнате Сеси, чтобы поприветствовать ее. Тимоти в слепой ярости выскочил наружу, с грохотом хлопнув дверью главного входа.
“Я ненавижу тебя, Сеси, ненавижу!”
Он остановился в густой тени сикаморы. Его вырвало. С горьким плачем, ничего не видя, куда-то побрел, затем повалился на кучу опавших листьев, молотил землю руками. Потом затих. Из кармана куртки, из спичечного коробка, который он использовал как убежище, вылез паук и пополз по руке Тимоти. Пак обследовал его шею, долез до уха и забрался в ушную раковину, чтобы пощекотать ее. Тимоти затряс головой: “Прекрати, Пак!”
Легчайшее прикосновение паучьих лапок к барабанной перепонке заставило его содрогнуться: “Пак, прекрати!” Но всхлипывания стали пореже.
Паук спустился по его щеке и устроился на верхней губе, заглядывая в ноздри, как бы желая разглядеть мозг. Затем он заполз на кончик носа, оседлал его и уставился на Тимоти зелеными глазами, похожими на маленькие изумруды. Он глазел на Тимоти, пока тот не затрясся от смеха. “Проваливай, Пак!”
Зашуршав листьями, Тимоти выпрямился и сел. Луна ярко освещала землю. Из дома доносились слабые выкрики. Там играли в Зеркало. Слышались приглушенные поздравления, адресованные тем, чье отражение не появлялось в зеркале.
“Тимоти, – крылья дядюшки Эйнара раскрывались и складывались и гудели, как туго натянутая кожа барабана. Тимоти ощутил, что его подняли легко, как наперсток, и усадили на плечо. – Не огорчайся, племянник Тимоти. Каждому – свое, каждый живет по-своему. Тебе гораздо лучше, чем нам. Твоя жизнь гораздо богаче. Мир мертв для нас. Мы слишком много видели и слишком много знаем, поверь мне. Жизнь тем прекраснее, чем она короче. Она становится бесценной, Тимоти, помни это”.
Остаток черного утра, сразу после полуночи, дядюшка Эйнар ходил с ним по дому из комнаты в комнату, распевая заклинания. Орда запоздавших, вновь прибывших гостей оживила угасающее веселье. Среди них была пра-пра-пра – и еще тысячу раз прабабушка, спеленутая полосками египетской погребальной ткани. Она не говорила ни слова, но просто лежала у стены, как обугленная головешка, провалы ее глазниц созерцали даль, мудрые, молчаливые, мерцающие. За завтраком в четыре утра тысячу с лишним раз прабабушка неподвижно сидела во главе длинного стола.
Многочисленные младшие кузены толпились вокруг хрустальной чаши для пунша и пили. Над столом сверкали их оливковые глаза, белели их удлиненные, демонические лица, развевались их курчавые, бронзовые локоны. Их тела – и не твердые, и не мягкие, и не мужские, и не женские – теснили друг друга. Ветер усилился, звезды горели с яростной силой, голоса стали громче, танцы быстрее. Тимоти разрывался – так много нужно было успеть увидеть и услышать. Толпа роилась и завихрялась вокруг, лица мелькали и проносились мимо.
“Слушайте!”
Все затаили дыхание. Далеко вдали часы на башне ратуши отсчитали шесть. Праздник заканчивался. Вместе с боем часов, подчиняясь ритму ударов, гости затянули песни, которым было четыре сотни лет и которых Тимоти не знал. Взявшись за руки и медленно кружа, пели они, а где-то в холодной дали утра колокол городских часов загудел последний раз и умолк.
Тимоти пел. Он не знал ни слов, ни мелодии, но слова и мелодия приходили сами собой, и получались хорошо. Он посмотрел на закрытую дверь, там наверху.
“Спасибо, Сеси, – прошептал он, – я больше не сержусь на тебя. Спасибо”.
После этого он расслабился и позволил словам свободно литься из его уст голосом Сеси.
Все начали прощаться, и поднялся невообразимый шум. Мать и отец стояли в дверях и обменивались рукопожатиями и поцелуями с каждым отбывающим родственником. В проеме распахнутых дверей видно было, что небо на востоке уже окрасилось. В дом залетал холодный ветер. Тимоти почувствовал, что его подхватили и впихивают по очереди в одно тело за другим. Вот он вместе с Сеси вошел в дядюшку Фрая и глядел на мир его глазами, а вот он уже огромными прыжками несется поверх опавших листьев, по пробуждающимся холмам…
А затем он бежал вприпрыжку по грязной тропе, чувствуя, как горят его красные глаза, и утренний иней оседал на его пушистом хвосте, и эго он был в кузене Уильяме, и он, задыхаясь, промчался через пустошь и исчез вдали…
Как камешек во рту дядюшки Эйнара, летал он в заполняющем небо шелковистом громе крыльев. А потом, наконец, вернулся назад в свое собственное тело.
В красках разгорающейся зари последние несколько гостей еще обнимались и вытирали слезы, вздыхая о том, что мир становится местом все меньше и меньше приспособленным для жизни таких, как они. Были времена, когда они встречались каждый год, а сейчас не собирались все вместе целыми десятилетиями. “Не забывайте, – кричал кто-то, – следующая встреча в Салеме, в 1970-м!”
Салем. Тимоти, отупевший от множества впечатлений, пытался все же проникнуть в смысл этих слов и осознать его. Салем, 1970. И там будет дядя Фрай, и тысячу раз прабабушка, запеленутая в истертые ленты, и мама, и папа, и Эллина, и Лаура, и Сеси, и все остальные. Но будет ли он там? Может ли он быть уверен, что доживет до этого года?
И наконец, после заключительной вялой вспышки чувств, гости отправились прочь – полосками призрачного тумана, облаками перепончатых крыльев, тучами увядших листьев, эхом стонущих и клацающих голосов, клубами полуночных видений и лихорадочного бреда, грез и кошмаров.
Мать захлопнула дверь. Лаура взяла в руки щетку. “Нет, – сказала мать, – приберем вечером… Сейчас надо выспаться”. И все разошлись, кто в погреб, кто наверх. Тимоти, повесив голову, проковылял’в холл, усыпанный обрывками черного крепа. Проходя мимо зеркала, с которым забавлялись гости, он отметил бледную печать смертности на своем лице. Ему было холодно, он весь дрожал.
“Тимоти”, – окликнула его мать.
Она подошла к нему и положила ладонь ему на лицо. “Сынок, – сказала она. – Мы любим тебя. Помни это. Мы все любим тебя. Не имеет значения, что ты не такой, как мы, что ты когда-нибудь покинешь нас. – Она поцеловала его в щеку. – А если ты умрешь, то когда это случится, мы позаботимся, чтобы ничто не нарушало покой твоего праха. Ты будешь отдыхать вечно, и в каждый канун Дня Всех Святых я буду приходить к тебе и смотреть, удобно ли тебе”.
В доме царила тишина. Далеко вдали ветер переносил через холм последнюю стаю перекликающихся, темных летучих мышей.
Тимоти подымался вверх по лестнице, преодолевая ступеньку за ступенькой, и все время плакал.
Рэй Дуглас БрэдбериМессия
– Каждый из нас грезил об этом, когда был молод, – сказал епископ Келли.
Сидящие за столом закивали головами, бормоча слова согласия. – Пожалуй, не найдется ни одного воспитанного в христианской вере мальчика, – продолжал епископ, – который бы одной прекрасной ночью не задавал себе вопроса: а вдруг я – это Он? Вдруг уже свершилось долгожданное Второе Пришествие, и Он – это я? А что если… что если, о Господи, что если я – Иисус? Вот было бы здорово!
Католические и протестантские священники, а также единственный раввин мягко засмеялись, вспоминая свое собственное детство, свои дикие, необузданные фантазии и какими глупыми они тогда были.
– Наверно, – сказал молодой священник, отец Наивен, – еврейские мальчики воображают себя Моисеем?
– Нет, дорогой друг, отнюдь, – ответил рабби Ниттлер. – Мессией!
Снова мягкий смех со всех сторон.
Лицо отца Найвена дышало свежестью – кровь с молоком.
– Ну конечно, – сказал он, – как это я не догадался. Христос не был Мессией, не так ли? И ваш народ до сих пор ждет Его пришествия. Странно.
– Не более странно, чем все это, – епископ Келли поднялся, чтобы проводить их на террасу, с которой открывался прекрасный вид на марсианские холмы, древние марсианские города, старые дороги, высохшие реки, в которых вместо воды текла пыль, наконец на Землю, до которой было шестьдесят миллионов миль и которая сверкала чистым светом на этом чужом небе.
– Могли ли мы в самых диких своих фантазиях вообразить, – сказал преподобный Смит, – что настанет день, когда будем совершать службы в Баптистской молельне, в соборе Девы Марии, в синагоге Гора Синай, здесь – на Марсе?
Все присутствующие откликнулись мягкими “нет”, “нет”.
Затем среди этих приглушенных голосов раздался другой – резкий. Отец Наивен, когда они вступили на балюстраду, включил транзистор, чтобы сверить часы. Из небольшой американо-марсианской колонии, расположенной внизу, передавали известия. Они прислушались:
– …по слухам вблизи города. Это первый марсианин, замеченный в нашей колонии в этом году. Горожан настоятельно просят относиться к подобным визитерам с уважением. Если…
Отец Наивен выключил приемник.
– Наша все еще не охваченная паства, – вздохнул преподобный Смит. – Я должен признаться, что прилетел на Марс не только для того, чтобы работать с христианами. Я надеялся в один прекрасный день пригласить на воскресный обед марсианина и порасспросить его про их теологию, про их духовные нужды.
– Мы все еще непривычны для них, – сказал отец Липскомб. – Я думаю, через пару лет они поймут, что мы не какие-нибудь дикие охотники за скальпами. Однако трудно бывает сдержать любопытство. В конце концов фотографии, сделанные нашими “Маринерами”, показывали, что здесь нет никакой жизни. И однако жизнь тут есть, очень загадочная, хотя в чем-то и похожая на человеческую.
– В чем-то похожая, Ваше Преосвященство? – рабби задумчиво отхлебывал маленькими глотками свой кофе. – Мне кажется, они даже более человечны, чем мы сами. Они позволили нам поселиться здесь, а сами укрылись на холмах. Возможно, они изредка появляются среди нас, замаскировавшись под землян.
– Вы действительно верите, что они обладают телепатическими и гипнотическими способностями, позволяющими им ходить в наших городах, обманывая наши взоры иллюзорными масками, так что никто из нас ничего не подозревает?
– Ну конечно же, верю.
– Тогда наше собрание, – сказал епископ, передавая гостям мороженое и рюмочки с ликером, – это настоящий вечер разочарований. Марсиане не откроются нам просветленным, чтобы мы их спасли.
Многие заулыбались при этих словах.
– …и Второе Пришествие Христа, таким образом, отложится еще на несколько тысяч лет. Долго ли нам ждать, о Господи?
– Что касается меня, – заявил юный отец Наивен, – я никогда не мечтал о том, чтобы быть Христом во время Второго Пришествия. Я всегда, от всего сердца, хотел встретиться с ним. Я думал об этом, даже когда мне было всего лишь восемь лет. Видимо, это и было главной причиной того, что я стал священником.
– Чтобы быть для Него, так сказать, уже своим, в случае Его появления? – добродушно предложил рабби.
Молодой священник ухмыльнулся и кивнул. Остальные ощутили желание подойти и прикоснуться к нему, потому что он затронул в каждом какие-то давно забытые прекрасные чувства. Они ощущали в себе необыкновенное умиротворение.
– С вашего позволения, господа, – сказал епископ Келли, поднимая бокал, – за первое пришествие Мессии или Второе Пришествие Христа. Может быть, это нечто большее, чем просто глупые древние фантазии.
Все выпили и некоторое время молчали.
Епископ высморкался и протер платком глаза.
Остаток вечера прошел как множество других вечеров, которые вместе с рабби проводили протестантские и католические священники. Они играли в карты и спорили о святом Фоме Аквинском и сдались под напором неотразимых, логически отточенных аргументов рабби Ниттлера. Они обозвали его иезуитом, выпили по последней перед сном чашечке и прослушали по радио последние известия:
– …высказываются опасения, что марсианин чувствует себя в нашем городе, как в ловушке Всякий, кто его встретит, должен отвернуться и дать ему пройти. Судя по всему, им движет чистое любопытство. Нет никаких оснований для тревоги. Из этого вытекают наши…
Направляясь к выходу, священники, служители и рабби обсуждали переводы, которые они делали на разные языки из Старого и Нового Заветов. Именно тогда отец Найвел всех удивил.
– А знаете ли вы, что меня однажды попросили написать сценарий по Евангелие? Им нужна была концовка для фильма.
– Но ведь, – запротестовал епископ, – у истории жизни Иисуса только один конец!
– Но, Ваше Святейшество, четыре Евангелия рассказывают ее по-разному. В каждом из них свой вариант. Я сравнил их все и пришел в возбуждение. Почему? Потому что вновь открыл для себя нечто, что почти забыл. Тайная вечеря не была последней вечерей!
– Боже мой, а какой же тогда?
– Первой из нескольких, Ваше Святейшество. Первой из нескольких! После распятия и погребения Христа разве не ловил Симон, называемый Петром, вместе с другими апостолами рыбу в Галилейском море?
– Ловил.
– И разве не попалось в их сети невероятное количество рыбы?
– Попалось.
– И разве не увидели они на галилейском берегу бледный свет, не пристали к берегу в этом месте и не увидели раскаленные добела угли, на которых жарилась свеже-выловленная рыба?
– Да-да, да, – подтвердил преподобный Смит.
– И здесь, в мягком сиянии древесного угля, разве не почувствовали они Присутствие Духа и не воззвали к Нему?
– Так и было.
– И когда они не получили ответа, разве Симон, называемый Петром, не прошептал: “Кто здесь?” И когда неведомый Призрак на берегу озера протянул руку в огонь, разве не увидели они на ладони этой руки рану – там, куда был вбит гвоздь?
– Они хотели было убежать, но Дух заговорил и сказал: “Возьми эту рыбу и накорми ею братьев”. И Симон, называемый Петром, взял рыбу, что жарилась на раскаленных добела углях, и накормил апостолов. И едва различимый призрак Христа сказал тогда: “Примите мое слово и несите его среди народов и проповедуйте миру прощение грехов его”.
– И затем Христос оставил их. В моем сценарии Он шел вдоль берега озера к горизонту. А когда кто-то направляется к горизонту, он кажется возносящимся, не так ли? Поскольку земля приподнимается с расстоянием. И Он шагал вдоль берега, пока не превратился в светлую пылинку, где-то далеко-далеко. А затем исчез, и они Его больше не видели.
– А когда над этой древней землей взошло Солнце, все эти тысячи отпечатков ступней – цепочку Его следов вдоль берега – стал сдувать утренний ветерок, и скоро от них не осталось ничего.
– А апостолы оставили пепелище от костра рассыпаться на искорки и удалились прочь, ощущая на своих устах вкус Настоящей, Последней и Истинной Тайной Вечери. И в моем сценарии я заставил камеру подниматься ввысь, высоко над их головами, чтобы видна была пустынная земля и группа апостолов, одни из которых двигались на север, другие на юг, иные на восток, дабы поведать миру то, что должно было рассказать про этого Человека. А их следы, расходящиеся от места костра, как спицы огромного колеса, заносил песком утренний ветерок. И начался новый день…
Юный священник стоял в центре своих друзей, щеки его горели, глаза были закрыты. Внезапно он встрепенулся и открыл глаза, как бы вспомнив, где он находится.
– Простите.
– За что? – воскликнул епископ, моргая и вытирая глаза тыльной стороной ладони. – За то, что дважды за вечер вы заставили меня плакать? Как можно помнить о себе, когда видишь вашу любовь к Христу? Боже, вы снова вернули мне Слово, тому кто знает Слово уже тысячу лет: вы освежили мне душу, добрый молодой человек с сердцем мальчика. Рыба, съеденная на галилейском берегу, действительно Настоящая Последняя Тайная Вечеря. Браво. Вы заслуживаете встречи с Ним. Будет справедливо, если Вы сподобитесь быть свидетелем Второго Пришествия.
– Я не достоин, – ответил отец Наивен.
– Как и все мы! Но если бы можно было торговать душами, я заложил бы свою в это самое мгновение, чтобы одолжить взамен вашу свежесть чувств. Еще один тост, джентльмены. За отца Найвена! А теперь доброй ночи, уже поздно, доброй ночи.
Все выпили и стали расходиться. Рабби и протестантские священники ушли вниз по склону холма к своим святыням. Католические священники задержались на секунду у дверей своего храма, чтобы бросить последний перед сном взгляд на Марс, этот странный и чужой мир, над которым дул холодный ветер.
Пробило полночь, затем час, два, а в три часа ранним холодным марсианским утром отец Наивен внезапно проснулся. Слабо потрескивая, мерцали свечи. За окном пролетели, кружась, листья.
Он резко приподнялся и сел, все еще находясь под впечатлением приснившегося кошмара. Ему все еще слышались крики преследующей его толпы Он вслушался.
Где-то далеко, внизу, он услышал хлопанье внешней двери.
Быстро одевшись, отец Наивен спустился сумеречными лестничными пролетами своего жилища и прошел в церковь, где около дюжины свечей, разбросанных по углам помещения, создавали, каждая свой, оазисы света.
Он обошел все двери, размышляя о том, как глупо запирать церкви. Что тут можно украсть? Но все же он продолжал брести сквозь спящую ночь.
…и обнаружил, что дверь главного входа в церковь открыта Она медленно поворачивалась под дуновением ветра.
Вздрогнув, он захлопнул дверь.
Мягкие убегающие шаги.
Он резко обернулся.
Церковь была пуста. Пламя свечей, стоящих в нишах, колыхалось туда-сюда В воздухе стоял древний запах воска и ладана – товаров, переживших все прочие товары на ярмарках других времен и иных Историй, чужих солнц и лун.
Он бросил взгляд на распятие над главным алтарем и окаменел.
Он услышал звук одинокой капли воды, падающей в ночную тишину.
Медленно обернулся к баптистерию в тылу помещения.
Там не было свечей и, однако…
Бледный свет исходил из этой небольшой ниши, где стояла крестильная купель.
– Епископ Келли? – мягко позвал он.
Медленно шагая вперед по проходу, он внезапно остановился и застыл, потому что.
Упала еще одна капля воды, ударилась об пол, расплылась.
Как будто тут где-то был протекающий водопроводный кран. Но здесь не было никаких кранов. Стояла только крестильная купель, в которую капля за каплей, с промежутками в три удара сердца, капала какая-то жидкость.
На странном, тайном языке сердце отца Найвена что-то сказало самому себе и забилось с ужасающей скоростью, затем вдруг замедлило биение, почти остановилось. Все его тело покрылось испариной. Он не мог шелохнуться, но должен был идти и, переставляя одну ногу за другой, добрался до арочного входа в баптистерий.
В маленьком помещении действительно был какой-то бледный свет.
Нет, не свет. Чей-то светящийся облик. Фигура.
Фигура стояла за купелью и над ней. Звук падающих капель прекратился. Отец Наивен ощутил, что его как бы поразила слепота. Рот его пересох, глаза были расширены, как у безумца Затем видение снова появилось, и он осмелился выкрикнуть:
– Кто!
Простое слово эхом отразилось, прокатилось по всей церкви, заставило задрожать языки пламени на свечах, потревожило пропахшую ладаном пыль и напугало его самого, быстро возвратясь к нему же: “Кто!”
Единственный свет внутри баптистерия исходил от бледных одеяний фигуры, стоящей перед ним. И этого света было достаточно, чтобы он увидел невероятное.
Фигура шевельнулась и протянула руку отцу Найвену, глядящему расширенными глазами.
Рука казалась независимой от Призрака и была протянута как бы по принуждению, как будто она сопротивлялась, но была вынуждена уступить безумному взгляду отца Найвена, его страстному, ужасному желанию посмотреть на ладонь.
На ладони была рваная рана, отверстие, из которого медленно, капля по капле, кровь падала в крестильную купель.
Капли крови падали в святую воду, окрашивали ее, растворялись в легкой ряби.
На какой-то момент протянутая рука застыла в неподвижности перед глазами священника, одновременно и ослепленными и прозревшими.
Затем священник рухнул на колени, как будто подкошенный сильным ударом. Он испустил сдавленный крик – наполовину вопль отчаяния, наполовину – клич откровения Одной ладонью он прикрывал глаза, вторую жестом защиты вытянул вперед.
– Нет, нет, нет, нет, этого не может быть!
Как будто некий ужасный, дьявольский дантист подошел к нему со своими щипцами и без всякого наркоза вырвал из тела его окровавленную душу. Вырвал, выдернул и – о Боже! – как глубоко сидели ее корни…
– Нет, нет, нет, нет!
Тем не менее, да.
Он глянул в просвет между пальцами.
Человек был здесь.
И ужасная кровоточащая ладонь, трепещущая в воздухе баптистерия и роняющая капли крови.
– Хватит!
Ладонь исчезла. Призрак стоял в ожидании. И лицо Духа было знакомо и прекрасно. Эти странные, прекрасные, глубокие и пронизывающие глаза были именно такими, какими он их всегда представлял себе. Мягкость в очертаниях рта, бледное лицо, обрамленное длинными волнистыми волосами и бородой. Этот человек носил простую одежду, какую в свое время носили в пустынных местах, на берегах озера.








