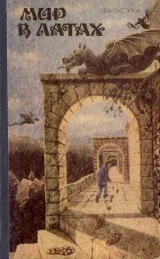
Текст книги "Мир в латах (сборник)"
Автор книги: Татьяна Полякова
Соавторы: Рэй Дуглас Брэдбери,Роберт Шекли,Роберт Ирвин Говард,Владимир Першанин,Далия Трускиновская,Евгений Гуляковский,Фриц Ройтер Лейбер,Николай Романецкий,Михаил Емцев,Владимир Рыбин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 40 страниц)
Испытание
Туда, где, нагулявшись вволю и крылья разметав по полю, под утро улеглась пурга…
Туда, где легкие снега покрыли топкие луга!..
Кружит дорога по лесам, выводит к хутору, а там встречает зимние рассветы кавалерийская семья – подружка Инга, две Иветты, Ян, Дзинтра, Рудите и я.
Примчусь туда издалека, где ждут доверчивые кони, чтоб я у двери денника явилась – с хлебом на ладони.
Ледком затянуто стекло в неровном маленьком окошке… Подсыплю им овса немножко, найду потертое седло.
А хочешь – вместе, вдоль реки, по лугу, наперегонки? И в ослепительный простор глядеть из-под руки?..
(Ты пройдешь на тропе лесной испытание белизной, испытание чистотой, испытание простотой. Что откроется – неизвестно, но скажи – на пределе честно ты пройдешь по снежному краю? Не обманешь?
Тогда – впускаю).
Мы мчались в зимние леса плечом к плечу, глаза в глаза, но я дорог не узнавала – я здесь ни разу не бывала…
– Эй, Санька, ты чего с конем забрел в какой-то бурелом?
– Решил на файф-о-клок к медведям!
– Вперед! Куда-нибудь приедем…
Но вечер ранней синевой густел, темнел над головой… Где же это мы с тобой?..
Тяжело ступают кони то по снегу, то по льду, снег хватая на ходу, удилами звеня. Грею пальцы и ладони я о холку коня. И снисходит пониманье на меня…
…и снисходит пониманье, озаренье, узнаванье – эту странную дорогу в буераках, наугад, проложил один отряд…
Как же раньше не сумела, как же раньше не посмела я забвенье превозмочь?
Этой тропкой, дальним лугом, да опушкой лесной, вечнобелой белизной партизаны друг за другом проезжают, что ни ночь…
…проезжают, что ни ночь, после той же злой метели, с тем же выраженьем глаз, из-за той же старой ели появляясь каждый раз. То ли черновик легенды без начал и без концов, то ль сумбурной киноленты бесконечное кольцо. Повторяются моменты, повторяются слова – раз, и два, и двести два…
Цепь времен разъединилась. Сумасшедшее одно сквозь столетья укатилось одинокое звено, и вращается оно, и летит из света в тень, и летит на свет обратно день один невероятный, повторяющийся день – черновик моей легенды без начал и без концов, невозможной киноленты неизменное кольцо…
Погляди-ка мне в лицо!
Ну?..
– Санька, едем на войну? Санька, за ночь мы доскачем в партизанские края!
– Ты рехнулась, не иначе, птичка-ласточка моя. Брось нелепые затеи.
– Но не мы ль с тобой хотели испытать хоть раз в бою дружбу-преданность свою! Свистом стали и свинца, памятью сквозь поколенья приближается мгновенье – прыгнем в паузу кольца!
– Романтические чары? Слышу я издалека настоящие удары настоящего клинка…
– Ты не бойся – я с тобою! Ты не сдерживай коня. Я в бою тебя прикрою – ты прикроешь меня. Санька, быть сегодня бою… Нашу дружбу – не убить. Бою – быть, бою – быть!
Ты молчишь. Ты брови сдвинул. Искры в русых волосах. Если б ты меня покинул в зачарованных лесах… Не покинешь! Хмуро глянешь, но – за мной, и не отстанешь.
И душа живет полетом, и за ближним поворотом разрезает время та невозможная черта.
Мы – из другого племени. Мы из другого времени на расплывчатый свет костра вышли из темени. Ментики. Палаши. Кивера. Ташка у стремени.
Снежной пылью дыша, захлебнулась душа! Синим-синим утром зимним оседлай гнедаша. Дьявол, морду дерет, удила не берет, глазом косит, воли просит, берегись – удерет! Но шагает по льду за тобой в поводу, не обманет – партизанит в раздвенадцатом году!
На заре от костра поднимайся – пора! Едем строем, в ряд по трое, голубые кивера… Третий месяц, гнедой, партизаним с тобой. Снежным полем, да раздольем, да галопом бы в бой!
– Погляди – там что, огни?
– Серж, ты стремя подтяни…
– Черт побрал бы эту ветку!
– Смерзлись, к дьяволу, ремни…
– Братцы, кто ходил в разведку, – скоро ль? На сердце тоска!
– Спой, Николенька, пока!
Кони – шагом, след в след. Запевает корнет.
– Ах, я уже не маленький, нет силы дома жить! Ах, отпустите, маменька, Отчизне послужить! На марше не отстану я, не побоюсь клинка! Лихим корнетом стану я Ахтырского полка. Ах, отпустите же, мой свет, не то и сам уйду! Мы все – бойцы в шестнадцать лет в двенадцатом году. И я в победные бои помчусь издалека, а рядом – сверстники мои Ахтырского полка, и не удержишь нипочем, лишь вихрем пыль взмело! Гусарский ментик за плечом, как синее крыло… Грозою затуманены военной рубежи – так отпустите ж, маменька, Отчизне послужить!.. Благословите, маменька, Отчизне послужить…
Прямо в очи летит снег от конских копыт. Снег с пахучей хвои – прямо в кудри твои… Кони – быстры, други – рядом, впереди – пути побед…
– Санька, это ли не радость.
– Нет… Угнетает белый цвет. Будто ты, и я, и кони – все на этом на лугу, как на белой на ладони, мы подставлены врагу…
– Вот что я тебе скажу, – тем я здесь и дорожу, что не спрятаться, не скрыться, не замаливать грехов – ждет белейшая страница сердцем писанных стихов. Белизна сплошная эта ждет, пойми, иного цвета… Рыжей шкуры коня. Рыжих всплесков огня. Алых капель мелкой дроби – если ранит меня. Вот перо и вот чернила! Их столетьями ждала белизна, для них раскрыла безупречные крыла. Принимаю, и без слова – пулю в сердце на скаку, если нет пути иного написать свою строку.
– Да зачем все это надо? Иль искусства венец – только здесь, со смертью рядом? Объясни наконец!
– Только здесь – на белом поле, где сейчас начнется бой, только здесь, на вольной воле, истинны восторг и боль, только здесь – до слез, до боли – мы способны быть собой. Здесь – в себя и друга верим. Сомневаешься? Проверим!
Ну-ка, Саша, погляди – там, на расстоянье взгляда, по сценарию, засада ожидает впереди. Там петлял дорогой узкой обмороженный до слез, заблудившийся, французский с артиллерией обоз. Наших пленных следом гонят – на войне, как на войне. Может, твой прапрадед тонет, обессилев, в белизне?
Подтянись-ка на коне!
Боевой рожок зовет! Коней – в намет, клинки – вперед! По нетронутым снегам – в гости к пуганым врагам!..
Дальше что? Сама не знаю. Ветра свист? Из горла крик? Видела иль сочиняю этот странный, страшный миг? Непричастный ритму боя, ослепленный белизною, бросив маленький отряд, всадник мчится наугад, словно падает звезда!..
– Стой!
– Куда?!
Повод врезался в ладонь, подо мною – в струнку конь! Все – рассветное паренье над землею голубой: и мечту, и вдохновенье, и победное везенье, что обещано судьбой, – за единое мгновенье между смертью и тобой!
(Непонятно, что такое – дыбом снежный пласт взмело, между гибелью и мною плещет белое крыло! Непонятно, что такое – пули, мчащие ко мне из грохочущего боя, гаснут в этой белизне).
Сердцем бы тебя прикрыла – только поздно, поздно было…
По снегам течет закат после боя. Собирается отряд над тобою. Расстегнули доломан, приподняли тонкий стан. На груди твоя рубашка заревом окрашена…
– Александр Иваныч!
– Сашка!
– Сашенька…
Снег кружится и ложится, умиротворенно тих, и не тает на ресницах, на лукавых на твоих…
– Вася, кивер-то сними…
– Что с ним сталось, черт возьми?
– Как помчался! Струсил, что ли?
– Побоялся вольной воли?
– Растерялся в чистом поле?
– Знать, не выдержал, не смог…
– Знать, не по плечу клинок!
Ты лежишь и уплываешь как во сне, как во сне. Тихо-тихо таешь, таешь в белизне, в белизне. Снег ложится все ровнее. Кровь под снегом все бледнее. Снег так странно, странно лег – поле ровное у ног…
Я больше его не встречала, как будто на этом – печать, как будто уверенно знала, что некого больше встречать. Не плакала и не скучала. Иная светила звезда, иная меня ожидала беда…
Два раза по смертному краю прошла из конца я в конец, два сердца туда провожая, где нет ни очей, ни сердец. И высохли слезы навеки, и стали свинцовыми веки, и взгляд обратился в свинец.
К чему мне луга и леса? Осталось – брести сквозь года…
А рядом летят голоса:
– Куда же он делся, твой избранный, преданный друг? Ему невдомек? Недосуг? Обидно и больно – ну да, когда подступила беда, а друг позабыл, не пришел, а другу и так хорошо, отныне и навсегда предательство это! Преда…
– Молчите. Знаю. Я увела его к белому краю, бросила в море снежного света, зная, что он способен на это!
– Врешь. Верила, верила в очи и голос! И презирала случайную ложь, и до последней секунды боролась, глупой надеждой томясь и горя, – зря. Рядом с ним ты была в беде неотлучно, а он-то где? Скажешь – не мог, не успел иль не ведал? Предал.
– Ну что ж, мне некуда спешить, есть время слезы осушить и все понять, и все решить не в спешке, на бегу… И вот итог – вполсердца жить, и полудружбою дружить, и полуправдой суд вершить я в жизни не могу. О том, что было и прошло, чей след снегами занесло, не говорите больше мне. Мой друг не виноват. Мой друг погиб на той войне, столетия назад. И я оплакала его – отныне и навек. И не осталось ничего – лишь белый-белый снег.
(…ты пройдешь на тропе лесной испытание белизной…)
Того, кто предал, больше нет. Звенит с палитры белый цвет! Я вязкой краски зачерпну и, кисточкой скользя, так осторожно зачеркну и профиль, и глаза, и голос ласковый, и смех… И снова чист пейзаж. На нем, как прежде, лес и снег, поляна и гнедаш.
(…и с тобой за все сполна рассчиталась белизна…)
Под настроенье – чаще, реже – я вспоминала зимний луг, где вытоптан неровный круг – подобье зимнего манежа. Я вспоминала этот луг и лица маленьких подруг, румяно-нежные с мороза – наездниц местного колхоза. И седла, сложенные в ряд, и гривки кротких жеребят, и на снегу следы, и теплый сумрак денников, и горку стоптанных подков, и снежный вкус воды, и серпантин тропы лесной…
Беда не сладила со мной. Я вышла из беды.
Вот живу и знаю: так проживает без прописки островок шального риска и гуляет по лесам черновик моей легенды без начал и без концов, как неснятой киноленты неразрывное кольцо. Там по вздыбленному лугу, что ни ночь, надежде вслед, я скачу на помощь другу – только друга больше нет…
Пусть живет лесное диво, нас с тобой в веках храня, заключенных в рамку дня! Все, что было, справедливо для тебя и для меня. Я ведь и теперь готова встретить гибель на скаку, если нет пути иного написать свою строку.
Знать, судьба моя такая – средь заснеженного края поиск на тропе лесной испытанья белизной…
Игорь СавенкоМожет быть
И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек…
В.Высоцкий
Над подсыхающим после короткого летнего дождя больничным садом летел полный отчаяния крик:
– Это может быть! Может! Я лично с ним разговаривал, пустите!.. Клянусь, честное слово!
Трое дюжих санитаров навалились и стали заламывать руки. Механик, ожесточенно вырываясь, ругался и кусался.
– Смотри, бестия, до крови, – сказал краснолицый санитар, затягивая на спине у Механика рукава смирительной рубашки. – Ты у меня побуянишь!..
– Тащите его сюда, – громко командовала с крыльца заведующая отделением. – Да осторожнее, это же не мешок с соломой. Давайте в изолятор. Кто его спровоцировал?
– Сам начал рассказывать, – оправдываясь, пояснил один из сумасшедших, – а как дошел до этого места, так сразу того… требуется фиксировать. Это про него Высоцкий песню написал, ему моряки рассказывали, которые навещают.
Зябко переступая по влажной земле войлочными тапочками, сумасшедшие разошлись играть в домино и смотреть телевизор.
…Механик лежал связанный на кушетке и смотрел в потолок.
– И ты, Толя, мне не веришь?
– Верю, – ответил краснолицый санитар, шелестя у окна “Советским спортом”. – Нашел кому рассказывать, сумасшедшим в сумасшедшем доме… Ты давай, засыпай, а то еще уколю.
– В море хочу, – с тоской сказал Механик.
– Все хотят. Ты сначала вспомни, как тебя зовут.
– Какая разница? Саша.
– Андрей ты.
– Ну, Андрей.
– Нельзя тебе в море. Напутаешь в машине и взорвешься. А санитарам отвечай, зачем, мол, отпустили… Ты спи, спи.
Механик закрыл глаза, задрожал и стал рассказывать:
– Вот, поднимаюсь я из машинного отделения, выхожу на палубу. Солнце яркое, тропическое. Иду по правому борту, навстречу – вахтенный помощник. И вдруг – вполнеба, круглое, свистящее – трах!.. Я в воде. Волны как-то странно пузырятся, вода совсем не держит, барахтаюсь. Вижу пробковый плотик, хватаюсь за леер, чувствую, переворачиваюсь… Дальше – полный штиль, морская гладь. “Капитана Гончаренко” как не бывало, только несколько спасательных кругов и два – три ящика. Я на этом плотике лежу, спецовка разорвана, и кругом больше никого… Потом появляется этот. Я сначала подумал – водолаз: круглый шлем с иллюминатором и дальше, как скафандр. Высунулся из воды по пояс и стоит. Решил сперва – американец, потом чувствую – не то. Стоит в воде, не двигается, смотрит. Затем спрашивает:
– Ты кто?
– Советский моряк, – отвечаю, – механик с “Капитана Гончаренко”. Кажется, остался один после кораблекрушения…
– Ты живой?
– Живой пока…
Этот протягивает руку и дотрагивается. От прикосновения по всему телу озноб, будто змея скользнула.
– Значит, правда, на небе люди живут?
– Что? – спрашиваю и тут соображаю: этот говорит так, что никакого звука нет, а слова возникают прямо в голове.
– Телепатия, – объясняет. – И раз вы меня слышите, значит, вы существо разумное. Это был ваш корабль?
“Ничего себе, – думаю, – допрыгались мы у Бермудов, под “летающее блюдце” угодили. Что же делать теперь?..”
Этот молчит, потом продолжает:
– И я остался один. Наш корабль разбился, и товарищи мои погибли.
– А вы, значит, из космоса? Или как?
– Нет, это вы из космоса. Мы раньше думали, что в космосе разумная жизнь невозможна. Теперь я убедился, что это не так. Если я спасусь, наш мир узнает о вас.
– А вам спасаться туда? – спрашиваю и показываю вверх.
– Туда, – отвечает, показывая вниз. – Мы живем на дне океана, ваш мир для нас – космос. Наша атмосфера – это вода, мы ею дышим. Лишь недавно наши корабли смогли преодолеть границу сред.
– Круглые такие? Как тарелки?
– Да, это наши космические аппараты. Преодолеть границу сред можно только в этом районе, здесь существует магнитно-гидродинамический феномен…
Он придвинулся ко мне, и я увидел сквозь иллюминатор его лицо: сплющенное, покрытое зеленой чешуей, без рта, без носа…
– Хоть вы и внушаете мне отвращение, – говорит этот, – я должен приветствовать вас как собрата по разуму. Нам нужно очень многое сказать друг другу…
– И тут, Толя, он вдруг исчез. Совсем, понимаешь? Я привстал на плотике, вижу – корабль. Меня рыбаки подобрали…
– Неугомонный ты какой, – ответил краснолицый санитар и, засучив рукава, взялся за шприц…
На двухкилометровой глубине, на дне огромного тектонического разлива в специальном пещерном санатории лежал Штурман.
– Это может быть! Может! В космосе живут разумные люди! – кричал он. – Я лично разговаривал с одним!.. Да развяжите же!
– Неугомонный ты какой, – ответил зеленолицый санитар и, засучив рукава, взялся за шприц…
Михаил ЛаринВ чужом доме
В среду Кирилл проснулся со страшной головной болью. Осторожно, чтобы не разбудить жену, встал с дивана. Не включая свет, долго ерзал по полу ногой – искал тапки, которые перед сном снял где-то рядом. Наконец понял, что Верлена, как всегда, поставила их у двери. В аптечке разыскал начатую болеуспокаивающую конвалюту. Для верности достал две таблетки и, хлебнув немного воды, глотнул сразу обе.
У него никогда еще так не болела голова. Сказать, что это отзвук вчерашней вечеринки, – значило ничего не сказать. Нет, дело не в том, что пил. Но почему так раскалывается голова?
Кирилл подошел к окну. За стеклом был утренний сумрак, который съедал бледный туман. Хотел приготовить кофе, но раздумал. Несмотря на выпитые таблетки, боль не унималась. Что-то исподволь, но упрямо врывалось в сознание, напоминало о себе.
Внизу тихо, словно крадучись, прошуршала шинами легковушка, и снова все замерло. Только в висках, как кузнец по наковальне, с завидной последовательностью бил молоток…
“Чем я провинился и перед кем? Почему каждую среду повторяется эта страшная экзекуция?” – подумал Кирилл.
Прошел в кабинет, сел в кресло и взял первую попавшуюся книжку. Не успел даже раскрыть ее, как на него упало то, что вот уже на протяжении месяца мучило, адской болью разливалось по телу.
“Но ведь я должен, обязан был забыть все! Ведь это случилось так давно!..”
С тех пор, как наш новый шеф оказался на Спутнике, прошло почти двадцать пять лет. А впервые я встретился с его пронзительными колючими глазками, когда был совсем юным. Шеф тогда появился в аудитории неожиданно – едва начался урок. Не обращая никакого внимания на учителя, старик в сопровождении целой свиты не спеша осмотрел помещение. Затем, едва не застряв в проходе, подошел к нашей парте и ткнул похожим на сосиску пальцем в меня и моего товарища и неприятно прохрипел:
– Они пойдут со мной.
Учитель кивнул лысой головой и мигом подскочил к нам:
– Собирайтесь! Побыстрей! Книжки и тетради возьмете потом.
– Они им не понадобятся, – опять прохрипел старик и, окинув взглядом класс, показал еще на одного ученика. – И этот.
Раньше мы знали только две дороги от интерната, где учились, к небольшому ручейку, который впадал в бассейн, и к столовой. Дальше мы не могли ступить ни шагу– за нами пристально следили преподаватель и его помощник робот. Теперь же, обойдя ручей и бассейн, опасливо озираясь, мы топали извилистым полутемным коридором за стариком, который, казалось, не замечал нас.
Наконец он остановился, приоткрыл массивную дверь, из-за которой на нас упал резкий дневной свет. Толстяк пренебрежительно сказал.
– Все. Пришли. Отныне вы будете экспериментаторами. Мы не понимали тогда, в чем смысл этих слов. Да и где ребенку, который едва научился читать, знать о таких вещах.
Как утята за уткой, мы вошли следом за стариком в большую светлую комнату. Сразу же подбежал низенький рыжебородый мужчина. Он, как и наш бывший учитель, Иван Степанович, послушно уставился на старика.
– Они будут экспериментаторами, – резко бросил дед, и, даже не взглянув на нас, быстро вышел из комнаты.
Бородатый, облегченно вздохнув, улыбнулся, подошел ближе и похлопал меня по щеке.
– Давайте познакомимся, дети, – приветливо сказал он, и мы, наверное, подсознательно сразу же почувствовали, что у этого рыжебородого по-отцовски доброе сердце. – Меня зовут сэр Клиффорд. А как вас? Ну вот, например, тебя? – Бородач обнял моего товарища.
– Двести двенадцатый, господин, – заученно выпалил Жора.
Сэр Клиффорд ничего не сказал, но я увидел, как теплые карие глаза его сразу посуровели.
– Имя у тебя есть, детка?
– Так точно! Двести двенадцатый, господин, – опять отрапортовал Жора, даже не моргнув глазом.
– А мама как тебя называла?
– У меня мамы не было, – ответил Жора, вновь стукнув каблуками маленьких ботинок.
Сэр Клиффорд вздохнул и обратился ко мне:
– Ты тоже не знаешь, как тебя зовут?
– Ки-Кирилл, – запинаясь, ответил я, поскольку очень давно не произносил свое имя. У меня тоже был номер.
– Вот и прекрасно, – подобрел сэр Клиффорд и, проведя рукой по своей рыжей бороде, словно снимая с нее паутину, прижал мою голову к цветастой рубашке, которая плотно облегала его круглый животик. – Все-таки еще не забыл!
Через час мы все сидели у стола и, перебивая друг друга, весело рассказывали сэру Клиффорду о себе, о своих радостях и огорчениях. Сэр Клиффорд стал для нас не только учителем, с которым можно было посекретничать о самом необыкновенном и непонятном. Он стал для нас и вторым отцом.
Но это продолжалось недолго. Месяца через два учителя забрали от нас и посадили за решетку. Об этом мы узнали не тогда, а через четырнадцать лет, когда нас посвятили в экспериментаторы. Мы узнали и еще об одном. Оказывается, Зрода, нашего шефа, выслали с Земли за преступления, которые он совершил на нашей родной плачете. Зрод давно хвастался перед коллегами, что создаст что-то такое, “страшненькое”, от чего у всех землян волосы дыбом встанут. Его слова все воспринимали как шутку. Но Зрод своего все же добился. Он создал в подпольной лаборатории смертельно опасный для всего живого вирус и собирался его применить. Человечество было на грани катастрофы. Случайно об этом узнали ученые. Был суд, и Высшая Комиссия решила выслать Зрода на Спутник.
Да, шеф больше не прилетит на Землю. Он умер для нее сразу же после того, как в последний раз за ним закрылись люки транспортного корабля, который вез приборы и оборудование для только что организованного в космосе исследовательского института. Его мы называем Спутником. Это случилось так давно…
И с тех пор он живет здесь, руководит огромным институтом. Возможно, именно поэтому он так суров с нами, сотрудниками многочисленных лабораторий Спутника!
Я сейчас как у разбитого корыта. Доложить о том, что сегодня не выполню распоряжений шефа, не мог. Но исполнить все то, что он велел мне, было не под силу.
Не потому, что сегодня я должен после очередного эксперимента прибыть в пятнадцать ноль ноль в центр, и не потому, что настроение у меня было паршивенькое – испортили еще поутру, когда подсунули этот проклятый эксперимент, а скорее потому, что именно в этот день, двадцать девятого ноября, я впервые мог вести разговор о поездке на родину, где не был почти с дня своего рождения. Именно сегодня я имел право напомнить об этом даже шефу – бездушному старику, у которого, казалось, не осталось ничего человеческого: приноси исполненную в сжатые сроки работу, а имеешь ли от этого удовольствие или нет – все равно. Но систему подсматривания за всеми нами, экспериментаторами, на Спутнике отработали на славу. Везде, где только можно было, вмонтировали, вклеили, вложили подслушивающие устройства. Их я находил даже в обычных стальных шурупах и болтах.
Что же делать? Не успею я справиться с этим проклятым заданием до пятнадцати часов, хоть упади! И тогда об отпуске нечего даже заикаться. Еще пять лет придется здесь сидеть, поскольку ракеты не каждый день прибывают на Спутник.
Н-да, не везет нашему набору! Никто из моих однолеток так и не попал на Землю. Как на зло, все время случался какой-то казус, и выстраданный за многие годы отпуск отодвигался на неопределенное время. Ракета не могла сразу забрать с собой всех. Кто-то должен оставаться на Спутнике. Получали право посещения родины лучшие из лучших. А таких – единицы. А что, ежели подсунуть ленту предварительного эксперимента? Нет, разгадают во время проверки. Для того мы и поставлены здесь, чтобы правильные ответы давать, верные решения записывать. Не такое начальство глупое, как кажется на первый взгляд. А может, попробовать заменить на этой ленте несколько всплесков возрождения материи? Ведь нужно же найти какой-то выход из создавшегося положения!
Да ладно! Либо грудь в крестах, либо голова в кустах! Подклею куски ленты, оставшиеся после предварительного эксперимента. Подклею и перепишу заново. Никто не должен догадаться… Но ведь я обману! Разве можно так? Да почему бы и нет! Неужто меня здесь никто не обманывал? Я хочу на Землю! Мечта детства может осуществиться!.. А прилечу назад, на Спутник, – ночами буду сидеть и закончу эксперимент! Вот и вся печаль, Кирюша!
Меня привезли на Спутник еще четырехлетним ребенком. Отца почти не помню. Вместе со мной на Спутник привезли и Жору, Геннадий, Ника, Джива и еще шестьдесят детей. Мы даже не помним ракету, которой нас перекинули на Спутник, как не знаем и того, где именно на Земле, на каком континенте мы родились. Пообещали, что когда будем отправляться на Землю в отпуск, нам выдадут специальные карточки, на которых будет все написано: в какой стране мы родились, когда и при каких обстоятельствах нас вывезли, кто наши родители, где живут…
Впервые, сознаюсь, мне захотелось туда еще в пять лет, когда няня тайком показала видеофильм и рассказала нам о Земле. Неоднократно затем представали видения – сказочная сосновая роща, голубизна неба, извилистая речушка… И именно с тех пор каждый день, каждый час я мечтал побывать на родине.
Все, решено!.. Обману. Подклею остатки предыдущего эксперимента и еще что-то из архива. О нем, наверное, уже забыли… Три последних года копаемся в том архиве лишь я да еще несколько экспериментаторов, моих товарищей. И ни разу я не видел там ни шефа, ни его непосредственных помощников. Не видно там, как это ни странно, и следящей аппаратуры. Ну, а когда шеф догадается о моем поступке, уже поздно будет. Пока они там раскопают, что и к чему, то… Мне бы только вырваться из этого болота…
Низенький, опрятно одетый старичок в черном пиджаке внимательно смотрел, как на чистую страницу уверенно ложились строки цифр, текста.
– Тут что-то не то, – сказал Томпсон тихо. – Не то, шеф. – Неожиданно на его старом, изборожденном темными глубокими морщинами лице заиграла по-детски наивная, радостная улыбка.
– Да, да, шеф. Но этот парень, скажу вам, далеко пойдет. Уже на второй стадии догадался, что можно просто объегорить нас. Помните сорок восьмого?
– Это тот, который догадался на четвертой стадии?
– К сожалению, наши тогда перестарались и случайно убили его.
– Не случайно, Томпсон, не случайно. Мы специально сделали, чтобы спрятать концы в воду. Если бы на Земле об этом узнали, нам бы не поздоровилось. Такая бы каша заварилась.
– Наконец вы, шеф, сознались. Через пять лет после смерти сорок восьмого. Но ведь каков парень был!
– Что эти пять лет в сравнении с вечностью?
– Ничего, шеф, пылинка, мизер, но…
– Никаких “но”, Томпсон! – Зрод замолчал, затем снова продолжил, говоря так тихо, что Томпсон должен был прислушиваться. – Вечность! Вот чего нам недостает! Когда же все-таки смогу сказать, что я бессмертен? Когда?
Наконец Томпсон осмелился перебить шефа.
– И что будем делать со сто шестьдесят девятым? Тоже уничтожим? Но каков парень! На второй стадии догадался! Он же подклеил ленту эксперимента, проведенного еще в 1976 году Хантом в Австралийском научно-исследовательском центре числовой метрологии в Мельбурне!
– Нет, этого попридержим. – Зрод кашлянул в кулак. – Пускай погуляет. Интересно, с чем он дальше… И не забудь о премиальных сто шестьдесят девятому! Отдай сполна!
– Отдам, не волнуйтесь… – Томпсон поклонился и вышел из кабинета шефа, плотно прикрыв за собой массивную черную дверь.
“Наконец мне дали трехмесячный отпуск. Как ты их, Кирилл, а?! Молодцом! Еще и премиальные подкинули за прекрасно исполненную работу. Сегодня рейсовой ракетой отправлюсь на родину. Больше они меня не увидят! За три месяца можно найти такой тихий уголок, что…”
Улыбаясь, Кирилл поднялся на второй этаж лаборатории, завернул за угол. Легонько нажал на ручку, и дверь беззвучно раскрылась. Ему на миг стало жаль своей комнаты, где прожил пятнадцать лет и куда уже никогда не вернется. Но юноша отогнал эту непрошеную мысль.
Прошел к столу, взял из голубого стаканчика карандаш и написал несколько фраз на сером тонком листке, затем перечеркнул все, сел на стул. Парня мучила совесть. Ведь до сих пор он никого не обманывал, и настроение было подавленным…
– Шеф, а он… – Томпсон на миг остановился. – Он того, удрать намеревается. Нельзя этого допустить! Психоанализаторы показывают, что у сто шестьдесят девятого что-то с психикой не того… – От нетерпения Томпсон заерзал в кресле.
– Ты бы и сам… – Зрод повернулся к Томпсону. – И у тебя бы расстроилась психика, ежели бы знал, что вот-вот увидишь Землю, твою родину…
– Но…
– Да пусть… Посмотрим, что из этого выйдет.
– Но ведь вы знаете, что за такие действия вас по головке не погладят…
– Я сам себе хозяин и ни перед кем не должен отвечать до тех пор, пока не случится что-то архи… Организуйте наблюдение, но так, чтобы он заметил. Понятно?
– Все сделаем.
– Передатчик вмонтирован? – спросил Зрод, взглянув на Томпсона.
– В кожу на левой руке. Энергии на две стадии. Затем нужно подзаряжать.
– Я же говорил, последней серии! Последней! – прокричал Зрод, подскакивая к подчиненному.
– Но ведь он уж очень дорог, шеф!
– Экземпляр этот еще дороже, разиня! – Зрод опять сел в кресло. – Из поля зрения не выпускать ни на шаг! Все его передвижения должны быть зарегистрированы!
Ноги тонули в податливом мелком речном песке. Идти было тяжело, но юноша все ускорял и ускорял темп. Он удирал от преследователей. Еще вчера Кирилл заметил недоброе, но сначала не обратил внимания. Сегодня же поутру на углу Центральной улицы и проспекта Кирилл снова столкнулся нос к носу со знакомым лицом. Нет, вчера он не ошибся. Это был ЧНК – чрезвычайный надзиратель космоса.
Кирилл знал об этих надзирателях больше, чем положено было им, экспериментаторам. ЧНК в любую минуту мог заставить его вернуться на Спутник. Только поздно вечером Кириллу удалось оторваться от преследователей. В том, что их было несколько, – он не сомневался. Кирилл шел по берегу речки, которую переплыл ночью. Он должен был дойти до ближайшего аэропорта и сразу же вылететь оттуда первым попавшимся самолетом.
Зрод еще сладко спал, когда в предутренней тишине в его спальне громко зазвонил телефон. Не отрывая головы от подушки, нехотя поднял трубку и недовольно сонным голосом спросил:
– Какого черта?
– Извините, шеф, это Томпсон. Сто шестьдесят девятый исчез.
– Как? Когда? Я же говорил, глаз не спускать! Сейчас же ко мне! Немедленно! Куда-куда?.. В домашний отсек!
– Сей момент, шеф!
– Ну наконец-то, отыскал этот дьявольский механизм! – тихо сказал Кирилл. – Вот куда его вмонтировали. – Юноша достал из кармана небольшой нож и, прикусив губу, быстро сделал два надреза на руке в том месте, куда был вмонтирован едва заметный, не больше зернышка мака, передатчик. – А теперь ищите ветра в поле. Земля не маленькая планета, есть где скрыться.
Небольшой городок, по которому шел Кирилл, не нравился юноше. Но ему казалось, что здесь его не знают и не найдут. На последние деньги он нанял комнатку с грязным потолком, с раскладушкой, на которую было брошено какое-то тряпье. Умывшись с дороги, надел чистую рубашку и пошел искать работу.
Прошло несколько долгих часов. От усталости гудели ноги, от голода – голова. Работы Кирилл так и не нашел. Можно было, естественно, показать кому нужно удостоверение с двумя золотыми стрелками крест-накрест на обложке, и работа была бы на выбор. Но тогда ему придется вернуться на Спутник… Нет, уж лучше ходить голодным…
Кирилл сел на давно некрашенную скамью в тени огромной липы. Было слышно, как над ее цветками гудят работяги-пчелы. Страшно хотелось есть. И, как назло, неподалеку продавали горячие пирожки…
– А все-таки вы неплохо придумали, Томпсон. Пирожки, столовые для безработных… Ха-ха-ха, – Зрод рассмеялся. – Голод! Это прекрасно! Пирожки… столовые… – он смаковал слова, растягивая их, словно жевательную резинку. – Здесь мы его и накроем. Все наши работают?
– Да, шеф, даже по деревням разослали фото сто шестьдесят девятого. Его все знают…








