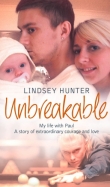Текст книги "Богатые - такие разные"
Автор книги: Сьюзан Ховач
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц)
На этот уик-энд я вернулся в Мэллингхэм.
Мне пришлось проработать весь субботний день, но в семь часов я отправился на север по Ньюмаркитской дороге и к полночи был снова в Северном Норфолке. В столовой горели свечи, на столе были холодная жареная индюшатина и хлеб домашней выпечки. Одетая, как у Диккенса, в длинное черное платье, меня ждала Дайана.
– Шампанское охлаждается в Мэллингхэмском озере, – сказала она, когда мы расцеловались, и мы спустились к причалу с лодками, чтобы извлечь бутылку из воды. Поддавшись порыву, я предложил прогулку при луне под парусом, но, поскольку лодка могла бы опрокинуться от наших занятий любовью, мы вернулись в дом, чтобы должным образом завершить очередную встречу.
Потом я увез ее с собой в Лондон, и мы ходили в театр, где посмотрели самый выдающийся спектакль летнего сезона – возрожденную постановку пьесы Пайнеро «Вторая миссис Тэнкерей», и ad nauseam[8] обсудили исполнение Глэдис Купер; посмотрели и новую комедию Эдны Бест, которая мне не понравилась, и провели много счастливых часов за спорами по поводу значения произведений Джорджа Бернарда Шоу. Устав в конце концов от такой легковесной интеллектуальной деятельности, мы обратились к спортивным событиям сезона. Я купил за тридцать гиней ложу на Ройял Аскот[9], и мы увидели, как знаменитая лошадь Золотой Миф выиграла как Золотую вазу, так и Золотой кубок.
Однако еще до конца июня имя Дайаны появилось в колонках светской хроники английской прессы. Мы отправились на машине в Уимблдон, где на Новом стадионе должен был начаться чемпионат по теннису, и, хотя почти непрерывно шел дождь, в половине четвертого сам король в королевской ложе трижды грациозно ударил в гонг, возвещая открытие чемпионата. Я не ожидал, что в присутствии короля обратят внимание на нас, но какой-то предприимчивый журналист узнал меня и спросил у О'Рейли имя сидевшей со мной леди. Зная, что я никогда не возражал против беглого упоминания обо мне в прессе, О'Рейли удовлетворил его любопытство.
Следующим утром он принес мне газету «Дейли Грэфик» с отчетом о событиях в Уимблдоне. Под рубрикой «Известные люди среди зрителей» говорилось, что широко известный американский миллионер С. Ван Зэйл присутствовал на стадионе вместе с мисс Дайаной Слейд.
Я подумал, что столь осторожное и небольшое упоминание никому не могло причинить вреда, но не учел отвращения англичан к гласности.
– Как это вульгарно! – воскликнула Дайана, с отвращением отбросив газету. – И к тому же опасно. Что, если наше дело превратится в грандиозный скандал и обернется против нас?
– Не могу понять, почему это могло бы случиться. Мы ведем себя на публике вполне благопристойно и достаточно осторожны с прислугой. Чего еще могут ожидать британцы от аристократии?
Уже на следующий день из Нориджа приехал Джеффри Херст, ответивший на этот вопрос.
Я по-прежнему был занят делами в офисе больше, чем предполагал. Из Нью-Йорка приехал Хэл Бичер, и хотя я рассчитывал, что его приезд обеспечит мне большую свободу, я скоро убедился в своей ошибке – я оказался еще более привязан к офису, чем когда-либо раньше. Хэл был хорошим парнем и страстно желал стать коммерческим банкиром в Лондоне вместо инвестиционного банкира в Нью-Йорке, но терминология была не единственным различием между этими двумя занятиями, и, если говорить откровенно, не всегда легко научить старую собаку новым трюкам. Мы прошли с ним примерно половину пути ознакомления его с делами в утро дебюта Дайаны на страницах «Дейли Грэфик», когда без предупреждения явился Джеффри Херст, пожелавший, чтобы я его принял.
– Я уверен, что вы не хотите с ним встречаться, сэр, – сказал О'Рейли, – но, поскольку он друг мисс Слейд, я счел необходимым доложить вам о его приезде, прежде чем спровадить его.
– Как обычно, О'Рейли, вы поступили правильно. Попросите его подождать.
К этому времени мне уже очень хотелось отдохнуть от Хэла. Мы целый час обсуждали положения английского Закона о компаниях 1908 года, и Хэл не переставал восхищаться уважением англичан к законодательству. В Америке мы могли торговать ценными бумагами более или менее по собственному усмотрению, относясь достаточно уважительно к довольно свободным законам, регламентировавшим выпуск и продажу акций. Но в Америке концепция свободы личности была настолько гипертрофирована, что даже законы, защищавшие граждан от инвестирования под поддельные акции, рассматривались как нарушение права людей разбрасывать деньги как им заблагорассудится.
– Теперь давайте этого парня, – сказал я О'Рейли через пять минут, после того как отослал Эла с чашкой кофе вчитаться в сложные положения Закона 1908 года.
Джеффри Херст ворвался в кабинет с видом крестоносца, направляющегося на битву с сарацинами.
– Присаживайтесь, господин Херст, – проговорил я, сразу сообразив, откуда дует ветер, и безошибочно не подавая ему руки. – Я восхищен возможностью видеть вас снова – как хорошо, что вы позвонили! Как поживает ваш отец?
– Очень хорошо, благодарю вас, сэр, но я приехал сюда не для того, чтобы обсуждать его здоровье. Я приехал сказать вам...
– Могу ли я предложить вам чашку кофе? Или чаю?
– Нет, спасибо, сэр. Я приехал сказать вам, что ваше отвратительное поведение зашло слишком далеко, и вы не имеете абсолютно никакого права тащить вместе с собой Дайану на страницы вульгарной прессы!
– Не знал, что вы читаете вульгарную прессу, господин Херст, и кроме того подозреваю, что «Дейли Грэфик» вполне могла бы посчитать такое определение клеветническим. Однако мне не хочется ссориться с вами.
– А я как раз очень хочу поссориться с вами!
– О, дорогой мой, – я посмотрел на него благожелательно. Он был таким красивым мальчиком, и таким воспитанным. Я подумал, не был ли он влюблен в Дайану до моего появления на сцене, и решил, что нет. У него был страдальческий вид человека, слишком поздно открывшего для себя фундаментальную истину жизни, чтобы это как-то могло ему пригодиться.
– Вы воспользовались своим преимуществом перед Дайаной, вы развратили ее... – Эта тирада, которой можно было ожидать, продолжалась несколько минут, в течение которых я терпеливо слушал, поглядывая на стоявшие на моем столе предметы. Внезапно я заметил, что календарь показывал двадцать восьмое число, и вдруг вспомнил, что двадцать девятое – годовщина нашей свадьбы. Взяв карандаш, я быстро записал на листке блокнота: «Телеграмму Сильвии». – ...И как вы позволяете себе заниматься какими-то делами, когда я с вами разговариваю! – выпалил мальчик с нараставшим гневом, вскочил на ноги и попытался сбросить блокнот со стола.
Я схватил его кисть так сильно, что он пронзительно закричал, и толкнул его обратно в кресло.
– Ваше поведение неприлично, господин Херст, – коротко бросил я. – Джентльмену не подобает так себя вести.
Очевидно, я точно выбрал нужную английскую фразу, так как он сразу же утратил дар речи. Когда он сбивчиво продолжил свои обвинения, я сказал ему, не особенно подчеркивая смысл слов:
– Ваша ссора не со мной, а с Дайаной. Что касается меня, то я стараюсь заботиться о ней. Это, может быть, вам не нравится, но вовсе не означает, что у меня плохие намерения. Я хочу поправить вас в одном: я не соблазнял Дайану. Это она меня соблазнила, совершенно сознательно и с широко открытыми глазами. Если бы вы заглянули в свои собственные воспоминания о том инциденте с большой плетеной корзиной, полагаю, что ваша естественная порядочность заставила бы вас признать, что я говорю правду. Я не могу сказать, является ли ее личная жизнь одной из ваших забот, хотя сильно подозреваю, что нет. Вы ей не брат, и даже не кузен, хотя когда-то, возможно, у вас и было какое-то личное взаимопонимание с ней, о котором мне, впрочем, ничего не известно. Если это так, то я могу извиниться, сожалея о своем незнании, и повторить вам, что ваша ссора это ссора с ней, а не со мной. Если это не так, то я считаю, что вполне имею право на чувства Дайаны.
– Но Дайана сама не понимает, что делает! В конце концов она еще девочка!
– Господин Херст, вы можете считать женщин умственно отсталыми. Я не могу. Дайане двадцать один год, и она точно знает, что делает. Если бы она была мужчиной, ее решение найти капитал для начала собственного дела и сохранить свой дом, было бы вполне достойно одобрения. Если бы она была мужчиной, ее решение потерять девственность и начать заниматься любовью также было бы совершенно естественным и даже здоровым. И разве только из-за того, что она женщина, от нее следует ожидать такой жертвы: добровольно лишиться своего дома, возможной карьеры и личной жизни. И все для того, чтобы следовать каким-то нелогичным мужским правилам поведения женщины?
Он пристально смотрел на меня. Знакомя его с новыми идеями, я постепенно его успокоил. Наконец он проговорил с трогательной наивностью:
– Значит ли это, что вы одобряете эмансипированных женщин?
– Боже правый, конечно нет, я же мужчина! Зачем мне стремиться изменить этот так устраивающий нас мир?
Он не уловил иронии в моем голосе.
– Но вы только что сказали...
– Разве вас в школе не учили всесторонне аргументировать каждый конкретный случай?
Он кивнул, как завороженный.
– Я всегда думал, что Дайана станет такой же, как ее мать, – заметил он наконец. – Она клялась, что нет, но теперь я вижу, что она стала такой же.
Это было его первое замечание, представляющее интерес.
– Мать Дайаны была эмансипированной женщиной? – быстро спросил я.
– О, разве она вам не говорила? Она была суфражисткой, ее арестовали, и она умерла в тюрьме. Умерла от столбняка – ей повредили горло при принудительном введении пищи и занесли инфекцию.
– Господин Херст! – прервал я его слова самой гостеприимной улыбкой, – может быть, я могу предложить вам стакан мадеры?
Он выпил три стакана мадеры, а я тем временем осторожно выудил из него дальнейшую информацию. Когда я узнал достаточно подробностей для того, чтобы в досье О'Рейли на Дайану Слейд осталось меньше пробелов, я поднялся на ноги, печально улыбнулся и сказал, что мне необходимо вернуться к делам.
– С вашей стороны было так мило заглянуть ко мне, – пробормотал я, горячо пожимая ему руку. – Передайте отцу выражения моего самого искреннего уважения.
Он сказал, что передаст. Подозреваю, что он не вспоминал о своем гневе, пока О'Рейли не вывел его из дома, и я улыбнулся мысли, как он скрежещет зубами всю дорогу в Норидж.
Он был хорошим парнем, но ему следовало многому научиться.
– Я застрелю Джеффри, когда увижу его в следующий раз, – сказала Дайана.
– Это было бы не только неприятно, но и неоригинально. Почему вы так стыдитесь вашей матери? При мне, во всяком случае, вам нечего ее стыдиться! Я всегда восхищался суфражистками. Такое честолюбие! И такая приверженность гласности! Они заслуживали того, чего хотели!
– Я отвергаю неуместный идеализм! Они могли бы получить желаемое скорее, если бы не отталкивали от себя каждого мужчину, появлявшегося в их поле зрения. Меня просто тошнит от всей бессмысленности этой женской эмансипации. Все это так тривиально! Реальностью современного мира является борьба между социализмом и капитализмом, и она приобретает гораздо больший смысл, когда женщины борются за всеобщее равенство людей.
– Но разве борьба за какую-то политическую доктрину обеспечивает право голоса?
– О, вы думаете, что такой умный! Уж извините меня, но я не могу считать свою мать героиней. Она растратила свою жизнь и умерла сумасшедшей, и, если бы я была верующей, я каждый вечер падала бы на колени и молила Бога об одном и том же. Я не хочу говорить о матери, об эмансипации и решительно отказываюсь считать, что растрачивание чьей-то жизни без достаточной причины является чем-то героическим.
Я сразу понял, что уход ее матери, даже если он был вынужденным, оказал на нее влияние, от которого она не оправилась до сих пор, и, чтобы перевести разговор на менее болезненные темы, я беспечно спросил:
– Вот вы говорите о героическом идеализме, а вы читали поэму Теннисона «Месть»?
В ней снова заговорило ее собственное «я».
– Пол, – рассмеявшись, сказала она, – если вы еще хоть раз напомните мне об этом жалком викторианском стихоплете, я закричу! Да, кажется, однажды, в школе, меня заставили читать его стихи. Я ненавижу поэзию, прославляющую войну.
– О! Но ведь поэма «Месть» вовсе не о войне, а о любви и о преданности идеалам, а также обо всем другом, что война сделала немодным. Читайте ее иногда, когда вами овладевает такое уныние, что не остается ничего другого, как смеяться над миром!
Я посоветовал ей это вполне добродушно и, вспомнив о давнем обещании, купил антологию поэзии Теннисона, с намерением вручить ей книгу как прощальный подарок. Однако я все еще не решил окончательно, когда уеду домой. Понимая, что мне придется потратить на Хэла больше времени, чем я думал, я написал Сильвии, что приеду к ней в штат Мэн в середине августа, но при этом серьезно думал о том, чтобы остаться в Англии до начала сентября. Небольшие каникулы под парусом на Норфолкских озерах были весьма соблазнительной перспективой.
Тем временем мои уик-энды в Мэллингхэме становились все более продолжительными, и двадцать девятого июня, в день, когда я первоначально планировал отплыть домой, я в очередной раз, вместе с Дайаной, шел под парусом по озеру Хорси, думая о том, что плыть на утлой лодчонке по Норфолкским озерам бесконечно приятнее, чем тащиться на лайнере через океан.
Мы завершили свой традиционный морской поход не менее традиционной прогулкой по пляжу и укрылись от всего мира в нашей традиционной лощине.
– В этом прелестном месте забываешь обо всем! – заметил я и начал раздевать Дайану.
Мы несколько дней по обычным причинам не занимались любовью, а при свете дня не делали этого уже почти две недели. Дайана почему-то предпочитала натягивать сверху простыни, когда мы уединялись в ее комнате днем, а во время нашей предыдущей прогулки в дюны какая-то группа натуралистов совершенно не вовремя решила понаблюдать за птицами так близко от нас, что под наблюдением могли оказаться и мы в нашей любимой лощине.
– Помните тех ужасных людей на пляже в прошлый раз? – притягивая меня к себе, спросила Дайана.
– Очень хорошо помню. Вы не снимете все остальное?
– Мне холодно. – Она неубедительно изобразила дрожь и добавила, когда я попытался проигнорировать ее жалобу: – Нет, правда, Пол, я замерзаю! Вам не кажется, что дело идет к дождю?
– Вы почти убедили меня в том, что сейчас повалит снег. Боже мой, да посмотрите же вокруг!
Она послушно огляделась. Я расстегнул лифчик и отбросил его в сторону раньше, чем она попыталась протестовать, а следующее мое страстное движение вообще не вызвало никакого протеста.
Воцарилось долгое молчание.
Я посмотрел на ее груди, увидел едва заметные, но несомненные изменения и понял, что наши близкие отношения кончились. Я резко проговорил:
– Вы солгали мне, не так ли? – И когда по ее лицу тихо заструились слезы, я почувствовал, как заскользил от нее по коварному уклону в прошлое.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
«Папа! – плакала Викки. – У меня будет ребенок!» Я был в Нью-Йорке, в роскошном особняке, где она жила после своей свадьбы. «Ну вот, Пол, кажется, у меня будет ребенок», – услышал я голос Долли, вернувшись на десятилетия в прошлое.
Это было в моей квартире в Оксфорде, – под потертым пальто на Долли было платье горничной. Она была блондинкой, с вздернутым носом, который Викки не унаследовала, и с фиалковыми глазами, которые Викки преобразила свойственной ей живостью.
Я хотел остаться с Долли, но не смог, так как уже снова скользил дальше в прошлое, пока не услышал, как мать сказала отцу в доме на Девятнадцатой улице: «У Шарлотты будет ребенок. Полагаю, что нам остается только молиться о том, чтобы он родился здоровым». – «Черт побери, Эдит! – закричал мой бедный отец. Ощущение вины сделало его слишком чувствительным. – Я больше не потерплю никаких ваших упреков по поводу плохой наследственности в семье...»
Мой отец был глуп, но все же не лишен некоторого здравомыслия. Мать была умной женщиной, считавшей, что здравый смысл – это прекрасно, однако он слишком часто говорит о весьма посредственном уме. Все, включая и их самих, считали их брак счастливым и благополучным.
«Брак, – говорила мне мать после смерти отца, когда нам пришлось разбираться с его долгами и расплачиваться с его любовницами, – должен быть не одноколейной железной дорогой, а линией, обеспечивающей возможность движения в обоих направлениях. Разумеется, ваш отец женился на мне из-за моего состояния – и что тут плохого? Он нуждался в деньгах и был не из тех мужчин, что всегда могли заработать на жизнь способом, приемлемым для человека его класса. Но нельзя сказать, что я отошла от алтаря с пустыми руками. Я получила красивого, очаровательного мужа с хорошими манерами, о котором страстно мечтала любая девушка, особенно из простых, как я. Разумеется, я знала все о других его женщинах, но разве можно было ожидать чего-то другого? Ваш отец никогда не раскрыл ни одной книги, презирая культуру, и надо же было ему как-то развлекаться по вечерам».
Однако мне было всего пятнадцать лет, когда умер отец, и я жил уединенно, потрясенный этим ударом. Я часто боялся отца, но преклонялся перед ним и страстно хотел быть таким, как он. Прошло много лет, прежде чем я смог посмотреть на него так же беспристрастно, как мать, и в последние годы моей юности я испытывал отвращение от мысли о его далеко не благовидной личной жизни.
Тем временем мать с успехом выполнила свое самое заветное желание, дав мне классическое школьное образование. Она ненавидела моих домашних учителей – единственное требование отца в отношении моего образования сводилось к необходимости научить меня читать и писать – и когда выяснилось, что ни один из них не удовлетворял ее высоким меркам, она стала учить меня сама, как в свое время учила мою сестру Шарлотту. Шарлотта была на десять лет старше меня и хорошо относилась к детям. Она бесконечно играла со мной, когда я едва начал ходить, а когда она в восемнадцать лет вышла замуж и ушла из дома, я всю ночь проплакал в подушку. В моем одиноком детстве Шарлотта слишком часто была моим единственным товарищем, и когда я в девять лет стал дядей, то, к сожалению, должен признаться, ревновал к своей племяннице Милдред, как ребенок, который, проснувшись в одно прекрасное утро, понял, что ему придется делить родителей с каким-то нежеланным младенцем.
Чтобы облегчить мои страдания, мать предложила нам с Шарлоттой писать друг другу письма по-гречески. Работа над греческим эпистолярным стилем, думала она, обязательно отвлечет меня от ревности. Шарлотта предложила более гуманный способ, согласно которому я должен был просто приезжать к ней, чтобы видеть – она меня не забывает, но здоровье в то время у меня было плохое, и длинные путешествия из Нью-Йорка в Бостон плохо сказывались на нем, и мне запретили эти поездки.
Я был так огорчен этим решением и так разочарован жизнью в абсолютном затворничестве, что родители снова повели меня к самым выдающимся врачам, но все они говорили, что я безнадежен. Болезнь свирепствовала в семье, обычно минуя женщин и настигая двух мужчин из каждых троих. Некоторые переживали детство. В детстве болезнь переносилась очень тяжело и приводила к осложнениям, например таким, как повреждение основания черепа, нередко кончавшимся смертью. Выжившие в детстве, мужчины Ван Зэйлы были либо от рождения здоровыми, как мой отец, либо о них вообще не упоминали, как, например, о брате отца или о давно забытом двоюродном дедушке, умерших в полной изоляции.
«К сожалению, я должен сказать, что против этого самого ужасного патологического состояния пока еще нет лекарства», – сказал последний доктор.
«К несчастью, это крест, нести который ребенок не может».
Отец вытянулся во весь свой рост. Его роскошные усы протестующе ощетинились. «Вы можете ставить крест на моем сыне, сэр, – заявил он с тупым упрямством, Которым всегда славился, – но я никогда с этим не соглашусь». И повернувшись ко мне с громадным чувством собственного достоинства, он величественно объявил: «Вас вылечу я, мой мальчик».
Действуя на основании викторианского принципа: mens sana[10] может быть только в corpore sano[11], он в течение последовавших пяти лет посвящал все свое время превращению меня в атлета с хорошим здоровьем. Меня силой гнали в плавательные бассейны, уводили в двадцатимильные походы и заставляли лупить по мячу на теннисном корте. Мать горячо возражала, и, я думаю, что это почти разрушило их брак. Шарлотта думала, он убьет меня, а доктора говорили, что он сумасшедший.
Но я продолжал жить. Я преобразился. Отец победил.
То, как он добился моего преображения, думается мне, навсегда останется медицинской тайной, потому что одни лишь физические упражнения вряд ли могли улучшить состояние моего здоровья. Позднее я сильно подозревал, что определенную роль в этом сыграло внушение. Я совершенно не сомневался, что отец мог меня вылечить, и к моей детской вере прибавлялось страстное желание жить нормальной жизнью. Так или иначе, было невозможно отрицать, что здоровье мое намного улучшилось, и в четырнадцать лет, когда я уже больше девяти месяцев чувствовал себя совсем хорошо, отец наконец решил – мне можно начинать общаться со сверстниками из внешнего мира. В то лето, едва мы вернулись в Ньюпорт, он сразу же позвонил нашим соседям Да Коста и спросил, не может ли их сын как-нибудь утром присоединиться к нам, чтобы поиграть в теннис.
Я был на три года моложе Джейсона Да Косты, но отец тренировал меня так интенсивно, что я был способен выиграть гейм-другой у семнадцатилетних парней. И я выиграл бы не одну игру у Джея Да Косты, если бы не нервничал так в его присутствии, а когда понял, что его обычной манерой было снисходительное высокомерие, меня стала угнетать мысль: он знает о моей болезни. Отец уверял меня, что это невозможно. Он долго распространял слух, что я страдал астмой, и всех слуг, которые узнавали правду, увольняли прежде, чем они успевали посплетничать на мой счет. И все же мои страхи не проходили, и, поскольку я проигрывал каждую партию со все большим разрывом в очках, терпение отца постепенно иссякало, пока наконец он не прокричал мне из-за боковой линии: «Бога ради, Пол, да не веди ты себя как размазня, маленький сентиментальный идиот!»
Совершенно несчастный, я повернулся лицом к Джейсону Да Косте, и мой кошмар превратился в реальную действительность, в какую-то смутную искаженную маску в самом конце моего зрительного восприятия.
Впоследствии я вспоминал их лица, оба пепельно-белые от напряжения. Лицо отца стало жестким, а Джей дрожал как собака, от его высокомерия не осталось и следа, спокойствие изменило ему. Отец заставил его пообещать, что он никогда никому не расскажет о том, что увидел.
Я подумал, что он умер бы со стыда.
«И если вы когда-нибудь нарушите свое обещание, Джейсон...» – Нет, нет, никогда, господин Ван Зэйл, клянусь!»
Он удалился. Отец смотрел ему вслед, вытирая пот со лба. Больше никто не приходил играть со мной в теннис, и в следующем году, когда умер отец, нам пришлось продать коттедж в Ньюпорте.
По иронии судьбы это было последним проявлением моей болезни. После этого инцидента с Джеем здоровье не изменяло мне уже больше тридцати лет.
Через год после смерти отца мать решила, что у меня должна быть какая-то мужская компания, и поскольку здоровье мое было много месяцев превосходным, она рискнула послать меня в Ньюпорт пожить у Клайдов. Госпожа Люций Клайд была ее сестрой, а мои кузены, сыновья Клайдов, были моими ровесниками. Самому Люцию Клайду, старшему партнеру в инвестиционном банкирском доме «Клайд, Да Коста», моя мать отвела сомнительную роль человека, который должен заменить мне отца. Мальчики-Клайды считали меня коротышкой и чудаком, сами же казались мне скучными, необразованными идиотами.
Я ненавидел лето в Ньюпорте и возненавидел его еще больше, когда в очередной раз встретился с лучшим другом своих кузенов Джейсоном Да Костой.
Джей уже становился легендой. Мои кузены считали его просто «лучшим парнем всей округи», дядя Люций щедро угощал меня рассказами о блестящих способностях Джея, а в самом доме Да Костов Джей жил в окружении безумно любящих сестер, преклонявшейся перед ним матери и надменного, хвастливого отца. Тогда ему было девятнадцать лет, он был красив, самоуверен, умен, безупречен и несносен.
«Я держу слово, данное вашему отцу, Пол, – сказал он, когда мы были одни, – и вам нечего бояться и теперь, после его смерти». Однако, когда он улыбался этой своей так хорошо знакомой мне надменной улыбкой, я видел жестокий блеск в его глазах и понимал – ему хотелось как можно больше насладиться моим страхом перед тем, что он может нарушить данное слово. Он расчетливо играл в эту игру, и меня бросало в пот от его бесконечных тайных намеков и двусмысленностей. Он никогда не отказывался от этой игры. Это лишило бы его развлечения, и каждый раз, когда ему приходило в голову попугать меня, он смотрел на меня с какой-то рассеянной жалостью, смешанной с презрением. В его присутствии я чувствовал себя скованным, невыразимо униженным, и когда вернулся из Нью-Порта в Нью-Йорк, я понял, что единственное на свете, чего я желал, это сорвать невыносимое золотое руно с Джейсона, каким он был в тот последний день.
«Думать о мести, – убеждала меня мать, – не по-христиански, Пол». Но больше никогда не отсылала меня на лето к Клайдам, и уже на следующий год я поехал не в Ньюпорт, а в Кейп Код, где у моей сестры Шарлотты был загородный дом. Именно там я попал под влияние своего шурина, епископального священника. Несомненно, мое давнее отвращение к нравоучениям отца в сочетании с желанием бежать от жестокого мира, воплощавшегося для меня в поведении Джейсона, сделало меня созревшим для религиозного обращения, и когда мне исполнилось восемнадцать, я сказал матери, что хочу посвятить себя служению Богу.
«Это прекрасно, дорогой, – ответила мать, великолепно скрывая свой ужас, – но уж если вам суждено стать священником, я настаиваю на том, чтобы вы были хорошо образованным пастором. Я спрошу у дяди Люция, будет ли он настолько благороден, чтобы отправить вас в Англию, где вы могли бы получить оксфордский диплом». Она, разумеется, понимала, что, оказавшись в Оксфорде, я сразу же полюблю академическую жизнь, которой она всегда для меня желала.
Я приехал в Оксфорд со всем своим идеализмом и с нетронутой девственностью и за полгода безумно влюбился в Долли. Встретились мы случайно, в кондитерской, где она трогательно рыдала, потеряв кошелек со своей недельной зарплатой, и, поскольку я чувствовал себя юным рыцарем, я предложил ей носовой платок, которым она вытерла слезы, чашку чая для успокоения нервов и полкроны, чтобы ее приободрить. Единственным моим побуждением было желание выступить в роли доброго самаритянина, а вовсе не порочного соблазнителя, но когда стало ясно, что она вполне готова стать соблазненной, я понял, насколько я недооценивал свою чувствительность к хорошеньким девушкам. Мне было тогда девятнадцать лет.
Когда она сказала мне, что беременна, мне было двадцать, и мой романтический идеализм все еще был в полном расцвете, несмотря на отход от идеи безбрачия. Мне ни разу не пришло в голову отказаться от женитьбы на ней. Я знал, как мог знать только хорошо воспитанный викторианский юноша, что если поступить правильно, то в конце концов разрешатся все трудности, и, кроме того, я был сильно увлечен Долли и готов отдать все за любовь.
Люциус Клайд тут же прекратил выплату мне содержания и приказал вернуться домой. Мне не оставалось ничего другого, как возвратиться в Нью-Йорк. Моя мать скромно жила на небольшой доход от ценных бумаг, это было все, что осталось после уплаты отцовских долгов, а собственных денег у меня не было.
Когда я появился в Нью-Йорке с беременной женой, дядя пригласил меня – нет, не к себе домой, – в свой городской офис, и именно тогда я впервые переступил порог величественного здания в стиле Ренессанс на углу Уиллоу и Уолл.
Я увидел сияющие канделябры и высокие потолки, роскошную мебель из какого-то другого, экзотического мира и позабыл оксфордские корпуса и покой отгороженной от мира академической жизни. Я смотрел на большой зал банка «Хаус оф Клайд, Да Коста» и чувствовал себя обращенным в рабство. Я был Савлом на пути в Дамаск, или Де Квинси, впервые попавшим в притон курильщиков опиума. Каждый мускул был у меня напряжен, когда я с ощущением какого-то священнодействия вошел в личный кабинет Люция Клайда, так как впервые в своей жизни абсолютно не сомневался в том, чего хотел, а хотел я стать царем в этом дворце на углу Уиллоу и Уолл.
«Вы удивляете меня, молодой человек, – с усмешкой проговорил дядя. – Вы всегда поступаете так, словно банковское дело где-то внизу, под вашими ногами. Однако вы не такой глупец, каким был ваш отец, и, если вы готовы запачкать ваши патрицианские руки не слишком тяжелой работой, я беру на себя смелость сказать, что мы можем попытаться что-то из вас сделать. Я дам вам место, но при одном условии. Вы должны развестись с женой. Ваш брак – это катастрофа. Никто и никогда не достигал ни в каком заметном американском банке сколько-нибудь серьезного положения, женившись на горничной, и чем скорее вы от нее отделаетесь, тем будет лучше».
Перед быком помахали красной тряпкой, и бык тут же реагировал на это с предсказуемым безрассудством.
«Никто не может потребовать от меня развода с моей женой! – гордо возразил я. – Я скорее отдам весь мир, но не нарушу брачной клятвы!»
«Тогда добро пожаловать в нищету, и скатертью дорога! – воскликнул Люций Клайд и, вызвав помощника, презрительно распорядился: – Выбросьте отсюда этого мальчишку, понятно? Эти упрямые сосунки-паяцы всегда чертовски скучны». – «Я сюда еще вернусь! – выкрикнул я. – Вернусь и сяду в ваше кресло!» Я вылетел из кабинета, пробежал через весь зал, вырвался на улицу и... столкнулся с Джейсоном Да Костой.
В двадцать четыре года он уже стал младшим партнером моего дяди, и об его успехе говорили на Уолл-стрите. «О, чемпион ньюпортского теннисного корта!» – протяжно проговорил он. – Я думал, что вы шатаетесь по Европе, уткнув нос в учебник латинского языка... впрочем, нет, я совсем забыл! Вы же женились на горничной! Несколько опрометчиво, не так ли? Но я полагал, что при вашей, так сказать, наследственности вас было невозможно представить способным на отцовство. Могу ли я просить вас принять мои поздравления?»