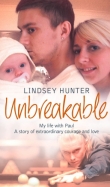Текст книги "Богатые - такие разные"
Автор книги: Сьюзан Ховач
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)
Но он цеплялся за свой пост и настаивал на своей невиновности. «Я никогда не уйду! – злобно заявил он на последнем совещании партнеров. – Ошибка – не преступление. Я никогда не видел этого отчета!»
В полном замешательстве все промолчали, возмущенные этой сценой, и мне не хотелось слишком переигрывать, но Джей выкрикнул, обращаясь ко мне: «Сколько вы заплатили О'Рейли за ложь?» – и разразился такой шумный скандал, что со стороны могло показаться, будто за великолепным фасадом дворца на углу Уиллоу и Уолл лилась кровь. Коллеги пытались нас остановить. Все одновременно кричали, но крики Джея перекрывали всех. Когда Чарли Блэр и Льюис Кэрсон оттаскивали Джея от меня, а меня втискивали обратно в кресло, он ревел: «Вы сукин сын! Проклятый псих!..»
Я понял, что он скажет, за секунду до того, как он произнес эти слова. Моей тайне суждено было открыться, глубоко унижавший меня недуг должен был стать достоянием публики, и скоро в Нью-Йорке не останется ни одного человека, который не знал бы, что я, Пол Корнелиус Ван Зэйл... «Эпилептик!» – орал Джейсон Да Коста.
Я онемел. Спасения не было. Я попытался пошевелиться, но был парализован. И едва дышал.
«Это чучело, этот псих, он болен. Он мстит мне, так как считает, что я убил его дочь. Ему больше не придется расхаживать по улицам... его место в психиатрической больнице, вместе с другими сумасшедшими».
Он еще раз повторил это слово. Я почувствовал слабость и молился про себя, чтобы хоть кто-то его остановил, но все молчали, а когда я нашел в себе силы оглядеться, я увидел лишь бледные лица своих партнеров, словно окаменевшие от неожиданности, и глаза, в которых отражалось фатальное отвращение.
«Заткните ваш грязный рот!» Нет, это был не мой голос. Это был Стивен Салливэн, самый верный из моих протеже, самый юный из всех моих друзей. Я все еще не обрел дара речи и сидел не шелохнувшись под тяжестью тупого груза стыда, но Стив набросился на Джея как боксер из своего угла ринга, и не только Чарли и Льюису, но и Клэю с Хэлом пришлось применить силу, чтобы оторвать его от Джейсона.
«Вон отсюда! – проревел Стив Джею. – Вы разорились, но будь я проклят, если вам удастся увлечь нас всех за собой!» – «Стив прав», – внезапно проговорил Чарли, а Льюис подхватил: «В интересах фирмы...»
Джей запротестовал, но его не стали слушать. В конце концов все встали на мою сторону. Думаю, это случилось потому, что я ничего не сказал. Они решили, что я вел себя как образцовый христианский джентльмен, подставляя врагу другую щеку, и ошибочно принимали мое молчание за блестящее проявление собственного достоинства.
В конце концов Чарли Блэр учтиво и с большим тактом сказал мне: «По-моему, никто из нас не знал, чтобы вы страдали эпилепсией, Пол, но вы можете быть уверены, что каждый из нас сохранит это в тайне. Вы давно чувствуете себя хорошо?» – «С четырнадцати лет». – «Значит, вы считаете, что вылечились?» – «Разумеется».
Я успел добраться до дома и запереться в библиотеке, прежде чем начался очередной припадок. Никто не видел. Никто не знал. Потом у меня болел левый бок и ныли плечевые мышцы, но я никому ничего не сказал, принял свое лекарство и заставил себя отправиться с Сильвией в оперу. Чувствовал я себя очень плохо, и мое состояние меня пугало, но я изо всех сил старался вести себя нормально, и Сильвия просто подумала, что я устал. Кажется, во время второго акта к нашей ложе на цыпочках подошел О'Рейли, сообщивший, что Джей пустил себе пулю в лоб.
Я никогда бы не подумал, чтобы он мог себя убить. Я предполагал, что он, униженный, отправится во Флориду, но вовсе не думал о таком кровавом конце в центре Манхэттена. Мне это было непонятно: ведь он поклялся, что никогда не уйдет.
Его самоубийство вызвало сенсацию в газетах, но скоро старо ясно – вместо того, чтобы раздуть скандал, это привело к тому, что о нем скоро забыли. Получилось так, как будто он в конце концов взял на себя всю ответственность за сделку с Сальседо, оградив таким образом нас от дальнейших обвинений. Мы поняли, что фирма будет жить: Все мои партнеры были за меня, так как знали, что от меня зависит их благополучие, и вне стен Уолл-стрита коллеги сомкнули свои ряды, защищаясь от мира, пока мы мучительно оправлялись от происшедшего. Я вспоминаю тайные рукопожатия, публичные выражения доверия, жесткие слова наедине и медовые улыбки в прессе, и в конце концов этот кошмар отступил. Я понял, что не только выиграл свою игру с Сальседо, но и достиг всего, о чем мечтал в те далекие дни, когда Люциус Клайд обрек меня на жалкое существование в Нижнем Ист-Сайде.
С тех пор прошло много времени. Теперь я был большим человеком на Уолл-стрит. Ездил на «роллс-ройсе» в свой дворец на углу улиц Уиллоу и Уолл, завтракал с Ламонтом Морганом, и сам Президент приглашал меня для консультаций в Белый Дом. Я имел большой особняк на Пятой авеню, коттедж в Бар Харборе, и именье в Палм-Бич. У меня была образцовая жена и лояльная бывшая любовница, мне были доступны все женщины, которые могли бы мне приглянуться. Я имел состояние, обаяние и широкую известность.
К марту я понял, что не мог больше выносить этого «своего» мира, но я знал – мне следовало быть осторожным с отходом от дел. Нельзя было допускать, чтобы люди это заподозрили. Нужно было придумать железный предлог для отъезда из Нью-Йорка, и пришлось найти его немедленно, до того, как болезнь полностью одолеет меня и вся Америка заговорит о моих припадках.
Тогда-то я и позвонил министру финансов, и мне была поручена престижная роль наблюдателя на Генуэзской конференции, но я обманулся в своих ожиданиях, подумав, что бегство в Европу автоматически означало отказ от золотой клетки, в которую я себя запер. И я взял ее с собой, с ее золотыми решетками, и со всем остальным, и оставался в этой тюрьме, пока Дайана не вывела меня на свободу.
Но теперь этой свободе наступал конец. Хэл Бичер был надзирателем, которого послали вернуть беглого преступника обратно в тюрьму.
– Ребята Джея жаждут вашей крови, Пол, – сказал Хэл, и, услышав эти слова, я понял, что не смогу закрыть глаза на положение на Уиллоу-стрит. Если бы я так поступил, это означало бы, что все мои былые страдания пропали даром. Это означало бы, что я продал свою дочь и убил ее мужа, ничего при этом не получив, кроме разорения и бесчестья.
Я должен был ехать. Ворота тюрьмы широко распахнулись передо мной, но я вошел в них сам, и сам выбросил ключ от них.
Я посмотрел на Хэла, на О'Рейли и внезапно увидел себя таким, каким должен был видеть меня мир в последние месяцы – человеком среднего возраста, до безумия потерявшим голову от девушки, годившейся ему в дочери, игнорирующим свои деловые обязанности, чтобы болтаться по каким-то сельским канавам на дешевой парусной лодке. Неудивительно, что Стюарт и Грэг Да Коста подумали, что я стал хлипким и уязвимым. Решимость моя укрепилась, воля напряглась, и все мои инстинкты, направленные на выживание, были приведены в боевую готовность.
– Немедленно едем в Нью-Йорк, – коротко бросил я О'Рейли и, перед тем как выйти из комнаты, с удовлетворением отметил, как у него отвисла челюсть.
В холле надо мной поплыл вверх опиравшийся на балки потолок. Мне пришлось остановиться. В доме стояла тишина, и наконец, не в силах вынести груз этого молчания, я взлетел по лестнице в ее комнату.
Она неподвижно сидела на краю кровати, и, взглянув на ее плечи, ссутулившиеся, словно в ожидании нападения, я подумал о том, что подсознательно понимал уже давно, – я принял ошибочное решение, оставшись у Дайаны. Если бы я уехал в конце июля, расставание было бы болезненным, но переносимым. Я вернулся бы в Нью-Йорк, нанял бы для нее менеджера и устроил бы все так, чтобы ей пришлось вплотную заняться своим бизнесом. Теперь же у нее ничего не было, и было трудно вообразить ее управляющейся с делами до рождения ребенка. Как я мог считать, что чувства выгорят сами собой, и я спокойно уеду? Наша связь не только не затухала, а разгоралась все сильнее, наши чувства превратились в устойчивую потребность, а боль разлуки несомненно должна была стать для нас адом. Мне было жалко себя, еще большую жалость я чувствовал к ней, и все это время проклинал себя за неправильное поведение с Дайаной Слейд с самого – такого радостного и необыкновенного – начала до вязкого, мрачного, удручающе обычного конца.
– Итак, вы уезжаете, не правда ли...
– Да, я должен уехать. Простите меня.
– Полно, вы же всегда говорили, что вам когда-то придется уехать. И как скоро это случится?
– Я уезжаю прямо сейчас, Дайана. Как только Доусон упакует мои вещи.
– О!..
Я сел рядом с ней. Мы оба молчали. После долгой паузы она заплакала.
Я принялся ее целовать. И неожиданно услышал собственный голос:
– Поедемте со мной в Америку.
– О, да! – отозвалась она, не подумав, и сразу же, испуганно: – О, нет... – Она окинула взглядом стены комнаты, и я как наяву увидел ее укрывшейся в этой надежной колыбели, какой был для нее Мэллингхэм. – Мне хотелось бы, – сбивчиво заговорила она, – но я не могу... не теперь... Не представляю, как я выдержала бы одиночество в каком-то чужом городе. Здесь я, по крайней мере, дома... здесь друзья... миссис Окс...
– Я понимаю!
– Но я могу приехать позднее! – порывисто проговорила она, – когда не буду беременна, ну да, конечно же! Смогу приехать в Америку с ребенком, чтобы повидаться с вами.
Я очень крепко прижал ее к своей груди, так, чтобы она не могла видеть моего лица, какие бы чувства оно ни отражало.
– Пол...
– Да?
– Если бы я приехала в Америку... когда приехала бы... я не могла бы делить вас с вашей женой. Это было бы против всех моих принципов. Но ведь это, наверное, пустяки, не так ли? Я имею в виду, что брак-то ваш по расчету... и если она только почетный секретарь и домоправительница... – Дайана умолкла.
– Уж и не знаю, – сказал я в смятении, почти не понимая, что говорю. – Сейчас вовсе не время обсуждать подробности моей супружеской жизни, – заметил я и снова стал целовать Дайану.
Когда в дверь постучал О'Рейли, вид у меня был совершенно непотребным. Я был полураздет, обессилен, эмоционально уничтожен и вряд ли смог бы пройти три ярда, не говоря уже о трех тысячах миль.
– Уходите! – крикнул я О'Рейли, совсем как маленький ребенок.
Он ушел, но я знал, что там, по другую сторону Атлантики, отделаться от братьев Да Коста будет гораздо труднее. Я потянулся за одеждой.
– Нам надо поговорить о практических вещах, – лениво проговорил я, взявшись за рубашку и не слишком отдавая себе отчет в смысле сказанного. – Когда будете писать мне на Уиллоу-стрит, пишите на конверте мои инициалы, и никаких слов вроде «лично и конфиденциально». Тогда письмо наверняка дойдет до меня. И не беспокойтесь о деньгах – я дам необходимые распоряжения Хэлу. А теперь по поводу Мэллингхэма...
Она резким движением села в постели и разразилась слезами.
– Не пытайтесь отдать его мне из чувства вины или жалости, Пол, – решительно прервала меня Дайана. – Иначе я буду чувствовать себя оплаченной любовницей. Вопрос о выкупе у вас Мэллингхэма будет для меня стимулом, побуждающим к действию. А сейчас избавьте меня от разговоров об этом.
– Прекрасно, но не потащу же я с собой в Америку всю эту кипу документов – от одного свидетельства о праве на недвижимость пароход пойдет ко дну. Я возьму с собой только бумагу о передаче прав, а все остальное можете сунуть себе под подушку. Вы действительно уверены в том, что не хотите передачи права собственности вам? Пройдет еще какое-то время, прежде чем у вас появятся деньги, и во всяком случае я сомневаюсь в том, что вы сможете работать до рождения ребенка.
– Да? Вы полагаете, что я буду целыми днями валяться в шезлонге! В самом деле, Пол, это звучит так по-викториански!
Не находя сил, чтобы продолжать одеваться, я отбросил одежду и бессильно опустился на кровать.
– О, Пол, не уезжайте... прошу вас... останьтесь здесь... не уезжайте никуда... – Вся ее твердость изменила ей, и лицо Дайаны снова залили слезы.
– О, Боже! – проговорил я. – Боже мой! Черт побери! – взорвался я, что было на меня совершенно не похоже, так как я всегда считал совершенно непозволительной даже самую невинную ругань в присутствии женщины.
– О, как я могла... прошу вас, пожалуйста, простите меня! – разрыдалась Дайана, принимая мою вспышку за раздражение. – Я была так полна решимости быть мужественной, веселой и не сентиментальной...
– Правда? Как досадно! Не думаю, чтобы я смог бы это вынести, – откровенно сказал я Дайане, и словно каким-то чудом наше отчаяние улетучилось, и мы одновременно рассмеялись.
Когда я покончил с одеванием, она проговорила, с сухими глазами, но довольно бессвязно:
– Что я могу сказать? Должно же быть что-то такое... что-то должно быть... не знаю, как сказать – что-то глубоко задевающее – не нахожу слов...
– Может быть «Ave atqvue vale»?[12]
Она пожала плечами:
– Стало быть, конец!
– Для Катулла, но не для нас! – Я склонился над кроватью для последнего поцелуя. – Берегите себя. Простите меня. Мы еще встретимся.
Последнее, что я помню: я, спотыкаясь, шел по коридору. На верхней площадке лестницы задержался и прислушался. Она не плакала, в воздухе висела отчаянная тишина, и я, нащупывая ногами ступеньки, спустился в холл.
Там меня давно ждали.
– Ну, поехали! – выдавил я с перехваченным дыханием, настолько несчастный, что едва мог говорить. – Какого дьявола мы медлим?
И предоставив всем с разинутыми ртами смотреть на развалины моей воспитанности, проследовал мимо них на улицу, к автомобилю.
Пароход отплыл из Саутгемптона на следующий день.
Заказав себе какие-то совершенно несъедобные закуски, я принялся пить шотландское виски. Я с отвращением прибегал к этому, но эффект от крепкого напитка казался мне более приемлемым, чем туман в голове от моего лекарства. Разумеется, мне непереносимо не хватало Дайаны, но ощущения мои были более сложными, нежели простое чувство утраты. Я был сбит с толку, словно погружен в вакуум, мое смятение все нарастало по мере удаления от английского берега, и я все больше убеждался, что допустил серьезнейшую ошибку за всю свою жизнь. Мне следовало остаться в Мэллингхэме. Я был счастлив, физически чувствовал себя прекрасно, и в голове у меня царил покой. Я принадлежал Европе, но зачем же тогда уезжать? Я чувствовал себя безнадежно отвыкшим от Америки, как если бы ее культура была недоступна моему пониманию, и, сравнивая Европу, с ее красотами, историей и с ее вечным очарованием, с дешевой роскошью и агрессивной энергичностью своей родной страны, я переставал понимать, почему плыл теперь на запад.
Пароход прибывал во второй половине дня десятого ноября, и я с каким-то фатальным, почти болезненным любопытством вышел на палубу, чтобы увидеть столкновение двух своих миров.
Когда я оказался наверху и стоял, вцепившись руками в перила, мы шли через узкие проливы. Был прекрасный, бодривший свежестью вечер, и вода во Внутренней бухте была цвета светло-голубого льда. Стоял штиль, и взору постепенно открывались все знаменитые здания – Уайтхолл, громада «Эдемс экспресс компани», двустворчатая масса «Эквитэбл Лайф», «Зингер-билдинг», как маяк, увенчанный куполом, и самое величественное из всех «Вулворт-билдинг», сиявший белизной и тонко одухотворенный своим сходством с современным собором. Я на секунду закрыл глаза, как будто не мог поверить, что ничего не изменилось, а когда открыл их снова, только тогда осознал всю необычную оригинальность представшего передо мной зрелища. Я увидел сотни лодок и тысячи шпилей, сиявшие башни моего города, злобно мерцавшие в свете солнца как зубы хищника. Я смотрел в пасть Нью-Йорка.
И именно тогда произошло чудо. Впрочем, возможно, я знал, что оно произойдет. Двигаясь по окольной дороге времени, я бессильно соскальзывал в борозду, которой принадлежал. Когда я вновь взглянул на этот город, он показался мне прекрасным со своими взлетавшими вверх башнями, в которых зашифрован мир, где нет ничего недоступного человеку, с его позолоченными шпилями, символизирующими все, чего смог достигнуть человек. Пульс мой участился, теперь это был пульс Нью-Йорка, быстрый, строгий и полный жизненной энергии. Два мои мира столкнулись, на моих глазах снова разошлись, и теперь уродливой показалась мне уже Европа, развращенная, перезревшая до гнили, связанная с воспоминаниями о том, что никогда не вернется, обращенная внутрь самой себя, погрузившаяся в свое истерзанное войной декадентское прошлое. С моих глаз словно спала пелена романтической иллюзии, ко мне снова вернулась способность осознавать действительность, и я понял, что перестал быть беглецом в культуру, которой всегда буду чужд, иммигрантом, пораженным раздвоением чувств, разрывающимся между двумя мирами, путником, соблазненным мечтой, грозившей лишить его всякого честолюбия.
Я был ньюйоркцем, вернувшимся в Нью-Йорк.
Меня оглушил рев гудка, и, пока я смотрел на пыхтевшие под носом корабля буксирные пароходики, все мое смятение испарилось, и в сознании воцарилась полная ясность. В голове у меня проносились одно за другим надолго отложенные решения. Уладить дело с братьями Да Коста. Встряхнуть от спячки своих партнеров. Привести в порядок офис. Разочаровать всех, считавших меня постаревшим, или даже умершим, задав грандиозный бал. Сделать что-нибудь для мальчика Милдред. Поговорить с Элизабет о большевистских склонностях Брюса. Купить у Тифэйни подарок Сильвии по случаю прошедшей годовщины свадьбы. Нанять человека, который наладит бизнес Дайаны...
Я снова вздохнул, подумав о Дайане. Разумеется, в один прекрасный день я увижу ее снова. А Мэллингхэм... Для меня немыслимо было подумать, что я могу никогда больше не увидеть Мэллингхэма.
Буксиры подталкивали нас к пирсу, и я перегнулся через перила, чтобы посмотреть, с каким напряжением они пыхтели. Надо мной высился Нью-Йорк, и я уже снова был в его могучей тени.
Истина состояла в том, что Европа была для меня неприятной, и было ужасно, если бы я снова увидел Мэллингхэм. Жестокой истиной было и то, что продолжать связь с Дайаной было бы не только глупо, но и эгоистично. Я не видел ничего, что могла бы дать эта связь в будущем. Какое у меня было право держать ее в подвешенном состоянии, поддерживаемом ее верностью мне, пока я не решу возобновить наши отношения в Нью-Йорке? Эти отношения не могли длиться годами, и проиграл бы не я, а она. Другое дело, если бы Дайана была постарше и достаточно опытна, чтобы смотреть на это просто как на преходящую радость, но она была слишком молода, уверена в том, что влюблена в меня, а я не мог предложить ей ничего, кроме продолжительной мучительной диеты, боли и унижения. Если я действительно думал о благе Дайаны – а я его очень желал, – разве не милосерднее было бы отрезать ее от себя, как можно скорее сказав ей, что возобновление наших отношений невозможно? Она бы, конечно, страдала, но со временем ее боль притупилась бы. Разумеется, было бы очень приятно иметь в своем распоряжении Дайану, когда бы я ее ни пожелал в будущем, но после шести месяцев бесперспективных отношений я решил, что мне пора подумать не только о себе.
Пароход причалил. Матросы деловито закрепляли канаты. Услышав гул города, я почувствовал, что вернулся домой.
Я подумал о ребенке. «Он, вероятно, умрет, но если выживет... Вряд ли, – думал я, крепко вцепившись в поручни. Может быть, Дайана выйдет замуж, когда убедится в том, как трудно быть матерью-одиночкой, и возможно также, если этому ребенку сильно повезет, его отцом станет тот славный парень, Джеффри Херст. Это, кажется, лучшее, на что можно надеяться».
Как знать, когда-нибудь я бы... Я пытался отбросить эту мысль, что было нелегко. Я вспомнил, как выглядела Викки в четыре года, когда мы вновь соединились, и поручни пароходной палубы расплылись перед моими глазами.
– Капитан говорит, что мы можем сойти с судна первыми, сэр, – прозвучал за моей спиной голос О'Рейли.
Я сошел по трапу и шагнул в хаос таможенного зала, но ждать очереди мне, естественно, не пришлось. О багаже должен был позаботиться Доусон.
Я глубоко вздохнул. Решения были приняты. Теперь остается только их осуществить. Расправив плечи, я стряхнул пыль с манжет, поправил галстук, надел на лицо самую очаровательную из своих улыбок, чтобы скрыть чувство огромной вины, и пошел через таможенный зал навстречу жене.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
РОМАНТИК СИЛЬВИЯ
1922—1925
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Океанский лайнер «Аквитания» компании «Кьюнар» прибыл в Нью-Йорк в пятницу, во второй половине дня, и я была на пятьдесят четвертом пирсе Норс Ривер, когда Пол вышел из таможенного зала, улыбаясь и смотря мне прямо в глаза, как всегда, когда у него было что скрывать. Подтянутый и загорелый, он выглядел превосходно, и, когда снял шляпу, чтобы помахать ею мне, я увидела, что его жидкие каштановые волосы стали намного светлее, как у человека, который провел долгие летние дни под палящим солнцем. Одет он был безупречно, и я не сомневалась – каждый стежок его одежды сделан руками английского портного. При этом я подумала: стараясь одеваться так, чтобы его невозможно было отличить от англичанина, Пол кажется немного смешным. Англичанам привычка быть безукоризненно одетыми была свойственна органически и не требовала усилий. Пол выглядел слишком уж изящным, как-то подчеркнуто выхоленным.
Я видела, как все головы повернулись к Полу, когда он шел мне навстречу, и уже на расстоянии пяти десятков футов я ощутила его знакомое притяжение. Походка его создавала впечатление, что он шагал по мраморному полу в подбитых гвоздями башмаках, но без единого звука, и его изящество атлета создавало иллюзию не меньше шести футов роста, что он всегда и утверждал. К недостававшему дюйму с половиной он относился так же болезненно, как и к своим редевшим волосам, и хотя кое-кто считал эти его огорчения не заслуживающими внимания, я-то знала, что это идет у него от отвращения к несовершенству.
У него был высокий лоб, глубокие насмешливые складки около рта и темные блестящие глаза.
«Сильвия! Вы прекрасно выглядите!» – я ожидала его обычного восклицания с английским акцентом, который он порой любил подчеркнуть, но этого не последовало. Голос его легко обволакивал самые обычные слова, наполняя их теплом и искренностью.
– Как вы поживаете?
У меня было подготовлено несколько ненавязчиво откровенных ответов, но я словно потеряла дар речи. Так мне было стыдно. Когда он обеими руками взял мою, лицо мое автоматически поднялось и он порывисто поцеловал меня в губы. В этот же момент налетели восторженные репортеры, и я кое-как выдавила улыбку в камеры, и, хотя я оперлась на руку Пола в поисках поддержки, он уже смотрел в сторону, заметив своего любимого партнера.
– Стив!
– С возвращением, Пол!
Они обменялись рукопожатием. Я стояла одна, надеясь на то, что он не задержится с репортерами, но когда они засыпали его вопросами, ему, естественно, пришлось остановиться и ответить им. Пол был большим мастером в создании собственного обаятельного имиджа для газет.
– Господин Ван Зэйл, верно ли, что вы намерены навсегда уехать в Европу?
– В моем-то возрасте? Ведь я едва начал свою карьеру!
– Что вы можете сказать нам о перспективах рынка?
– Он будет колебаться.
Все рассмеялись. Десяток подобострастных лиц пялились на него с нескрываемым восхищением, завороженные его аристократическим изяществом.
– Господин Ван Зэйл, как вы чувствуете себя снова...
– ...На родине? Джентльмены, вы же знаете, я коренной житель Нью-Йорка! Может ли быть что-нибудь лучше возвращения в громаднейший город в мире... – рука Пола снова плавно обвила мою талию – к прекраснейшей в мире женщине? А теперь извините меня, я много месяцев не виделся с женой и, естественно, хочу наверстать упущенное...
Репортеры угодливо рассмеялись, восхищенно поглядывая на меня, а фотографы наперебой защелкали затворами своих камер.
– Сюда, дорогая, – проговорил Пол.
Едва мы дошли до автомобиля, как Пол сказал Стиву Салливэну:
– Поезжайте в офис, иначе вы рискуете быть третьим лишним при моей встрече с женой.
– Разумеется... – И Стив исчез, как раз в тот момент, когда к нам шагнул с широкой улыбкой наш старший шофер Уилсон.
– Добрый день, сэр, добро пожаловать в Нью-Йорк!
– Спасибо, Уилсон! Как прекрасно вернуться домой! – Голос его звучал так, словно он и впрямь был рад этому.
Я чувствовала себя смущенной, не зная что и подумать. Не произнеся пока ни одного слова, я понимала, что должна что-то сказать, когда мы остались одни в задней части машины, после того, как телохранитель Пола, Питерсон, поднял стеклянную перегородку.
– Вы выглядите потрясающе прекрасно, Пол.
– Я чувствую себя великолепно!
Я не могла взглянуть прямо ему в лицо, понимая, что и он смотрел в окно, так как ему было трудно смотреть на меня. На какой-то момент меня вдруг охватило полное отчаяние. Последние месяцы я проводила долгие часы, пытаясь решить, как мне быть с этим возрождением его старой любви к Европе, но теперь я стояла лицом к лицу с проблемой все той же своей беспомощности, что и в 1917 году, когда началось наше двухлетнее пребывание в Лондоне. Эта девушка, Дайана Слейд, меня не занимала: ему не будет стоить никакого труда отделаться от нее, как он отделывался от других привлекавших его внимание женщин, но Европа... Можно завоевать еще одну женщину, но как завоевать целую цивилизацию? Теоретически я восхищалась Европой, но жить там было для меня невыносимо. Я содрогалась при воспоминании об этом угнетающем величии, об этом давящем ощущении далеких времен, о странном чувстве оторванности от всех привычных обычаев, стандартов и мыслей. Мне было ненавистно ощущение иностранки и страстно хотелось домой. Пол же, наделенный удивительным даром растворяться в другом народе, чувствовал себя в Европе так же легко, как и в Нью-Йорке. Все дело было, как я с болью убедилась, находясь вместе с ним в Англии, в двойственности его личности. Американский Пол, снова всплывший на поверхность, когда мы в 1919 году вернулись в Нью-Йорк, был тем Полом, за которого я вышла замуж, тогда как английский Пол был иностранцем, всегда остававшимся мне чуждым.
Я спрашивала себя, думал ли он обо мне не только мимоходом в последние месяцы того лета на Норфолкском побережье, но сильно в этом сомневалась. Под влиянием очарования Европы все воспоминания об американской жизни оттеснялись у него на задний план, и он просыпался с мыслями о средневековом искусстве и архитектуре, о древних руинах и музеях, об исторических библиотеках и памятниках. Ни одна любовница не могла бы быть более требовательной, чем эта полностью окутывающая его шелковая сеть бесконечного прошлого Европы.
Он решал, что сказать, как нарушить молчание. Наконец я почувствовала – его рука властно скользнула в мою.
– Ну, вот, – проговорил он бодрым голосом, – я потерял голову и сердце, но слава Богу не инстинкт возвращения домой! Не могу передать вам, как хорошо чувствовать себя дома... Ах, я вижу, движение на Пятой авеню все такое же сумасшедшее, как и всегда! Это верно, что к Рождеству собираются установить светофоры? Это могло бы многое изменить, если бы хоть кто-нибудь имел о них хоть малейшее понятие... Много ли магазинов пооткрывалось за время моего отсутствия? Какие рестораны исчезли? «Тиффэйни» по-прежнему на месте... а вот и «Лорд энд Тэйлор...» – мы двигались от центра через Тридцатые к Сороковым улицам. – А вот Дельмонико на своих задних лапах! И «Шерри»... «Де Пинна»... «Сент Пэтрик»... и, как всегда, «Гоутик!»... «Плаза»... «Парк»...
Он смотрел на все это как на друзей, с которыми был в долгой разлуке; призвав всю свою храбрость, я взглянула Полу прямо в лицо и увидела, как искрились его глаза и какой лучистой была его улыбка.
– Я люблю все это! – со смехом воскликнул он, поворачиваясь ко мне, и я подумала: «Да, вы любите места, культуры, цивилизации, но не людей». Я никогда, ни разу не слышала от него слов «я люблю вас», обращенных ко мне или к кому-то другому.
Наши взгляды наконец встретились, и внезапно я увидела за избытком его впечатлений и чувств озабоченность и тревогу. Английского Пола с его давящим безразличием больше не было, и передо мной снова был американский Пол, так гордившийся своим браком, и так горячо желавший, чтобы между нами все было хорошо.
– Пол... – на глазах у меня выступили слезы.
– Ах, Сильвия, не грустите! – порывисто воскликнул он, и, когда он привлек мое лицо к своему, я снова была рабыней его переменчивых, как ртуть, настроений, покоренная его жизнелюбием и очарованием. – Если бы вы знали, как я рад своему решению возвратиться домой...
Он не закончил фразу, а я не дала ему это сделать. Он привлек меня к себе, я обвила его шею руками, и, когда он стал покрывать меня поцелуями, по моему лицу заструились слезы, смывавшие последние следы моей гордости.
Мы жили в пятидесятикомнатном доме, выходившем окнами в парк на Пятой авеню. Дом был построен в классическом стиле, с колоннами, портиками, с длинными симметричными окнами, он выглядел, разумеется, весьма элегантным, однако экономка не раз говорила мне о том, как трудно вести такой дом. Пол построил его сразу после нашей свадьбы, и, когда я между делом как-то пожалела о том, что сады при этих домах в лучших кварталах города всегда очень маленькие, он купил соседний дом, разрушил его и разбил там для меня сад. Он приказал устроить даже теннисный корт и бассейн. Я очень обрадовалась саду, но когда мы в первый раз вошли в дом, я была больше поглощена заботой о том, какие комнаты зарезервировать для детских.
Но те дни давно прошли.
В мои обязанности, как жены Пола, входил присмотр за всеми домашними делами, организация его приемов, представление его в различных благотворительных комитетах и ограждение его от всего того, что могло бы без необходимости отнимать у него время. Это ко многому обязывало, но я радовалась этому, и если бы была просто служащей Пола, то могла бы исполнять свои обязанности спокойно. Все дело было в том, что быть женой Пола была куда труднее, чем его служащей.
Блистательным достоинством Пола была его честность. Он жил не так, как другие, и его правила были мало похожи на общепринятые, но у него был собственный кодекс чести, которого он строжайшим образом придерживался. Прежде чем вступить либо в брак, либо просто в связь с женщиной, он точно объяснял, чего от нее ожидал и чего она могла ожидать от него, и если он когда-нибудь что-то ей обещал, то держал свое обещание. Он никогда никому не обещал верности, спокойной жизни или душевного покоя, и все же по-своему мог быть как верным, так и достойным доверия. Я знала, что, пока исполняю свои обязанности хорошо, он никогда не поменяет меня на какую-то другую. Я знала, что он искренне гордился мной и всегда хвалил меня своим друзьям. И знала также, что занимала особое место в его жизни. Однако знание это не устраняло моих трудностей, но облегчало их преодоление. Я признавала первенство его работы перед всем остальным и неизбежность того, что банк отнимал громадную часть его времени. Принимала и тот факт, что у человека, редко пьющего и мало курящего, неизбежным пороком является склонность к женщинам, и понимала при этом, что для Пола любая случайная связь имела не большее значение, чем трудная партия в теннис или скоростной заплыв в бассейне. Он жил под громадным давлением, и было жизненно важно, чтобы у него была возможность расслабляться любым угодным ему путем и когда бы то ни было. Но это приятие было нелегким, у меня было так много одиноких вечеров, но я любила Пола и понимала, что бесполезно пытаться его изменить. Мне приходилось принимать его таким, каким он был.