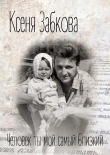Текст книги "Отрочество"
Автор книги: Сусанна Георгиевская
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц)
Часть вторая
Глава I

Они вошли в музей – впереди Даня, сзади Саша. Вошли и остановились у порога, сейчас же сняв шапки, как требует Александр Львович.
В музее бывало много ребят. Одни приходили сюда, чтобы побродить по залам (индивидуальные экскурсии), другие для того, чтобы условиться, когда можно будет прийти всем классом (так называемые заявки на экскурсии массовые).
Но эти мальчики пришли для чего-то другого. Они топтались у входа, не раздеваясь, и растерянно посматривали куда-то вверх.
Женщина, сидевшая у столика, седая, старая и опытная, уже не раз видела и таких посетителей. Она повернула к ним голову и спросила спокойно и приветливо:
– Вам кого, ребята?
Этот простой вопрос поставил их в тупик. Мальчики молча переглянулись. Саша вообще не знал, к кому, собственно, они пришли, а Даня знал, что разыскивает ту ученую, которая живет недалеко от них, во дворе большого дома, в низеньком флигельке с садиком, но как ее вызвать? Сказать: «Нам надо профессоршу»? А как ее фамилия? Он помнил только имя: Елена Серафимовна. Но можно ли назвать ее этак – попросту, по имени-отчеству, так же, как называют в школе учительниц?.. Даня первый раз в жизни собирался вступить в деловые отношения с ученым миром и еще не знал, как полагается вести себя в таких случаях.
И вдруг, неожиданно в его памяти всплыла фамилия: Озеровский.
– Попросите, пожалуйста, товарища Озеровского! – сказал он просияв.
– Озеровского?.. Сейчас, – ответила женщина у столика и покорно отправилась за Озеровским.
Даня с торжеством поглядел на Сашу. Саша почтительно молчал.
Им не пришлось долго ждать. Озеровский скоро показался на третьем этаже белой лестницы, устланной красными дорожками.
На площадках, мимо которых он проходил, были широко распахнуты двери. За каждой дверью угадывалась ширь полупустых комнат, маячили застекленные шкафы. В окошко – нет, в большущее окно второго этажа заглядывала Нева и кусок неба. Даль казалась огромной.
Озеровский переступил последнюю ступеньку удивительной лестницы, прошел мимо двух чудовищ с львиными мордами и бивнями слонов, и вестибюль переполнился звуками его сочного, раскатистого голоса:
– Ага, кладоискатель! Какими судьбами?.. Что новенького? Опять какой-нибудь экспонат? Вьюшки?.. Нет? Сегодня без всяких вьюшек? Ну что ж, прелестно!
«Узнал!»
Даня опять искоса взглянул на Сашу. Тот стоял притихший и смотрел на Озеровского снизу вверх.
– Товарищ Озеровский, – весело, свободно и счастливо сказал Даня, – я к вам привел своего товарища, Сашу Петровского. Он уже много лет подряд интересуется наукой. Он хочет быть ученым. Он уже твердо решил. Запишите его, убедительно вас прошу, в какой-нибудь кружок.
* * *
Залы музея пахли особенно – старыми тканями, воском натертого до блеска паркета, лаком, спиртом, нафталином. Поражала их торжественная тишина. Звук шагов, подхваченный эхом, летел далеко вперед, ударялся в стены, множился и угасал, пролетев через нескончаемую цепь комнат, соединенных друг с дружкой распахнутыми дверями.
Проходя мимо какого-то странного музыкального инструмента – под ним было написано: «Тамеланг. Индонезия», – Озеровский, шагавший впереди, нечаянно задел его плечом. Полые бамбуковые тросточки, свободно подвешенные к железной штанге, осторожно задвигались и, ударившись одна о другую, тихонько запели: «трум-тарара».
Раскрывши рот, Даня и Саша переглянулись. Они уже были у дверей, а бамбук все еще продолжал петь. Звук был стеклянный. Он так печально отдавался в полутьме зала, как будто хотел рассказать Саше и Дане о судьбе какого-нибудь индонезийского мальчика – такой же, как судьба Саиджи из книги Мультатули.
Звук несся к самому потолку и растворялся подобно дыму, но его догонял другой звук, нежный и тоненький. Тросточки пели все тише. Они пели прекрасно, и вдруг пение как будто оборвалось и замолкло насовсем.
Мимо них прошли ребята-экскурсанты. «Гляди, гляди», – говорили школьники, показывая, из вежливости к экскурсоводу, не пальцами, а подбородками на витрины, макеты и манекены, обернутые пестрыми тканями.
Больше всего им, видно, понравился яванский кузнец. Да и было чему понравиться. Кузнец сидел, поджавши ноги, и выковывал что-то на своей крошечной наковальне.
Слева женщина с Борнео кропотливо накладывала на длинную ткань все один и тот же бесконечный узор.
– Не отставайте, не отставайте! – торопила ребят девушка-экскурсовод с длинной указкой в руках. – Всем видно?
А Озеровский уже прошел зал Индии и Индонезии. Теперь он вел мальчиков через залы второго этажа.
– Простите, пожалуйста, – вдруг сказал Саша. – Это… это, кажется, таблички с острова Пасхи, которые привез Маклай? Таблички с неразгаданной клинописью?
– Откуда ты знаешь? – быстро спросил Озеровский и остановился.
– Я читал. В «Этнографическом вестнике».
– Ага… Прелестно… Ты что ж, стало быть, читаешь специальные книги?
– Да, когда удается достать.
– А что ты еще прочел?
Саша густо порозовел, сказал «сейчас», вынул из бокового кармана курточки записную книжку и подал ее Озеровскому.
«Литература, искусство, наука, техника» – стояло на первом листке книжки. Дальше на многих страницах шли длинные столбики названий. Против каждой прочитанной книги виднелся значок, сделанный цветным карандашом.
Озеровский с любопытством и даже некоторым удивлением перевел глаза с книжки на розовое лицо Саши.
– Так, так…
Даня почел это «так, так» за восхищение исключительной ученостью своего друга.
– Он, он… – сказал Даня, – он у нас читает больше всех ребят вместе взятых. Он так работает над собой… Он даже записался в институтскую библиотеку. Честное слово! По блату. Тогда, во время сбора лома – помните? – он познакомился со студентами. Они его записали в свою библиотеку.
– По блату?
И Озеровский засмеялся так искренне, что Даня не выдержал. Оборвав свою речь, он тоже засмеялся весело и заливисто.
Озеровский передал Саше записную книжечку, и Саша деловито спрятал ее обратно в карман.
– Ну что ж, – сказал Озеровский, – очень хорошо. Так куда же теперь тебя записать по блату? Может быть, займешься Индонезией? Интересуешься?
– Очень! – чуть слышно сказал Саша.
– Ладно. Приходи послезавтра. Запомнишь? Ровно в пять. Попрошу не опаздывать.
– Я не опоздаю, – серьезно сказал Саша.
– Ну, а тебе куда бы хотелось, кладоискатель?
– Мы вместе! – быстро сказал Даня.
– Вместе так вместе. Значит, в среду, в пять.
– Угу! – ответил Даня и благодарно посмотрел на Озеровского.
* * *
В пионерской комнате отодвинуты к самой стенке оба стола – маленький столик Зои Николаевны и большой, покрытый красным сукном. По полу разостланы листы ватмана. Тут же лежат на животе Мика Калитин, Лека Калитин, Кузнецов, Денисов, Левченков, Петровский, Яковлев, Кардашев и Джигучев.
Между листами ватмана разбросаны карандаши и линейки. Против каждого листа стоят бутылки с тушью. Мальчики работают: они делают подписи под фото для школьной выставки, посвященной Индонезии.
Работать за столом много удобней. Но разместиться там такое количество народу не может, поэтому пишут, лежа на животе, на полу.
– Ну как? – спрашивает Лека Калитин.
– Заедает, – отвечает, вздыхая, Калитин Мика.
– Я залез за кромку, потому что ты меня все время толкаешь под правый бок, – говорит Кузнецову Боря Левченков, хотя его никто не толкал.
– Ну давай я тебя для равновесия толкну под левый, – спокойно предлагает Кузнецов.
Сема Денисов трудится молча, сосредоточенно глядя на лист ватмана поверх очков. Поздний вечер – и в раскрытую дверь то и дело заглядывает мать Семы, Агриппина Петровна Денисова:
– Семен, ты скоро?
– Мама, не ждите, пожалуйста! Я занят. Идите домой и ложитесь. Я никого не разбужу, я не зажгу свет. Вот увидите.
Она уходит.
– Давайте что-нибудь споем, ребята! – предлагает Саша Петровский.
– Да, тебе, может быть, легко, – отвечает Лека Калитин, – а я не могу все вместе – писать и петь. Я не Наполеон.
– Наполеон не пел, – авторитетно говорит Даня.
– Откуда ты знаешь?
– И, во-первых, не Наполеон, а Юлий Цезарь, – отвечает Саша.
– Юлий Цезарь тоже не пел, – говорит Левченков.
– Положим! – веско отвечает Мика Калитин.
Но спор не разгорается – все заняты. Тишина.
Мика Калитин пишет:
«Из вложенного в Индонезию капитала 40 процентов принадлежит американцам».
Печатные буквы уже вычерчены карандашом. Мика их заливает тушью. Он добрался до «капитала», сейчас дойдет до слова «принадлежит».
Ему кажется, что дело у него движется медленно. У Леки – быстрее. Ничего не поделаешь, у Леки – опыт: он два года работал художником в стенгазете. Тишина. Слышен только скрип рейсфедеров. Лека пишет:
«Примитивные хижины местного населения с сентября по март затопляются водой».
Это его третья подпись. Две уже сушатся на столике Зои Николаевны.
У Леки – опыт. Бесспорно. Но опыт работы в стенгазете, а не работы на полу.
– Заедает! – жалуется Лека.
– Собралась компания нытиков, – говорит Кардашев. – Почему это у меня не заедает? – и тут же ставит большую кляксу.
– Ага! – торжествуют братья Калитины.
Но Кардашев не из племени нытиков. Он преспокойно соскабливает кляксу безопасной бритвой и продолжает писать:
«Американские капиталисты постепенно вытесняют голландцев. В связи с гонкой вооружения их фирмы проявляют большой интерес к добыче каучука и олова».
– Несправедливо распределили! – жалуется Боря Левченков. – У некоторых – короткие.
– А тебя вообще никто не заставлял, – отвечает Кузнецов, – можешь не делать ни длинные, ни короткие.
Кузнецов – лучший чертежник в классе. Он заканчивает четвертую подпись:
«Напав на республику, голландские войска подвергли бомбардировке Джакарту».
Он уже на слове «бомбардировка».
Левченков молчит и хмурится. Нет, он больше не сваляет дурака. Сейчас он себе возьмет:
«Страна у нас маленькая, а рот большой». (Подпись под фотоснимком, изображающим Голландию.)
Костя Джигучев пишет:
«Индонезийский народ под руководством компартии поднялся с оружием в руках на борьбу за национальную независимость».
Костя работает еще лучше Кузнецова. Буквы у него изящные и несколько вытянуты вверх. Ничего удивительного! Человек в девятом классе. Когда вы перейдете в девятый класс, вы тоже, может быть, будете чертить и писать подписи на плакатах не хуже Джигучева.
Костя не считает, сколько подписей сделал; не считает, и сколько их еще осталось. Сегодня суббота – можно поработать подольше.

Время от времени, опершись руками о пол, Костя осторожно выскальзывает из общего ряда, приподнимается и, балансируя, чтобы не наступить на бутылки с тушью, карандаши и линейки, медленно шагает между лежащими на полу мальчиками.
Пройдя туда и обратно и заглянув каждому через плечо, он останавливается. Стоит посреди комнаты, зажав между третьим и указательным пальцем быстро-быстро вращающийся рейсфедер. Костя похож на капитана корабля, оглядывающего свою команду: ноги у него широко расставлены – как будто бы для того, чтобы удержать равновесие во время сильной качки.
– Ребята, кто возьмет эту? – спрашивает он. – Ты, что ли, Борис? (Левченков уже кончил писать.)
– Почему это мне самую длинную? Четырнадцать слов! – ворчит Левченков. – Пусть Кузнецов берет.
– Ладно, давай, – не поднимая глаз от работы, говорит Саша Петровский.
– Ну, тогда тебе вот эту. Идет?
– Идет.
Левченков берет листок, читает и вдруг вскакивает с полу, размахивая длинными руками:
– Да ведь тут целых семнадцать слов!
Лека Калитин фыркает. Уронив голову на руки, задыхается от смеха Мика Калитин.
– Пиши, пиши, – говорит Костя Джигучев. – Никто не торгуется, один ты!
Левченков густо краснеет и, ни на кого не глядя, ложится на пол.
Когда он кончит и зальет эту подпись тушью, он ее поставит для обозрения на подоконник – рядом с другими своими подписями. Всем будет видно, сколько он наработал сегодня вечером.
Несмотря на позднее время и тишину, здание школы пронизано звуками и шорохами: тоненько потрескивают трубы парового отопления, скребется под полом мышь, где-то отвалился кусочек штукатурки… Когда ребята молчат, звуки слышны совершенно отчетливо. Но вот их заглушают шаркающие шаги тети Сливы.
– Выставка выставкой, а спать пора, – говорит она, заглядывая в пионерскую комнату.
Ребята притворяются, будто не слышат. Они не зря корпят. Скоро откроется школьный лекторий, и у первого звена много поводов для того, чтобы волноваться и тревожиться.
Докладов к открытию лектория готовилось немало, один другого занятнее:
а) «Пушкин в изгнании» – доклад готовит Степка Шилов из седьмого «В».
б) «Осеверение винограда» – Витя Минаев из восьмого «А».
в) «Теория Павлова об условных рефлексах» – Олег Бережной из девятого «Б».
г) «Открытия Ломоносова в области физики» – Петр Наумов из девятого «Б».
д) И, наконец, «Острова Зондского архипелага» – Саша Петровский из шестого «Б».
Надо признаться, у «Островов Зондского архипелага» шансов было меньше всего. Что ни говори, а шестой – это же не восьмой, не девятый и, уж конечно, не десятый.
Учитель физики решительно высказывался за то, чтобы первый доклад читал его драгоценный Петька. (Еще бы: десятиклассник.) Так и было решено, и все кандидаты перестали готовиться к назначенному для первого доклада сроку. Все, кроме Петровского. Не такой он был человек, чтобы хоть на один день оставить начатое дело.
– Нет, я бы так не мог! – возмущался Яковлев. – Чего ты корпишь как сумасшедший, когда очередь до тебя дойдет не раньше апреля!
– Мне совершенно все равно, когда до меня дойдет очередь, – невозмутимо отвечал Петровский. – Я корплю потому, что мне интересно.
И вот случилось нечто совершенно непредвиденное: за три дня до открытия школьного лектория Петр Наумов заболел. Открытие решили отложить. Но тут вмешался Яковлев. Он кинулся к Александру Львовичу, к Зое Николаевне и наконец к директору.
– Ну что ж, – сказал директор, – в этом есть свой резон: не со старших начинать, так с младших.
И на другой день рядом со стенгазетой появилась афиша, изображавшая яванца с бамбуковой пикой в руках. Вкось через все зеленовато-белое поле афиши шла надпись: «Острова Зондского архипелага». Докладчик А. Петровский».
И вот тут-то все первое звено почувствовало большую ответственность. Кузнецов мог не ладить с Сашей, Иванов постоянно ссорился с Даней, Левченков мог ругаться со всеми по очереди, но эти мелкие распри сейчас отошли на второй план. Дело было серьезное – речь шла о чести звена. Больше того: о чести всего класса! Надо было, чтобы Петровский не ударил лицом в грязь, чтобы вся школа ахнула!
И первое звено решило иллюстрировать доклад выставкой. В ход было пущено все возможное и невозможное. Завертелись поистине все колеса, и они привели в движение не только первое звено, а чуть ли не всю школу. Костя Джигучев пошел в третий класс, где преподавала Анна Ивановна, у которой он учился в начальной школе. Костя, по старой памяти, всегда обращался к ней в трудную минуту. Он не ошибся и на этот раз – третьи классы взялись сделать, пожалуй, самый трудный экспонат: скопировать для выставки витрину, изображавшую террасы рисовых полей. Витрину эту облюбовали Саша с Даней. В поле работали маленькие человечки с темными ручками и ножками, крошечными повязками вокруг бедер и настоящими соломенными шляпками на голове. Люди были величиной с палец, но все в этом неподвижном и вместе подвижном, серьезном и умном царстве было такое подлинное, настоящее: и густая щетина риса, и зеркальная вода в оросительных каналах, отражающая облака, и соломенные шляпки на головам жнецов. Третьи классы работали под руководством художника-консультанта музея (лепили из пластилина человечков). Их мамы делали для человечков набедренные повязки. Одна бабушка из четвертого класса «А» изготовляла яванские соломенные шляпы. Эта бабушка была очень находчивая старушка. Она распорола старинную панаму, в которой когда-то гуляла с дедушкой, и, сделав из наперстка шляпную болванку, принялась за работу. Два ее внука – из четвертого «Б» и третьего «А» – помогали ей как могли: вдевали нитки в игольное ушко, примеряли шляпки на палец и заваривали для бабушки крепкий чай. Шляпы поступали в школу бесперебойно.
Небо, террасы, облако и зеркальный пруд были поручены члену художественного кружка Дворца пионеров, ученику седьмого класса Бартеньеву.
Яковлев и Кузнецов выбирали вместе с Петровским фотографии – переснимали их, проявляли и перепечатывали. И всем звеном, лежа на полу в пионерской комнате, ребята делали подписи к этим снимкам.
Глава II
И вот до открытия школьного лектория осталось всего два часа, даже меньше – час сорок минут.
Яковлев, взволнованный и бледный, бродил по темному коридору коммунальной квартиры – длинному коридору, уставленному вешалками, сундуками и корзинами.
Он томился. Его раздражало все: шаги на лестнице, царапанье кошки, подтачивающей когти об угол сундука, голоса, долетающие из кухни.
Он вошел в комнату и прилег на оттоманку.
Эх, если бы кто-нибудь изобрел такую кнопку, вроде кнопки звонка! Нажмешь ее – а тебе отвечают (вот как «точное время» по телефону), что и как будет… Ну, например: «Доклад состоится, пройдет благополучно» или там «отлично», «удовлетворительно», «плохо»…
Но такой кнопки еще не изобрели. Ему приходилось ждать, и положение его было, надо сказать, не из легких: ему оставалось ждать еще целый час и тридцать пять минут.
Дверь скрипнула. Вошла мать с кастрюлей дымящегося супа. Между тем в передней раздался звонок, и почти сейчас же к Яковлевым постучали.
– Заходите, пожалуйста. Даня, наверно, к тебе, – сказала мать.
Дверь бесшумно отворилась, и через порог шагнул Саша.
– Простите, – сказал он, – я не помешал?
– Ну что вы! – ответила мать. – Раздевайтесь, пожалуйста.
Он разделся в передней и прошел к большому столу под висячей лампой.
– Пора? – спросил нетерпеливо Даня и отставил тарелку.
– Да нет, у нас еще добрых сорок минут. Успеется. Ешь.
– Вот видишь! – с торжеством вставила мать. – Я тоже говорю, чтоб он ел. Садитесь, пожалуйста… Может быть, и вы с ним закусите?
– Ой, нет! Спасибо большое. Я дома уже поел.
Даня с недоумением посмотрел на товарища и пожал плечами: «Сашка ел. Он обедал. Вот тоже человек!.. Как он мог обедать, когда ему с минуты на минуту предстоит делать доклад!»
Пока Даня был занят этими глубокими мыслями, мать вышла и возвратилась с тарелкой, на которой лежала котлета с макаронами.
Даня стал молча ковырять котлету вилкой.
– А что это у вас какой набитый портфель? – поинтересовалась Яковлева.
– А это снимки… к докладу, – доверчиво глядя ей в глаза, ответил Саша. – Вот посмотрите. – Он открыл портфель и положил на стол большой альбом. – Посмотрите, пожалуйста: это дома яванцев – видите, на сваях. А вот каучуковые плантации и деревья – правда похожи на наши клены? А это яванцы с пиками. Они борются за свою национальную независимость.
– Подумать только! – говорит Яковлева. – А это что такое?
– Это? Это воронка в земле. Тут, должно быть, была хижина – видите, остатки какой-то утвари. Понимаете, им-то что – англичанам и американцам, им прибыль нужна. Плантации, каучук, олово…
– Ясное дело, капиталисты, – покачав головой и глубоко вздыхая, говорит Яковлева. – Что им до рабочего человека!
– А народ без крова, – продолжает Саша. – И жертв сколько! А земля у них богатая. И народ храбрый, сильный. Я вам после когда-нибудь все подробно расскажу, ладно? Я к вам как-нибудь приду с картой, можно?
Даня удивленно смотрел то на мать, то на товарища.
Нет, что ни говори, а Саша странный человек. Один раз они шли по лестнице и разговаривали о чем-то важном – кажется, о Фламмарионе. Перед ними по той же лестнице ковылял какой-то дошкольник. Саша нагнал дошкольника, поднял его и посадил к себе на плечо.
«На какой прикажешь этаж?» – спросил Петровский.
«Прикажу на третий», – ответил дошкольник.
«А как же тебя зовут?» – засмеявшись, спросил Саша.
«Катя зовут, Константинова дочь», – ответил дошкольник.
«А я думал, что ты Константинов сын», – удивился Саша.
«Это потому, что лыжные штаны», – ответила Константинова дочь.
И Саша донес ее до третьего этажа.
В другой раз Даня шел к Петровскому и увидел, что тот стоит около помойки с мусорным ведром в руках. Заметив Даню, Саша помахал ему рукой, сказал: «Подожди минуту, я сейчас» – и опрокинул в помойку мусор. Пустое ведро он подал чужой старушке, вытер руки снегом, а потом носовым платком и пошел рядом с Даней как ни в чем не бывало.
Если бы это сделал кто-нибудь другой, Яковлев бы сказал просто: «воображает», «корчит из себя образцово-показательного подростка».
Петровскому он готов был простить все – и дошкольников и старушек с ведрами, но все-таки каждый раз в глубине души у него оставался какой-то осадок удивления и обиды. Как-никак, а на все эти чудачества тратилось их общее дорогое деловое время!
Вот и теперь: ну неужели он не понимает, что лучше бы походить вдвоем по двору или посидеть на лестничном подоконнике и поговорить о докладе, чем вдруг ни с того ни с сего рассказывать матери об Индонезии!
– Надо идти! – угрюмо сказал он, отодвигая тарелку.
– Да, надо. А то мы, чего доброго, опоздаем, – согласился Саша, закрывая альбом.
– Но ведь ты ничего не ел – смотри, вся котлета осталась, – огорченно сказала мать, приподнимаясь со стула.
– Ах, отстань, пожалуйста! – раздраженно ответил Даня.
И вдруг он увидел лицо Саши – такое холодное, неподвижное, совсем незнакомое лицо.
«Чего это он?» – с недоумением подумал Даня.
Саша еще одевался, а Яковлев уже выскочил на лестницу и, навалившись животом на перила, вихрем понесся по узкому полированному скату.
Долетев до последней площадки, он остановился и посмотрел вверх. Саша не торопясь спускался по ступенькам. Мать стояла на пороге квартиры и смотрела им вслед мягким и долгим взглядом. Саша словно почувствовал ее взгляд. Он обернулся, увидел ее в дверях и еще раз поклонился на прощанье. Мать улыбнулась еще приветливей и помахала рукой.
– В добрый час! – услышали ребята ее голос.
Когда тяжелая дверь парадной захлопнулась за мальчиками, Саша обернулся к Яковлеву и сказал в упор:
– Как ты можешь… как ты можешь так разговаривать с матерью?