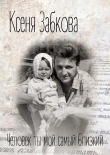Текст книги "Отрочество"
Автор книги: Сусанна Георгиевская
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц)
Глава IX
Раздался звонок.
Захлопали парты.
В класс вошел с журналом в руке классный руководитель и преподаватель английского языка Александр Львович Онучин.
Поздоровавшись и положив журнал, он пошел между парт, поглядывая на затянутое ослепительной первой изморозью окошко, на круглые и вытянутые макушки, возвышавшиеся над партами, на еще не раскрытые и уже раскрытые и разложенные по партам тетради.
У него был легкий шаг, а руки и щеки красны и губы чуть стянуты морозом. От него отлично пахло морозцем – наверно, только что вернулся с урока в соседней женской школе.
– Александр Львович, – сказал у него за спиной высокий ломкий голос Левченкова, – он еще утром забрал у меня карандаш и не отдает.
– Пусть раньше ручку мою отдаст, – ответил густой голос Семенчука, перекрывший разом все шумы класса.
Александр Львович даже не обернулся. Он шел узким проходом между партами, склонив набок большую круглую голову, и улыбался чему-то своему.
– Александр Львович, – снова сказал Левченков, и голос у него сделался, как у маленького, плаксивым, – скажите ему! Скажите ему, отчего он не отдает карандаш?
– Что? – сказал Александр Львович, внезапно останавливаясь. – Ах да, обмен…
Своей легкой походкой он подошел к крайней парте (к парте Семенчука); не сказав ни слова, унес карандаш и переложил его на парту Левченкова. Затем, взяв с парты Левченкова самопишущее перо, он, также ни слова не говоря и не меняя невозмутимого выражения лица, переложил ее на крайнюю парту, где сидел нахмуренный Семенчук.
По классу пробежал легкий смешок. Александр Львович приподнял брови и посмотрел вокруг вопросительно. Все стихло.
– Итак, начнем, – сказал Александр Львович. – Попрошу вас достать тетрадки. Сегодня будет контрольная. Переведем последний параграф… Все готовы? Отлично.
Еще слышались вздохи Левченкова, еще рокотал на последней парте звучный шопот Семенчука, обращенный к Левченкову: «Погоди у меня!» – а уже зашелестели страницы тетрадей.
Петровский в ужасе повернулся к Яковлеву и посмотрел на него напряженно и испуганно. В глазах у товарища были отчаяние, покорность судьбе и даже какое-то равнодушие: «Пропадать так пропадать!» Дело было в том, что Даня не только не знал урока, но у него далее не было сегодня с собой учебников. Близкий друг, одолживший ему мешки, не пожелал возвратить портфель. Это случилось потому, что мешок, в котором Яковлев тащил щедрый дар полковника Чаго, в двух местах порвался.
– Нет, этак дело, ребята, не выйдет, – сказал, обнаружив дырки, знакомый дворник. – Как же этак? Ведь уголь высыплется… Я сделал вам уваженье, а вы – разрывать мешки… Мешковина была, посудите сами, довольно прочная. Хорошая мешковина. Зачем же озоровать? Я таскал – ничего не прорвалось. Вы таскали – у вас прорвалось. Как же так без мешка? Без мешка я как без рук. Предоставьте новую мешковину – верну портфелики. Не нужно мне даром ваших портфеликов. Возвратите только целую мешковину.
И сколько ни клялся Даня, что доставит дворнику завтра же после школы новый мешок, дворник и слышать ни о чем не хотел. Он только тряс головой и повторял: «Я таскал – у меня не прорвалось. Вы таскали – прорвалось…»
Но тут в разговор вмешался Саша.
– Простите, – сказал он, присаживаясь на табуретку подле близкого друга Дани. – Вы нам выдали два мешка. Мы внесли вам в залог два портфеля с книгами. Порвался один мешок. Стало быть, вы обязаны возвратить нам один портфель.
– Ну что ж, – согласился знакомый дворник, – задержим, значит, до завтра один портфелик, сделаем уважение…
И он провел рукой по коже портфеля Саши Петровского. На великолепном портфеле, который даже жалко было трепать каждый день, вспыхнули буквы «А. П.» – Александр Петровский. Никогда и ни у кого из мальчиков в школе, даже у старшеклассников, не было портфеля с такими красивыми посеребренными буквами. Ради них одних Саша, сказать по правде, носил ежедневно в школу свой новый портфель.
И Даня оказался не в силах снести укоризненного сияния этих букв:
– Это нечестно, нечестно! – закричал он, стуча кулаком по табуретке знакомого дворника. – Вы как хотите, это нечестно. Если бы мешки были новые, так тогда вы могли бы оставить в залог наш красивый, новый портфель. Но мешки были черные, из-под угля… Нет, вы, пожалуйста, не отворачивайтесь, смотрите мне прямо в глаза, товарищ. Если хотите задерживать, так задержите за старый мешок наш старый, плохой портфель!
Дворник сдался. Петровский получил обратно портфель, а Яковлев удалился из ласкового приюта своих друзей без книг и портфеля.
– Надо срочно достать мешок, – сказал Саша, как только за ними захлопнулись двери дворницкой.
– Пустое! – ответил Даня. – Я завтра скажу отцу, а он скажет ей.
– Смотри, Данька, может быть это как-то там сложно… Так я сейчас же сбегаю за мешком домой.
– Отстань! – И Даня заговорил о другом.
Петровский, которому мешки, циркули, деньги на кино и прочее давали легко, имел неосторожность поверить Яковлеву. Говоря по правде, достать мешок и для Дани не представляло особенного труда. Но он был до того увлечен подсчетами металлолома, прыжками, книгой Обручева «Плутония», что со дня на день откладывал неприятный разговор о мешке и еще более неприятный поход к знакомому дворнику.
Только сегодня утром – и больше того, за десять минут до урока Александра Львовича – Петровский наконец узнал, что Яковлев не приготовил уроков. Мало того: оказалось, что у него вообще не было никакой возможности их приготовить. Сегодня были английский и алгебра, как в тот памятный день. А как раз эти самые учебники и остались у дворника в стареньком, потрепанном портфеле Яковлева. Положение было отчаянное. По всем признакам, Яковлева должны были вызвать именно сегодня. Александр Львович имел привычку вызывать за один урок двоих: одну фамилию он выбирал в начале списка, другую – в конце. В прошлый раз незадолго до звонка он вызвал Арбузова, первого по алфавиту, и не успел вызвать последнего. Последняя фамилия в списке начиналась на букву «я» – значит, сегодня была очередь Яковлева.
Саша был против подсказки, но на этот раз он решил подсказывать, если Даню вызовут. Как-никак, человек пострадал не за себя. Он пострадал за общее дело…
Но контрольная!.. Контрольная была много хуже, чем если бы Яковлева вызвали к доске. Даня непременно засыплется, может быть даже получит двойку в четверти… Допустить этого Петровский не мог.
– Ты будешь слушать? – спросил он, наклонившись к самому уху Яковлева.
– Могу! – с величайшей готовностью рявкнул Яковлев (и получил за это под партой пинок).
– Вот чистая тетрадка. Возьми и пиши!
– Что писать? – в отчаянии не то прошептал, не то выдохнул Яковлев.
– Что хочешь! – со злостью сказал Петровский и с опаской посмотрел на стоящего у окна учителя.
– Отложим разговоры до переменки, Петровский, если не возражаете, – сказал Александр Львович, продолжая с большим увлечением смотреть в окно.
Петровский покраснел и уткнулся к свою тетрадку. Учитель стоял, опершись локтем о подоконник, и сосредоточенно, внимательно, с живым любопытством смотрел во двор: во дворе шел первый снежок.
Петровский неторопливо раскрыл учебник и положил его перед собой и Яковлевым. Он подпер кулаком висок, обмакнул неторопливо перо. Перышко скрипнуло нежным звуком и продолжало тихонько скрипеть. Губы Петровского были сжаты. Он не оборачивался на призывы соседних парт. Парты сзади и слева слегка заколыхались. Парта Яковлева и Петровского вздрогнула. На страницу лег непрошенный росчерк.
– Ребята, кто это толкается! – сказал Петровский шопотом, но достаточно громко, чтобы учитель мог услышать. – Я посадил такую кляксу, что должен буду переписать целую страницу.
Александр Львович, должно быть, не слышал. Он стоял, наклонившись над подоконником.
Петровский закончил страницу, аккуратно вырвал ее из тетради и подложил легчайшим движением под локоть Яковлева.
Яковлев принялся переписывать.
Отработав барщину, Петровский получил возможность потрудиться и на себя. В аккуратной тетради с надписью: «Английский письменный, шестой «Б», Александр Петровский», слова и буквы нанизывались, точно на нитку, складывались в строки и абзацы.
Перо скрипело. Времени оставалось в обрез.
Петровский был бледен. Он всегда бледнел, когда волновался и торопился. Дописав страницу, он быстро проверил ее и успел поставить недостающую запятую.
А Яковлев между тем все еще переписывал.
Петровский отнес тетрадь на учительский стол, возвратился и сел на свое место, положив обе руки на парту. Его пальцы слегка барабанили по самому краю парты одними подушечками, не производя при этом ни малейшего звука. Задумавшись, он смотрел на покрытый белым покровом двор.
Александр Львович тоже смотрел во двор. Ходил, заложив за спину руки, от окошка к двери, от двери к окошку и, дойдя до двери, поворачивался, чтобы еще раз заглянуть в окно и еще раз увидеть белый, покрывшийся снегом двор.
Петровский задумался. Лицо его стало по-детски доверчивым, кротким. Рот приоткрылся. Руки перестали постукивать по крышке парты и упали кверху ладонями, будто прося о чем-то.
А учитель ходил по классу, смотрел на покрывшийся снегом двор и тоже думал про что-то свое. Про что? Наверно, про северные широты, о которых однажды на сборе отряда рассказывал мальчикам.
…Фронт. Зима. Перевалив за сопки, их части движутся по направлению к Петсамо. Длинное, долгое, нескончаемое шоссе, размеченное столбами с немецкими надписями.
Слева – горная цепь, покрытая ельником и какими-то робкими, маленькими клочками снега.
Светает.
В серой мгле огонь первого запылавшего костра похож издали на затеплившееся в дальнем доме окошко. Слышно звяканье ударяющихся друг о друга отвязанных котелков и щебет птиц, до того непривычный для уха солдата, пришедшего с той стороны хребта, где лежит голая тундра, что от странного этого, милого звука перехватывает дыхание…
Он идет по длинной дороге с большими столбами, с которых еще не сняты немецкие надписи. Подняв лицо, он пытается различить в посветлевшем небе подвижные точки. Птицы. В самом деле – птицы! Их не видно, нет, – только воздух наполнен их жизнью, их щебетом, их птичьим дыханием. А между корнями деревьев мелькают клочкообразные, не сплошные, не вечные (как на той стороне хребта), местами пронизанные желтыми травинками и готовые растаять с приближением весны снега.
Вот об этих-то давних, поза-позапрошлогодних снегах вспоминал молодой учитель, внимательно глядя на школьный двор.

А Яковлев между тем тоже закончил переписывать. Задев на ходу крышку парты, он подошел со своим листком к учителю, занятому воспоминаниями о щебете птиц.
Учитель вздрогнул, глянул рассеянно на переписанный Яковлевым листок, взял его в руки и вдруг сказал:
– Даже переписать вы не потрудились как следует, Яковлев… вся страница в помарках! А зря. Петровский сегодня очень для вас старался. Вот видите, торопился, сделал… гм… две… три ошибки. Никогда не следует торопиться, Петровский… Да, так по существу, товарищи, я бы должен был поставить вам общий балл. Работа… гм… дружного коллектива. Но качество переписки отстало все же от подлинника. Печально! Придется вас в данном случае разделить. Яковлев – двойка, Петровский – тройка. – Он что-то отметил в школьном журнале. – Петровский, возьмите, пожалуйста, ваш первый… нет, вернее сказать – второй листок и запомните: никогда не следует повторяться.
В классе стало так тихо, что слышался шорох страниц.
Яковлев боком присел на парту. Он не смел поднять глаза на товарища. Он знал, что это первая тройка в жизни Петровского.
* * *
Когда молчаливый, хмурый Петровский и растерянный, истерзанный Яковлев молча шагали по коридору к раздевалке, их остановил Александр Львович:
– Вот что, друзья, попрошу вас зайти в учительскую. Я задержу вас ненадолго, минут на пятнадцать.
Яковлев и Петровский переглянулись, сделали крутой поворот и зашагали по коридору в обратную от раздевалки сторону, туда, где был живой уголок, географически кабинет и учительская.
– Заходите, ребята, – сказал, нагоняя мальчиков Александр Львович (сказал так приветливо, как будто бы приглашал их в гости).
Они вошли.
– Садитесь.
Сели.
Александр Львович прошелся раза два по комнате, потом остановился против Яковлева и посмотрел на него внимательно и заинтересованно.
Яковлев засопел: «Сейчас спросит, зачем я списывал, как будто бы сам не понимает!»
Но Александр Львович спросил совсем о другом.
– Яковлев… – сказал он, опуская глаза (наверно, ему было стыдно за него, за Яковлева), – Яковлев, не будете ли вы любезны объяснить мне, что у вас сегодня, собственно, произошло в физкультурном зале? Зачем вам понадобилось выманить ключ у школьной сторожихи, проникнуть тайком в физкультурный зал и выбить стекло?
– Но я же не выбивал!
– Хорошо. Допустим. А отчего вы пришли без книг, не потрудившись хоть сколько-нибудь ознакомиться с заданными уроками?
Яковлев молчал.
– Так, так… – сказал Александр Львович. – Ну что ж, передайте матери, что я жду ее. Мы все обсудим втроем и попытаемся вместе найти ответ. До завтра, Яковлев! А вы, Петровский, не уходите. Да и вы, Яковлев, подождите еще несколько минут. Я хотел бы, чтобы вы послушали наш разговор.
Видите ли, Петровский, я высоко ценю настоящую дружбу, ее верность и самоотверженность. Однажды, кажется в сорок третьем году, на фронте мы с трудом добрались до чужой землянки и попытались там кое-как обогреться. Нас было трое: я, сержант и девушка-санинструктор.
В огонь упала портянка этой девушки. Упала и, разумеется, сгорела наполовину. Пустяк – портянка! Но в тех местах, понимаете сами, не было АХЧ. Вы знаете, что такое АХЧ? Административно-хозяйственная часть.
Мы собрались идти. Девушка стала робко натягивать мокрый сапог на босую ногу.
А на дворе было очень холодно. Тундра, понимаете, ноябрь месяц. Хозяин землянки, подумавши, снял сухие портянки со своих ног и отдал их девушке-санинструктору. А там, как я уже говорил, не было АХЧ.
Вы скажете: так ведь он оставался! Да, на час-другой. Тот, кто живет в землянке на переднем крае, не слишком много времени проводит в тепле.
Мне часто случалось видеть в бою, что такое дружба двоих людей, связанных единым делом, двоих… ну, в общем, двоих уважающих друг друга товарищей. Я видел, понимаете ли, как, обливаясь кровью, один выносил из боя другого.
Из боя! Понимаете ли, Петровский? Речь идет о бое. О том времени, о минуте, когда решается вопрос победы и поражения, жизни и смерти.
В данном случае боя не было. Яковлев даже не попытался его вести. Он заранее сдался и без всякой борьбы преспокойно улегся на обе лопатки.
Вы волокли его за собой, а он при этом легонько сопротивлялся. Быть может, в вашем понимании этого слова. Петровский, это и есть товарищество? – Александр Львович внимательно посмотрел на Сашу.
Саша молчал.
– А вас, Яковлев, я вот о чем хотел спросить. Джигучев мне показывал текст вашего письма в райсовет. Идея этого письма, кажется, принадлежала вам? Вы там очень справедливо писали о том, что плохие отметки Мики и Леки сильно снижают учебные показатели вашего звена. Вы объясняли их двойки тем, что у Калитиных плохие домашние условия. А вам что мешает учить уроки, Яковлев? У вас тоже трудные домашние условия?
Яковлев молчал.
– Ну что ж… – И Александр Львович невесело усмехнулся. – Молчите? А я, признаться, надеялся, мальчики, что у нас получится разговор по душам. Вышел не разговор, а речь. Ну что ж, оратор высказал свои мысли при молчаливом неодобрении аудитории… Ступайте. Больше нам говорить не о чем.
Петровский смущенно встал и поплелся к выходу. Яковлев поднялся было и пошел за ним, но, уже взявшие за ручку дверей, не выдержал и сказал, задохнувшись:
– Это не он, это я… все я!.. Несправедливо, Александр Львович!
Александр Львович, склонив голову набок, посмотрел на Яковлева.
– Что несправедливо? – спросил он.
– А то… Сами знаете… – тяжело дыша, ответил Яковлев. – У него не было никогда никаких ошибок. Это я его подвел… За что же тройка? Мне хоть единицу, хоть ноль… Но ведь это же, это…
– Молчи, Данька! – сердито сказал Саша и быстрым шагом зашагал по коридору.
Яковлев смотрел, моргая, на Александра Львовича.
Тот стоял посередине учительской, задумавшись, опершись рукой о стол. Лицо у него было грустное. (Неужели же иногда бывает плохо и учителям?..)
Вид этого лица, вдобавок ко всем сегодняшним злоключениям, вверг Яковлева прямо-таки в пучину отчаяния. Губы у него задрожали.
– Даня, – сказал Александр Львович, взяв Яковлева за плечи и тихонько притянув его к себе, – ну что с тобой? Что случилось, скажи? Ты, кажется, просто нездоров?
И Яковлев узнал знакомый, привычный голос учителя, тот самый, которым он говорил, когда они оставались с глазу на глаз.
– Я… я здоров! Я здоров исключительно! – гаркнул Даня, вырываясь из его рук, и выбежал в коридор.
Глава X
Он понял, что мамы нет, потому что ключ был вынут из замочной скважины.
На всякий случай он все-таки крикнул в сторону кухни:
– Мама!
Никто не отозвался.
Тогда он пошарил у порога и вытащил ключ из-под отстающего уголка линолеума (если она уходила из дому ненадолго, ключ всегда лежал у порога под линолеумом, если надолго – он лежал под вешалкой).
Мамы дома не было, но всюду – в каждом углу, в каждой вещи, в каждой мелочи: в не доштопанном ею носке с воткнутой до середины иголкой, в расшитой салфеточке, лежащей посередине стола на темной скатерти, – была она. Вот на тарелке аккуратно нарезанный ею хлеб. Поверх хлеба записка:
«ПОДОГРЕЙ СЕБЕ СУПУ. КАСТРЮЛЬКА НА ПЛИТКЕ».
Вот что ее занимает больше всего: суп!
Вот чем забита ее голова: супами!
Вся жизнь – в супах!
Однако не дальше как третьего дня он, придя из школы, спокойно подогрел себе суп, а потом развернул учебники.
Вчера за обедом он читал Обручева, потому что и алгебра и английский гостили у дворника.
Те учебники, которые были ему нужны на завтрашний день, лежали перед его носом, на столе. Но после сегодняшних происшествий готовить уроки не было уже никого смысла. В общем, начинать всю эту канитель с уроками стоило только тогда, когда все учебники будут опять на месте.
Да, но как их достать?
Добыть мешок!
Однако то, что еще вчера было очень просто, сегодня казалось невозможным.
«И ужасней всего, что ей даже сказать нельзя, – думал Даня. – Как же я ей скажу про мешок, когда ее вызывают в школу?.. Другое дело, если бы я ей принес сегодня пятерку по алгебре».
И вдруг ему стало казаться, что он катится с высоченной ледяной горы, которой нет конца.
Сегодня нельзя сказать. И завтра нельзя. Послезавтра тоже нельзя. Мешка нет, и учебников пока что тоже.
…Его вызывают. Он врет и путает все самым бестолковым образом. В воскресенье утром он, конечно, бежит на рынок и раздобывает мешок, приходит в дворницкую, но дворничиха говорит ему:
«Сколько же нам ждать вас? Очень просто, продали ваши книжонки, да и купили мешок. Очень даже обыкновенно».
И он остается без учебников до конца года. Его учебные дела и так не блестящи, а без книг и совсем пиши пропало. Он бегает к товарищам, занимает книжки на полчаса. Но много ли за полчаса сделаешь! Каждый раз, когда его вызывают, он плетет невесть что. Мать наконец замечает, что с ним что-то опять случилось, и учиняет ему допрос. Но он ни в чем не признается.
Печально и быстро катится по отлогой горе оторвавшийся снежный ком, пока не докатывается до ее подножия.
Его исключают из пионеров за двойки и за вранье.
При одной мысли об этом Даня зажмурился. Но тотчас же какой-то трезвый, ясный голос успокоительно прозвучал в его сознании: «Глупости! За что? За то, что человек потерял учебник, его никогда ниоткуда не исключают. Ну, неприятно, конечно, но как-нибудь да наладится».
А что, может и в самом деле наладится?
Даня медленно прошелся из угла в угол.
Стемнело. Все как всегда. Вот стол. Вот лампа. Как будто сегодня может быть все как всегда!
По ободку абажура прыгают хорошо знакомые, вырезанные когда-то из черной бумаги не то собаки, не то олени.
Вот буфет. На буфете – большая ваза. Мама ее называет фруктовой вазой, но фруктов в нее никогда не кладет. Когда папа приносит с завода получку, она покупает то мандарины, то яблоки, но в вазу их не кладет.
«Поел? – говорит она после обеда Дане, и на скатерти вдруг появляется яблоко. – Хорошо, что спрятала. Уничтожил бы до обеда».
Над фруктовой вазой висит на стене фотография мамы и папы до свадьбы.
Были такие красивые, а стали такие старые… Почему они оба такие старые?.. В самом деле, как будто не мама и папа, а дедушка и бабушка. Ах, если бы он родился у них пораньше или они бы родились попозже, его мама, наверно, все умела бы понимать, как мама Петровского.
А вот над кроватью мамы фотография старшего брата.
Кто из мальчиков не мечтает о старшем брате! О брате, которым гордишься, которым немножко хвастаешь перед друзьями! О брате, который все умеет, все знает!
Вот таким братом был Аркаша. Он никогда не задирал нос оттого, что был на десять лет старше Дани. Никогда не говорил «отстань», «уйди». Научившись ездить на велосипеде, он первым делом прокатил Даню. Едва Дане исполнилось шесть лет, Аркаша смастерил ему деревянные коньки и повел с собой на каток. И даже глазом не моргнул, когда кто-то крикнул ему: «Эй, нянька!» Он выучил Даню кататься, а на следующую зиму добился, чтоб Дане купили настоящие коньки. Он брал Даню с собой, когда с одноклассниками катался по Неве на лодке, приносил ему из библиотеки книжки, а однажды взял Даню в тир, где шли стрелковые состязания. Он был веселый, Аркаша, и он всегда заступался за Даню перед мамой.
Когда началась война, Дане было семь лет, а брату – семнадцать. Брат кончил школу и пошел на войну добровольцем. Этот день навсегда остался в памяти у Дани.
Мама, которая обычно заснуть не могла, пока Аркаша не возвратится с катка, и всегда встречала его целым градом ласковых упреков, в этот раз ничего не сказала ему. Нет. Она просто уложила братнины вещи в рюкзак: ложку, кружку, белье, и пошла его провожать.
С нею вместе пошел и Даня.
Мама молчала. Молчала всю дорогу и крепко держала брата под руку, а его, Даню, за руку. Молча стояла она на вокзале и смотрела, как солдаты, молодые и старые, устраиваются в теплушке. Она не спросила, какое у Аркаши место, не напомнила ему, чтобы он берег свой вещевой мешок. Было жарко – август. На желтом, с темными подтеками мазута песке подъездных путей, на дощатой платформе суетились люди. У них было такое серьезное и в то же время обыкновенное выражение лица, как будто бы так надо, как будто бы так и быть должно, как будто бы все уже давно-давно привыкло, что война. У тумбочки стояла с узелком в руках и горько, тихо плакала какая-то старушка. По ее щекам катились мелкие слезинки. Спешило куда-то люди в военном. Женщина и девочка обнимали большого и толстого человека в форме и очках.
Суета, давка… И жарко было. Со всех сторон под вокзальную крышу ударяло солнце. Асфальт под ногами – там, где был асфальт, – становился мягким.
Мама не отрываясь смотрела на Аркашу. Она не замечала, что жарко, не замечала, что ее толкают.
Она только смотрела на Аркашу, кивала и, улыбаясь, приговаривала:
– Ну что ж… Ну что ж…
И вот поезд тронулся. Бегущая толпа подхватила маму и Даню. Сперва поезд шел медленно, и люди бежали медленно. Потом он пошел все быстрей, быстрей… Мама тянула за руку Даню. Она все время улыбалась и кивала. Даня едва поспевал за ней.
Сквозь открытые двери теплушки было видно лицо Аркаши. Глаза у него были отчаянные.
– Мамочка, осторожней! – крикнул Аркаша, когда они добежали до конца перрона.
Там, где был конец перрона, – открытое, не заслоненное крышей, стояло солнце. Блестели рельсы, и песок, раскаленный добела, казался похожим на снег. Поезд мелькнул впереди, изогнувшись, как запятая, и скрылся.
Тогда мама вскрикнула громко и до того страшно, что Даня испугался и заплакал. Мама словно проснулась, вытерла ладонью его мокрое лицо, взяла его за руку и молча повела домой.
…Аркаша был убит в марте сорок второго года под Смоленском. Дома никто – ни Даня, ни папа – не смел говорить при маме о брате.
Но вот на другой год после окончания войны, в день Победы, ее пригласили в школу. Там было торжественное заседание. После речи директора открыли белую мраморную доску, вделанную в стену актового зала. На ней было выгравировано золотыми буквами:
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ,
ОТДАВШИМ ЖИЗНЬ ЗА СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ!
Под сталинскими словами стоял длинный список имен. Среди них был Аркадий Яковлев, сержант танковых войск.
Вернувшись из школы, мать расплакалась, кажется в первый раз с того дня.
Может быть, после этого ей сделалось легче? Она изредка стала упоминать имя старшего сына и повесила у себя над кроватью его фотографию.
Упершись в стену обеими ладонями, младший Яковлев внимательно рассматривал фотографию брата.
Прямо ему в глаза глядели серые, под темными густыми бровями, внимательные и почему-то немного грустные глаза Аркаши.
Он был снят в своем праздничном пиджаке, и галстук у него был завязан так аккуратно, как могла завязать его только мама, отправляя сына сниматься.
«Она любила Аркашу больше меня, – подумал Даня. – Да и понятно: он ведь был гораздо лучше меня, такой, как надо. Учился здорово, на баяне играл, был храбрым, маме дрова колол… Эх, если бы он был жив, вот кто выручил бы в тяжелую минуту! Ему бы все можно было рассказать – и про учебники и про мешок!..»
В передней что-то звучно щелкнуло. Он вздрогнул и отошел подальше от фотографии. Скрипнула дверь парадной. Это мама вернулась домой… Снимает калоши, вешает пальто.
А может быть, не она, а соседка? Нет, она…
Он узнает ее шаг и тяжелое, словно запертое в горле, дыхание. Наверно, с трудом поднималась по лестнице, таща набитую до краев кошелку.
Тихонько открылась дверь комнаты. Мать вошла, положила на столик, стоящий в углу, кошелку с покупками и, вместо того чтобы сказать «пришел?», или «здравствуй», или «ты разогрел себе супу?», спросила, все еще тяжело дыша:
– Что случилось, а?
Он был сражен.
Можно было, конечно, привыкнуть к этому. Ему стоило возвратиться домой с какой-нибудь нехорошей новостью, как она тотчас же говорила, открыв парадную дверь и даже не взглянув ему в лицо: «Что случилось, а?»
Его одновременно и удивляло то, что она говорила так, и раздражало до крайности.
– Что случилось? – спросила она и на этот раз.
И взгляд ее был насторожен, не выражая ни жалости, ни сочувствия, а только покорность бедствиям, которые он ей принес с собой.
Он не ответил.
Она, все еще задыхаясь, ушла на кухню и скоро вернулась с тарелкой горячего супа. Сказала:
– Садись… Или обедать ты тоже не хочешь? – и опять ушла, не дождавшись его ответа.
Он присел к столу и стал есть.
От горячего супа, от пережитого волнения, от того, что он нынче так рано встал, ему вдруг захотелось спать.
Дрёма тихонько прошла по ногам мурашками, загудела в ушах равномерным мягким гулом. Он с трудом подносил совсем уже вялой от сна рукой горячую ложку ко рту, удивляясь тому, что все еще ест.
Она возвратилась из кухни и поставила перед ним тарелку с картошкой. Он съел картошку.
– Будешь кисель? – спросила она сурово.
Он не ответил. Она поставила перед ним блюдце с киселем.
Когда он доел кисель, она спросила его:
– Ты сыт? – и достала из-под подушки странного вида открытку. – На, получай! – сказала она. – Получай!.. Не знаю, как скрыть от отца. Он этого, бедный, не перенесет.
Обмирая, он взял открытку из рук дрожавшей от гнева и горя матери.
Это было оповещение из районной библиотеки. Ему предлагалось немедленно возвратить библиотечные книги:
1) Ферсман «Занимательная минералогия»,
2) Арсеньев «В дебрях Уссурийского края»,
3) Жюль Верн «Пятнадцатилетний капитан».
Все три книги лежали в пропавшем портфеле.
«В случае вашей неявки дело будет передано прокурору», – гласила открытка.
– Дело будет передано прокурору. Ты понял? – зловеще спросила мать.
Закон, всевидящий и всезнающий, постучал в их дверь в обличии почтальона и вручил ей эту открытку.
– Нет, ты не понял! – сказала мать.
Она стояла вся бледная, с открыткой в руках, ожидая его объяснений, чтобы расплакаться.
Он сказал небрежно:
– Мама, ты всегда устраиваешь трагедии. Это же обыкновенное напоминание! Так полагается. Многие читатели получают точно такие же открытки. Завтра я обязательно возвращу им книги.
– Много людей получают такие открытки, повестки от прокурора? – с удивлением спросила мать. – На этой лестнице живет еще несколько мальчиков, но никто такой открытки не получал. Я спрашивала у почтальона…
– Ах, мама, – сказал он усталым голосом, – ты все про свое… Мама, тебя опять вызывают в школу.
– Что? – спросила она, опираясь рукой о стул. – В школу? Из-за этой открытки?
– Да нет, – ответил он все тем же усталым и тусклым голосом, – не из-за открытки. Из-за стекол… Только я стекла не выбивал…
Она взглянула на сына остановившимися глазами, подошла к шкафу и на всякий случай положила открытку в сумочку.
Он прилег на отцовскую оттоманку и крепко закрыл глаза.
В комнате нависло молчание, глухое и напряженное. Так умеют молчать только двое близких, кровно связанных друг с другом людей.
Мать ходила по комнате, что-то переставляя и прибирая. Потом она начала мыть посуду. Он тихонько раскрыл глаза, посмотрел на ее мелькающие над посудой руки, на укоризненное выражение ее лица и подумал с болью: «Всегда такая!»
Какой она бывала всегда, он, пожалуй, не мог бы объяснить словами.
С тех пор как он стал расти и мир из крошечного, ограниченного площадкой лестницы, садиком у ворот их дома, комнатой, мамой, стал вдруг для него превращаться в мир огромно большой, с товарищами, библиотеками, футбольными матчами, – она не переставала следить за ним настороженным взглядом, всегда ожидая беды.
Жадная душа его неспокойно металась, ища себе пищи и утоления. Он был постоянно занят делами, которым она не умела сочувствовать. Он был всегда до страстного потрясения чем-нибудь увлечен. Она не понимала его страстей и привязанностей.
Были ночи, когда он ложился спать и долго ворочался в детской своей кровати, разрываемый мыслями, воспоминаниями, планами, и был почти не в силах дождаться утра.
Были дни, когда он копил деньги, которые мать давала ему на завтрак, чтобы купить фотографический аппарат.
«Лейка, лейки, лейку!..» – говорил он по телефону товарищам.
Мать проходила мимо с кастрюлькой в руках, с кухонным полотенцем через плечо и на ходу обзывала «лейку» воронкой.
Были другие дни, когда сын до страстности увлекался книгами. Он читал постоянно в школе и дома и не в силах был оторваться от книги даже на время обеда и завтрака.