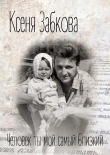Текст книги "Отрочество"
Автор книги: Сусанна Георгиевская
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
Я была уже большая. Я была девушкой, а она говорила: «Спи, девочка» – и шла дальше, к другой какой-нибудь кровати. У нее был беззвучный шаг. Беззвучно шагая, она шла от кровати к кровати…
Зачем я об этом вспомнила сейчас? Зачем я вспомнила про то, что чужая мать кормила меня с ложечки киселем? Наверно, для того, чтобы мне стало еще тяжелее… Иван Иванович сказал: «Откуда у тебя, Зоя, такое недоверие к уму и совести матерей?» Это у меня-то, у меня недоверие к их уму и совести, когда я без жгучей благодарности не могу даже вспомнить, как чужая мать кормила меня с ложечки киселем!»
Зое Николаевне тревожно. Прав, прав был вчера Иван Иванович: она ему плохой помощник.
Лучше встать, все равно сейчас уже не заснуть.
И она встает. Тихо шагая по комнате, надевает валенки. Надела шубу, шапку и рукавицы. Подошла к столу, потянула водицы прямо из носика чайника.
На улице хорошо. Здесь можно как хочешь шагать и скрипеть валенками. Хоть ранний час, а улица не спит.
День разгорается сереньким, робким рассветом. На улице почти совсем пусто. Вот здание магазина, с закрытой дверью и закрытыми окнами. Редкие прохожие, зябко пряча лицо в воротник, поспешно проходят по тротуару, перебегают через дорогу.
До Зои Николаевны доносится нарастающий гул – торопливые звонки трамвая. Что это, неужели уже трамвай пошел? Нет, грузовой… Прокатил с грохотом мимо нее, протащил шесть открытых вагонов с песком.
Сама не понимая, как это случилось, Зоя доходит до чугунной ограды школьного двора, задумавшись кладет на нее руку в варежке. Хрупкая снежная шапка, рассыпавшись на лету, сваливается к Зоиным ногам. Холод добирается до ладоней, обжигает руки сквозь варежки. Она стоит и смотрит на школьный двор через решетку. Двор в снегу. На крышах лежит снежок.
«Как это могло случиться со мной? – думает Зоя. – Как я могла допустить такую грубую ошибку? А ведь я еще хотела, я мечтала быть настоящей учительницей!»
Она быстро снимает руки с ограды, стараясь уловить и назвать мысль, которая промелькнула у нее в голове.
«Ну да, конечно же, именно эти мальчики, эти пионеры, которых я, старшая пионервожатая, веду по дороге отрочества, именно они и будут, может быть, первыми людьми коммунистического общества. Какая же ответственность лежит на тех, кто их воспитывает, на всех учителях сегодняшнего дня! И на мне, и на мне так же, как и на других, если не больше, чем на других: ведь я пионервожатая целой школы. Как это могло случиться со мной? Разве каждый мой час, каждая минута моя не занята мыслями о том, чтобы стать лучше? Разве я мало стараюсь? Я хотела быть настоящим педагогом, умным, сдержанным, и если чего-нибудь не могла простить другим, так только того, чего и себе не простила бы…
А вела я себя позавчера, как неумный садовник, который, пересаживая деревце, обрывает здоровые, крепки корни.
Но почему же? Почему? Да потому, что я умею понимать только те характеры, которые хоть чем-нибудь похожи на мой. А если это так, я не имею права быть учительницей! Учительница одна, учеников много. И тот не воспитатель, у кого не хватает воображения и сердца, чтобы жить сразу множеством жизней, следить за всем разнообразием мыслей, чувств, наклонностей, созревающих у него на глазах.
Когда, когда же наконец я научусь мерить не только на собственный аршин и видеть дальше собственного носа?.. Учительство не за горами, а я все еще ничего не умею, все еще надеюсь на завтра, на другой год, словно не стою уже на пороге зрелости… Как добиться, как сделать так, чтобы моя неумелость и резкость ни в чем, ни в чем не повредили моим мальчикам? Как уберечь в растущем человеке даже самую малую искру живого огня? Прав был не только Иван Иванович. Бесконечно прав был этот мальчик Денисов. Мне надобно действительно учиться у него. Если человек заслуживает упрека, то, даже укоряя, обращайся к его достоинству. И, может быть, если вот так, с такой великой бережностью удастся вырастить нового человека, полного доверия к могучим своим силам, полного уважения к товарищу, идущему рядом, полного любви, горячей, деятельной любви к земле, по которой он ступает, то это и будет человек, достойный жить в пору коммунизма.
Что же мне теперь делать? Что мне делать?..»
С жолоба водосточной трубы свешивается целая бахрома мелких и крупных сосулек. Зоя зачем-то подходит к жолобу и с силой отбивает сосульки ногой. Сосульки раскалываются и со стеклянным звоном рассыпаются мелкими ледяными брызгами.
«Если бы я работала на заводе, мне, может быть, удалось бы придумать какое-нибудь новое приспособление к своему станку; я бы ухаживала за станком, обтирала его начисто, до глянцевого блеска, и совесть моя была бы чиста, как мой станок.
Если бы я была колхозницей и работала, ну скажем, в яблоневом саду, я делала бы прививки яблоням. Я работала бы нежными руками и легкими пальцами. Я надела бы белый халат и белую шапочку, как няня в детском саду.
Если бы случились заморозки, я сумела бы закутать яблоню и уберечь ее от холода, а главное – я сразу видела бы, что мне удалось и что не удалось. Мой труд был бы у меня на глазах, шелестящий ветвями, налившийся яблоками.
А учительницей быть труднее всего, потому что сколько ни дашь тепла человеку, все будет мало. И только про кактус точно известно, сколько ему надобно воды, про яблоню – что гнущуюся ветку надо подпереть распоркой, а про овощи – как именно отделять от них сорняки.
Да, да, все на свете легче, чем воспитать хорошего, настоящего человека.
А может быть, и нет, может быть каждый в своем деле колеблется, ищет, ошибается и труд другого кажется ему в эти минуты более легким? Да, может быть… даже наверное!..»
Улица проснулась. Людей вокруг стало много. Переходят торопливо дорогу, перегоняют друг дружку. У каждого свои дела, заботы. Вот прошла молочница с бидонами – что ей до Зоиных тревог! Вот пробежали мальчики, и кто-то запустил в стену снежком. Послышался смех.
«Как они могут сейчас смеяться и радоваться?» – думает Зоя.
И вдруг кто-то окликает ее. Или, может быть, это только ей показалось?
Нет. Рядом с ней стоит Александр Львович. Он розовый от холода – видно, быстро шагал по улице, торопясь в школу (Александр Львович приходит всегда немного раньше восьми часов).
Зоя смотрит на него смущенно, почти испуганно. Он отвечает ей внимательным, сочувственным взглядом, ни о чем не расспрашивая. И вдруг, первый раз в жизни, он кладет руку ей на плечо, как товарищ товарищу:
– Зоя Николаевна, да не вешайте вы нос на квинту! Думаете, ошибки делают только они? – Он показывает подбородком на бегущих мальчишек. – Полноте! Да если бы я развернул перед вами школьную тетрадку известного вам Онучина Александра, шестой «Б», так сколько бы вы в ней насчитали клякс, ошибок, зачеркнутых и подчищенные мест! И считать бы, наверно, устали. Да авось ничего, и мы с вами научимся помаленьку. Что поделаешь, переходный возраст! Отрочество… Вырастем – умней будем. Право, Зоя Николаевна!
И, не дождавшись ответа, он быстро, как будто бы спохватившись, опускает руку и, проскользив по затянутой льдом луже, исчезает на школьном дворе.
Перестал падать снег, но сухой и свежий покров его все еще лежал на крышах и мостовых.
Восьмой час. Показалось солнце. Его свет лизнул крыши зданий и спустился ниже, на мостовые.
На черных неподвижных ветках деревьев и кустов в сквере Софьи Перовской узкими яркобелыми грядками лежал снег. Даже самая маленькая, самая тоненькая веточка была искусно и аккуратно обведена белой каймой. Когда по бульвару пробегал ветер, от деревьев, будто морозное дыхание, шел искрящийся дымок.
Но вот снег вспыхнул под солнцем, загорелся множеством искр. Загорелся и стал потихоньку таять. Упала на землю первая капля, вторая… Началась зимняя оттепель.
Капли ударялись о мостовую. Снег сделался пористым. К вечеру он спохватится и замерзнет опять. «Гололедица!» – скажут прохожие.
Но покуда что с крыш и веток все-таки падали на мостовую живые, светящиеся капли.
И Зое на минуту показалось, что наступила весна.
Вот-вот, освободившись от снега, влажные ветки закачаются на теплом ветру, потом покроются почками. Осторожно и медленно будет раскрываться каждая почка, клейкая и нежнозеленая.
Капе́ль…
Капли звенят, блестят и падают с крыши на мостовую.
Капе́ль…
Наперекор зиме, вырываясь из водосточных труб, стучится о землю талая вода.

Часть третья
Глава I

Знаете ли вы, помните ли вы – еще бы, вам ли не помнить! – этот день предчувствия праздников, самый-самый последний день перед каникулами? Подумайте, сегодня не субботний вечер! После занятий не будет даже воспитательского часа, который хоть и хорош, но все ж таки «воспитательский».
В эти часы Александр Львович входит в класс без журнала. Он садится на стул вот этак, наискосок, и начинает как будто бы совершенно частную беседу.
Но попробуй бросить на соседнюю парту записку, или поиграть ручкой, или в рассеянности почесать переносицу… Он станет с таким любопытством и так внимательно тебя рассматривать, как будто увидел первый раз в жизни. Александр Львович замолчит, и за это на тебя обрушится страстный гнев всего класса, потому что каждому хочется, чтобы он продолжал рассказывать.
Но вот, разглядев тебя как следует (под дружное шиканье товарищей), Александр Львович смилостивится и снова начнет говорить. Наученный горьким опытом, ты стараешься сидеть тихо-тихо, не шевелясь, почти не дыша. И старания твои не остаются без награды. Тебе почему-то начинает казаться, что хоть Александр Львович и обращается ко всем ребятам, но все же чаще всего к тебе – именно к тебе, – глаза его то и дело встречаются с твоими, на твой смех он отвечает улыбкой.
Это очень приятно, это трогает тебя, льстит твоему самолюбию, ты становишься особенно внимательным и ловишь на лету каждое его слово.
Самое же удивительное, что это кажется всем в классе, и, может быть, именно поэтому Александра Львовича так здорово слушают.
Но как бы там ни было, как бы интересно ни рассказывал Александр Львович, к концу последнего учебного часа, пусть даже и «воспитательского», ноги твои сами собой начинают беспокойно двигаться под партой.
Ты уже еле сидишь на своем месте. Тебе хочется, на лету вдевая руки в рукава пальто, одним махом соскочить с крыльца, окликнуть на весь двор бегущего впереди товарища, нагнать его там, за углом, и со всей силы хлопнуть по плечу.
Не то чтобы тебе так уж нужно было окликнуть его и догнать, а просто хочется бегать, кричать, размахивать руками… Оказывается, пока ты тихо сидел на уроках, в тебе скопилось столько веселой, подвижной силы, что если не дать ей воли, она сама, чего доброго, вырвется и понесет тебя неизвестно куда, как разыгравшаяся молодая лошадка…
Нет, что и говорить, субботний вечер – это славно. Впереди – воскресенье, большой свободный день. Хорошо не загружать его заранее планами, чтоб он был еще длиннее и просторнее.
И жаль, ах, как жаль, что, поскольку тебе уже тринадцать лет, как-то неловко кататься с горки во дворе! Не гора хороша – при чем тут гора! – хороши эти долгие вечерние часы и бьющий в лицо острый ветер, который так и орет тебе в уши о том, как чудесно жить на свете.
Но что поделаешь, с горки кататься неловко…
Зато можно пойти вечером в кино и объяснить билетерше, что тебе уже полных шестнадцать лет и что ты просто этакий уродился, небольшого росточку.
Кино – это хорошо. Это даже очень хорошо, особенно в начале сеанса, когда ты понимаешь, вернее сказать – чувствуешь, что все еще впереди. Ты не слышишь дыхания зала, приглушенного смеха, говора – ты весь там, в суматохе и мельтешении чужой жизни, и лишь к середине картины начинаешь понимать, что воскресный вечер приходит к концу, а ты еще не повторил и не выучил половины того, что решил повторить и выучить в воскресенье. И сердце твое прищемит неумолимая совесть, ты тряхнешь головой, чтоб не думать о том, о чем думается, и забыться еще хоть ненадолго в жужжащем звуке и мелькании экрана.
Печально твое возвращение домой. Оно печально, – не говори, что нет. Печально и утро понедельника. Особенно серой кажется утренняя улица, особенно недовольны этим утром прохожие и особенно скучны привычные стены домов.
И вот опять начинается трудовая неделя. Медленным шагом движется в гору до половины пути – от понедельника до четверга – и стремительно катится вниз от четверга до субботы.
А потом опять воскресенье, и опять понедельник…
Но сегодня не то. Сегодня – последний день перед каникулами, сегодня вы стоите на пороге какого-то огромного воскресного дня, емкого, разнообразного, в котором умещается все: и коньки, и книга, и кино, и вечерний спектакль в ТЮЗе, и утренник в цирке, и экскурсия в Русский музей. Сегодня последний день перед каникулами, которых ты так давно ждал, почти не смея надеяться, что этот день наконец придет.
И вот он пришел, а ты вырос на целый год со времени прежних зимних каникул, и еще больше стало у тебя всяких желаний, и они обступают тебя, вытесняя друг друга, а ты не знаешь, в какую сторону кинуться, с чего начать, чего хотеть больше…
Да здравствуют каникулы! Новогодние каникулы!..
Дверь раскрылась. При полном молчании класса, как генерал, прибывший в полк для раздачи наград, вошел в шестой «Б» директор школы Иван Иванович с табелями отличников в руках. Солдаты вытянулись в струнку и замерли, глядя на генерала. Лицо у генерала было торжественное и значительное.
Сбоку, у входа, стоял командир полка, то-есть классный руководитель шестого «Б» Александр Львович. Одно колено его было слегка согнуто, плечо чуть-чуть опущено. Он улыбался. Нет, что ни говори, а военной выправки не было у этого офицера запаса.
Взгляд директора скользнул вдоль рядов.
И смешался алфавит. И первой стала буква «К», потому что с нее начиналась фамилия отличника Кардашева.
Солдат на букву «К» пошел вперед и взял из рук генерала свои боевые награды, то-бишь свой табель, цветущий пятерками.
Он уносил этот табель, прижав его к себе и не глядя по сторонам. Шагал торопливо по узкому проходу, будто сгибаясь под тяжестью наград, которых не в силах была вынести его скромность.
Второй шла буква «П» – Петровский.
Глаза Петровского Александра, принимавшие в минуты растроганности или задумчивости детское выражение, встретились с глазами Ивана Ивановича. И серые глаза Ивана Ивановича заискрились теплом и задержались на секунду дольше, чем было надобно, на приподнявшемся к нему лице.
«Табели без блеска» выдавал Александр Львович.
Когда директор закрыл за собой дверь, гул нетерпения покрыл голос классного руководителя.
– Подождем, – спокойно сказал Александр Львович и внимательно оглядел класс.
Класс утих, и пошел плясать алфавит. Впереди оказывались то последние, то средние, то начальные буквы, независимо от того, в каком месте журнала они находились. Право на первые места давали этим буквам пятерки и четверки, стоявшие в журнале рядом с фамилиями. Любители золотой середины – троечники – заняли место не посередине, а в самом хвосте, потому что двоечников в классе у Александра Львовича не водилось.
В свой черед подошел к учителю и Яковлев. На этот раз ему порядком пришлось подождать, пока Александр Львович назвал наконец его фамилию. С тех пор как Даня поступил в школу, в четверти у него, кажется, ни разу еще не было столько троек. Опустив голову, тяжело и неловко ступая, подошел он к учителю, внимательно рассматривая паркет, чтобы как-нибудь ненароком не встретиться с Александром Львовичем глазами, принял у него из рук свой табель и вернулся на место.
Все так же не поднимая глаз, он сел возле Саши и принялся рисовать что-то пальцем на блестящей глади парты.
Но вот наконец, укоризненно покачав головой, Александр Львович вручил последний табель. И тут как раз прозвенел звонок.
Классы разом опустели, а коридоры и лестницы наполнились до потолков веселым предпраздничным гулом.
Всех почему-то тянуло во второй этаж, поближе к актовому залу. Впрочем, для этого были кое-какие причины: в актовом зале стояла елка.
К дверной щели, словно притянутые магнитом, жались малыши; шестиклассники, семиклассники и восьмиклассники, проходя мимо, щелкали их по макушкам, но сами нет-нет, да и заглядывали в приоткрытую мелюзгой дверь.
И в самом деле, до чего же славно становится на душе, когда увидишь неожиданно посреди зала высокое дерево, удивленно стоящее в четырех стенах! Зеленые руки елки опущены, она еще не опомнилась, еще не поняла, что уже больше не в лесу, что ее похитили, унесли из ее огромного дома без крыши, из лесного, тенистого и молчаливого приюта. Ее колючие ветки чуть вздрагивают, и, задыхаясь в непривычном тепле, елка дышит изо всех сил, и весь зал полон запахом хвои – острым и нежным запахом ветров, земли, снега, всего, что принесла она с собой из лесу в каждой чешуйке своей коры, в каждой иголке своих ветвей…
А время идет. Еще два часа, еще час до конца занятий – и наступит праздник.
Засунув поглубже в портфель табель со всеми тройками, Даня оперся о подоконник и уставился в окно, стараясь не видеть, что делается у него за спиной в классе. А там шла веселая предпраздничная суета.
– Ребята, кто хочет в Театр имени Кирова? Кто Русский музей? Говорите, ребята! – спрашивал Петровский, обходя всех с записной книжкой в руках.
Ребята толпятся около него, толкают в спину, галдят.
– Меня запиши, Сашка! Меня смотри не забудь, Сашка!
«Можете не беспокоиться, не забудет! – с горечью думал Даня. – Запишет аккуратнейшим образом в аккуратненькую записную книжечку – и дело в шляпе, получайте билетик!»
Сам не зная почему, все свои огорчения, обиды, всю душевную неустроенность и недовольство собой Даня поставил на счет Саше. Ему казалось, что если бы Саша иначе вел себя на сборе, если бы он что-то такое сказал, объяснил, все ребята поняли бы… Что поняли бы? Ну, одним словом, все, и дело пошло бы по-другому.
Уж кто-кто, а Сашка-то наверняка знает, что он, Даня, вовсе не такой, как они тогда говорили… Мог сказать… Да где ему! Как заладил одно: «я виноват, он виноват, он виноват, я виноват – так на этом и кончил. Вот и вышло!..
Кто-то хлопнул Даню по плечу:
– Данила, на «Руслана и Людмилу» пойдешь?
Даня разом повернулся к Саше, стиснув зубы и прищурив глаза:
– Послушай, Петровский, поди-ка сюда на минутку!
Саша с готовностью захлопнул свою записную книжку:
– Валяй.
– Нет, не здесь. Здесь я не буду.
– А где?
– Могу и нигде. Если тебе не важно – пожалуйста!
– Данька, чего ты дуришь?
– Ну хорошо, хорошо… Ровно в пять на катке. Идет?
– В пять? – Саша на мгновение замялся. – Как раз в пять я занят. Мы условились с Джигучевым идти за билетами… Нет, постой, погоди! Я постараюсь освободиться.
И, сбегав в пионерскую комнату, Саша, красный, запыхавшийся от спешки, вернулся к Дане:
– Все в порядке, я предупредил Костю. Завтра пойдем. Значит, ровно в пять у входа на каток.
– В пять ноль-ноль у входа на каток, – нарочито сухо повторил Даня и стал спускаться с лестницы.
– Данька, куда ты? Минут через десять я тоже освобожусь.
– Нет, не могу. Я занят.
Но на самом деле времени у него было много, хоть отбавляй. Нести домой табель, разукрашенный тройками, не хотелось, и Даня решительно не знал, куда девать время до пяти часов, до встречи с Сашей на катке. И что его угораздило назначить эту встречу так поздно!..
Он шел, угрюмо глядя себе под ноги, и даже вздрогнул, когда кто-то окликнул его.
– Яковлев, ты сейчас свободен?
Это была Зоя Николаевна. В руках она держала большую еловую ветку, всю украшенную шишками.
– Понимаешь, – сказала она, неизвестно почему отводя в сторону глаза, – заболела корью сестренка вашего Иванова, а мать в отъезде. Так вот, надо вместе с Владимиром сходить в больницу – отнести девчушке елочку от вашего отряда. Ясно? Я тебя целый час разыскиваю. Ты это лучше всякого другого сделаешь, я уж знаю.
И, сунув Дане в руки колючую ветку, кудрявую, упругую, похожую на маленькое деревце, она быстро зашагала по коридору.
Володьки Иванова не было ни наверху, в классе, ни внизу, в раздевалке. Однако пальто его еще висело на вешалке.
«В коридоре он, что ли, застрял?» – подумал Даня и побежал вверх по лестнице, чтобы обследовать коридор.
Но ему не пришлось подниматься выше второго этажа. Здесь, на площадке, поглаживая ладонью перила лестницы, стоял Володька, а рядом с ним – Александр Львович. Они о чем-то беседовали. Даня остановился и прислушался.
– Ну? – сказал Александр Львович и, протянув вперед руку, положил ее на Володькин затылок.
Даня из деликатности слегка отвернулся в сторону и, наклонившись над лестничными перилами, стал внимательно разглядывать, что делается внизу, в раздевалке.
– Едешь? – спросил Александр Львович.
– Еду, – ответил Иванов.
По опущенной голове, по тому, как он нахмурился, было видно, что Володька смущен и обрадован тем, что Александр Львович остановил его и расспрашивает. «Вон как! – подумал Даня. – А я и не знал, что он так любит нашего Александра».
Удивленный и чем-то растроганный, Даня сбоку поглядывал на них, боясь упустить из этой сцены самую ничтожную мелочь и в то же время не решаясь открыто смотреть в их сторону.
– Ну что? – сказал Александр Львович, заметив, конечно, что Иванов покраснел. – Ну что, мальчик?
Он сказал это очень ласково и улыбнулся какой-то особенной улыбкой.
«Ишь ты! – опять подумал Даня. – Видно, и учителя рады, когда их любят…»
– Ничего, ничего, все будет хорошо, – сказал Александр Львович так уверенно, как будто был не учитель, а предсказатель погоды с метеостанции.
И снова его протянутая рука легла на Володькин затылок.
Тут щека Иванова дрогнула, лицо опустилось еще ниже, и Даня через его голову увидел встревоженное и дрогнувшее лицо учителя. Можно было подумать, что в нем, как в зеркале, отразились тревоги и огорчения Володьки.
– Что ты, Володя? Держись! – сказал Александр Львович тем особенным голосом, которым он один умел говорить, когда хотел. – Плохи, что ли, дела?
– Какие-то желёзки, – ответил Иванов горько.
Александр Львович покачал головой.
– А как отец? – спросил он помолчав.
– В Парголове он… Я, знаете, больше сам езжу, – ответил Володька. – Скучает она очень. Прихожу – она расстраивается. Я уж думал не показываться в окне, а ей еще обидней… Я стою – она ревет.
Александр Львович прикусил губу:
– Да, да…
И было видно, что он вполне понимает огорчения Владимира и считает их очень серьезными.
Даня не мог отвести глаза от лица учителя. Он понял вдруг, что человеческие лица бывают не только очень красивые, но что они бывают прекрасные, и с удивлением подумал о том, как это он до сих пор не замечал, до чего красивый Александр Львович.
– Ну что ж, беги, опоздаешь, – сказал наконец Александр Львович и, похлопав по спине Володьку, пошел вверх своей легкой походкой.
– До свиданья, Александр Львович! – сказал Иванов и, быстро перебирая рукой по перилам, побежал вниз.
– До свиданья! – крикнул Яковлев и кинулся догонять Иванова.
* * *
Даня, конечно, знал, что у Володьки есть сестренка, но забыл об этом начисто. Соня была маленькая, жила в круглосуточном детском саду, потому что Клавдия Степановна Иванова постоянно была в отъезде. Соню брали из детского сада домой только в субботу вечером. Даня ни разу в жизни не видел ее. To-есть, может быть, и видел, но никогда не замечал.
…Одевшись, мальчики вышли на улицу. Было еще совсем светло, когда они перешагнули порог школы. Володька держал в руке какую-то корзиночку. С корзиночкой в руке он быстро пересек двор. Даня тоже пересек двор. Пошли рядом. На углу Иванов остановился.
– Куда тебя несет? – спросил он.
– Понимаешь, мне некуда деваться, – ответил Даня, разводя руками. – Петровский, понимаешь, занят, а мне некуда деваться…
– Чего ты врешь? – сказал Иванов.
– Есть мне интерес врать! – ответил Яковлев.
Иванов посмотрел прямо в глаза Яковлеву, и Яковлев смутился. Он покраснел и опустил голову.
– Вот видишь! – сказал Иванов укоризненно.
– А что такого? – ответил Яковлев неопределенно.
В замешательстве они топтались на углу.
Иванову не хотелось, чтобы кто-нибудь из товарищей провожал его в больницу: во-первых, ему было не до разговоров, не до смеха, а во-вторых, не хотелось, чтобы видели, как он по-дурацки топчется под окнами коревого отделения. А Яковлев почему-то стеснялся объяснить товарищу, что ему поручили отвезти Соне елку. Поэтому оба посматривали друг на друга с раздражением, даже с какой-то скрытой неприязнью.
– Как хочешь, а я с тобой! – наконец сказал Даня угрюмо.
Володька полгал плечами, и мальчики молча двинулись вперед.
Отворачиваясь друг от друга, они разглядывали улицу.
Здесь неподалеку был, наверно, елочный базар. Через степи и леса, с восточной стороны, шел Новый год и вот уже был близок и зеленел елочными ветками на улицах города.
Прошли какие-то двое с одной елкой – мужчина и женщина. У них была большая мохнатая елка. Мужчина нес ее за ствол, женщина – за макушку. Серьезно и сосредоточенно, как дело делают, они пронесли свою широколапую, длинную елку через дорогу, через сквер на улице Софьи Перовской и пропали за углом.
Ох, и большущая!.. Да войдет ли она еще в комнату? Скорей всего, придется обрубать. Во всяком случае, верхушка у нее, наверно, согнется, упираясь в потолок…
– Хорошая елка… – сказал задумчиво Иванов. – Густая… Я не люблю, когда елка на подставе. Лучше, чтоб в кадке и чтоб в кадке была земля. Тогда кажется, будто она там и растет из земли. Правда?
Даня обрадовался.
– Да, да, конечно, – заговорил он торопливо. – Какое же сравнение! В кадке гораздо лучше! И еще я люблю, чтобы на елке были настоящие шишки. Вот как на этой ветке. Посмотри, правда здорово? – И он сунул ветку под самый нос Иванову.
Подошел трамвай. Володька рассеянно посмотрел на цифру, обведенную черным кружком, и отвернулся.
Люди торопливо взобрались на площадку, трамвай дернул, звякнул решетками сцепления и пошел. И тут случилось нечто неожиданное. Володька рванулся вперед и, ловко вскочив на последнюю площадку трамвая, решительно повернулся к Яковлеву спиной.
Даня опешил, но не более чем на полсекунды. Через секунду он уже во весь дух мчался за шестеркой, уносившей Иванова. Трамвай ускорил ход. Яковлев не давал маху и тоже ускорял ход.
Трамвай набрал уже полную скорость, когда Дане удалось вцепиться в поручни и, вскочив, утвердиться на ступеньке.
Взобравшись на площадку, он величественно достал из кармана тридцать копеек.
– А если ты хочешь знать, так ты вообще не имел никакого права, – сказал он с достоинством Иванову. – Трамвай государственный, и ты вообще не имеешь права…
Иванов сердито смотрел на Яковлева.
– А что я, тебя сталкивал? – хмуро спросил он. – Просто подумал, подумал и влез. Дожидаться тебя, что ли?
– Молчи уж! – Даня сдвинул на затылок кепку, так ему было жарко от обиды и быстрого бега. – Что я, маленький, не понимаю?.. А елка эта не для тебя, это от нашего отряда дочери товарища Иванова… Вот… И я ее передам! Точка. А на тебя мне наплевать, если хочешь по правде!
Защищая елочную ветку, задыхающийся от досады Яковлев поднял ее над головой Иванова.
От елки потянуло горьким запахом хвои. На ней заколыхались коричневые шишки. Они вздрагивали над головой Володьки и покачивались от каждого трамвайного толчка.