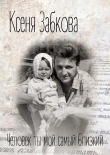Текст книги "Отрочество"
Автор книги: Сусанна Георгиевская
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 24 страниц)
Глава VI
У Петровских всегда встречали Новый год семьей, но никогда не встречали его одни.
На этот раз под самый Новый год к Сашиному отцу, Николаю Ивановичу Петровскому, приехал его школьный приятель. Его руки спокойно лежали на скатерти, а из-под широких, густых бровей поблескивали веселые глаза.
– Да, да… – говорил этот человек, которого звали Василием Иннокентьевичем. – Да, да… – говорил он, поглядывая на Галину Андреевну и красивого мальчика, сидящего по правую ее руку.
Он не знал о том, что у Николая Ивановича есть сын. Тот никогда об этом и словом не обмолвился. А между тем мальчонка не гриб, чтобы, взявшись невесть откуда, уютно пристроиться за новогодним столом, по правую руку матери. И веселые, наблюдательные глаза гостя искали глаз Николая Ивановича.
Что они хотели сказать друг другу – глаза старых товарищей? О чем хотели спросить?
Их детство было далеко позади, и на них обоих вовсе не было похоже, чтобы они особенно часто вспоминали свое детство. Они были не из тех людей, которым свойственно предаваться нежным и неопределенным воспоминаниям о чем-то далеком, незначительном и милом, ну, скажем, о том, как двадцать пять лет назад в какой-то весенний день шел дождик и оба они прятались от дождика под деревом.
Нет, не такие это были люди, чтобы помнить о дождике, который шел много лет назад. Их взгляд говорил о другом. Он говорил: «Приятно повидаться, дружище!» и «Вот так-то она идет, наша жизнь!» И вдруг Василий Иннокентьевич встал, вышел быстрым шагом в переднюю и принес оттуда какой-то продолговатый пакет.
– Новогодний подарок! – сказал Василий Иннокентьевич и положил пакет на стол перед Галиной Андреевной.
– Пшенка! – воскликнула Галина Андреевна.
– Пшенка! – как эхо, повторил Саша, и две руки – рука Галины Андреевны и рука мальчика – одновременно потянулись к пакету.
В пакете было несколько початков кукурузы. Обыкновенных початков, но такой величины, с такими крупными зернами, словно они созрели на полях в стране великанов.
Зерна были цветные – лиловые, зеленые и желтые, и казалось, что это они нарочно окрашены так для Нового года.
Освобожденные от своих льняных волокон, похожих на мягкие зеленоватые волосы, освобожденные от оболочки плотных листьев, упруго обхватывавших когда-то их продолговатые и тяжелые головы, они лежали тут, словно только для того и проделали свой долгий путь с Украины на север, чтобы лечь в Ленинграде на праздничный новогодний стол.
– Однако, двенадцатый час, – улыбаясь и поглядывая то на початки, то на задумавшуюся о чем-то Галину Андреевну, сказал Николай Иванович.
И, шумно отодвинув стул, он пошел своей деловитой, докторской походкой к стоявшей в углу елке. Достав спички, Николай Иванович стал зажигать свечи, тихонько напевая себе под нос увертюру из «Руслана и Людмилы».
– Свечка валится. Осторожно, – советовал от стола Василий Иннокентьевич.
Слух и вокальные способности Николая Ивановича служили предметом постоянных шуток в семье. И теперь Галина Андреевна и Саша переглядывались, боясь вспугнуть Николая Ивановича и прекратить его соло у елки. Но тот ничего, казалось, не замечал и все продолжал петь, энергично потирая руки и щуря глаза под стеклами пенсне.
Трудно было поверить, глядя на него вот так, со стороны, что Николай Иванович считается грозой клиники, что все боятся его острого слова и что не дальше как нынче утром он обходил хирургические палаты, сопровождаемый, точно комета – хвостом, робко шепчущимися за его спиной студентами.
Свечи, зажженные уверенной рукой одного из искуснейших хирургов города, засветились на елке. Вспыхнули искры золотого дождя, закачались от тепла на ветках цветные стеклянные шары. Задвигались по стенам живые лохматые тени колючих еловых ветвей.
В комнате стало как-то особенно празднично.
– Коля! – вдруг тихо позвал из коридора незаметно улизнувший Саша.
– Что тебе? – спросил Николай Иванович выходя.
– Видишь ли, – сказал Саша шопотом, – мне необходимо сейчас же пойти к Яковлеву. Я засиделся, а у него сегодня была температура высокая и все такое… и, в общем, я должен сейчас же идти, потому что это будет не по-товарищески. Мы, понимаешь, в последний раз… не то чтобы поссорились, но как-то так… нехорошо, понимаешь ли, вышло… Он болен, один. Я забегу к нему, а ты, пожалуйста, скажи Галюше.
– Что же сказать? Что ты удираешь со встречи Нового года?
– Но как же быть? У меня неспокойно на душе. Это же мой лучший друг. Ты же знаешь, Данька Яковлев…
– Как же, как же… Так, ты говоришь, он болен, температура высокая?
– Днем была тридцать девять.
– Ага… Ну так вот… четверть двенадцатого. Когда у человека температура под сорок, его не беспокоят по ночам. В двенадцать часов не ходят к больному, даже выяснять отношения.
– Ну, Коля, с чего ты взял, что выяснять отношения? – обиделся Саша.
– Все равно. Ночью не ходят к людям с высокой температурой. Ведь ты же вызвал меня посоветоваться со мной как с врачом, так?
– Так, – неуверенно ответил Саша.
– Ну вот, а я как врач не советую идти. Подумай, ты же всех потревожишь. Что скажут его родители? Все недоразумения выясните с утра. Утро вечера мудренее. Ну, а если хочешь – иди. Я скажу Галине. Хотя, мне кажется, она будет огорчена.
Саша вздохнул. А Николай Иванович поддел рукой опустившийся подбородок мальчика, похлопал его другой рукой по плечу, сказал:
– Веселей, веселей! Шутка сказать: Новый год идет! – и возвратился в столовую.
…По правде говоря, Саша сильно любил вечерние часы, когда они все трое собирались за столом. Любил свои особенные, мужские разговоры с Николаем Ивановичем. Они понимали друг друга с полуслова и были очень привязаны друг к другу.
Нынче вечером Саше как-то особенно не хотелось уходить из дому. Сегодня, когда он возвратился домой со своим злосчастным самоваром и (словно это был не старый медный самовар, а взрывчатка) со всякими предосторожностями запихнул его под кровать, он с удовольствием помогал Галине Андреевне украшать елку. Он стоял на табуретке, а Галина Андреевна осторожно подавала ему мохнатые звезды, стеклянные шары с вдавленными щеками и, склонив голову набок, серьезно советовала, как именно подтянуть цепь из крупных дутых бус. Многие игрушки были сплетены друг с другом фольговым дождиком. Он с трудом распутывал этот дождик, стараясь не продавить хрупкое серебряное стекло, напоминающее зеркальную амальгаму. И все вокруг говорило о Новом годе, о целой веренице будущих лет, полных неожиданных, таинственных обещаний.
Да, сегодня в доме прямо-таки жило новогоднее очарование. Из кухни пахло новогодним пирогом. В столовой тихонько звякала посуда, по-новогоднему гремело радио. Слышался смех и раскатистый голос Василия Иннокентьевича.
Саша вошел в кабинет к Николаю Ивановичу, уперся коленкой в подоконник и начал разглядывать улицу. Внизу, на елочном базаре, все еще торговали деревьями и ветками. Снег был засыпан хвойным мусором. Еще бежали куда-то люди с пакетами и были переполнены трамваи, но уже зажглась елка в окошке противоположного дома и тянулась к стеклу своими лохматыми лапами.
И вдруг взошла луна, осторожно выкатившись из-за облака. Она осветила сначала края облака и сделала их совсем прозрачными, потом, быстро пролетев сквозь облачную паутину, вырвалась в чистую, морозную синеву и залила комнату голубым, таинственным блеском.
Саша стоял и думал. В серовато-стальном отблеске оконного стекла мелькнуло на минуту лицо полковника Чаго, поджатые губы Лидиной бабушки.
Саша вздохнул, отошел от окна и присел на кровать. Выглянувшая из-за облака луна с готовностью осветила медный бок самовара, торчащего из-под кровати.
«Ах, этот Данька! – с досадой и нежностью думал Саша. – Ну что я теперь буду делать с этим самоваром? Хорошо еще, что мне подсунули самовар, а не водосточную трубу…»
Но стоило Саше вспомнить о Яковлеве, как ему стало тревожно и тяжело на сердце.
«Да, да, Коля был прав, конечно, – подумал мальчик. – Бежать ночью к Даньке было бы и глупо и смешно. Но все-таки… все-таки сам-то он встречает сегодня Новый год со своим старым школьным товарищем, а Данька будет один, больной… А почему, собственно, один? – перебил он себя. – Он, как и я, с мамой, с отцом. Да, мама…»
«Она», – вдруг вспомнил Саша и сразу увидел добрые, внимательные глаза Яковлевой. И улыбка добрая. Почему Данька с ней так не ладит? Это был, пожалуй, первый в жизни упрек, который Саша с недоумением и горечью обратил к своему беспутному другу.
* * *
Рано проснувшись в новом году и быстро напившись чаю, Саша уже было совсем отправился к Дане, как вдруг из соседней комнаты его окликнула Галина Андреевна.
Она сидела у письменного стола и, когда он вошел, посмотрела на него таинственно и доверительно.
– Видишь ли, – сказала она, – я забрала вчера от машинистки свою диссертацию. Надо бы сверить кое-что и правильно занумеровать, а ты же знаешь, какая я рассеянная…
– От машинистки? – радостно переспросил Саша, совершенно понимая всю важность того, что она сообщила.
– Да, да, – ответила она сияя. – Коля еще не знает. Мне страшно показать… Пусть полежит недельку, ты тоже не говори.
– Хорошо, – снисходительно ответил Саша.
И, усевшись за большой круглый стол в столовой, они принялись за работу.
– Ты не устал? – спрашивала время от времени Галина Андреевна.
– Да брось! – отвечал он улыбаясь. – Что я, маленький? Страницы сто двадцать шестая, сто двадцать седьмая, сто двадцать восьмая… Не отвлекайся, следи!
Потом он переносил ее неразборчивую правку своим красивым детским почерком на нетронутые экземпляры. (Работа была научная, труд двух с лишком лет. Он гордился тем, что видит эту работу первый.)
Все было бы просто отлично, если б не так щемило сердце из-за Дани. Но Саша боялся выдать себя, боялся позвонить товарищу по телефону: догадавшись, что у него на сегодня есть свои собственные расчеты и планы, Галина Андреевна сейчас же откажется от его помощи, а этого он ни за что не хотел.
Правку они закончили перед самым обедом. Едва замечая, что ест, Саша быстро проглотил последний кусок, оделся, сказал из передней: «Я к Дане, приду не особенно скоро» – и торопливо вышел на улицу. Он шагал по улице, не оборачиваясь, не глядя по сторонам.
И вдруг кто-то окликнул его:
– Сашка, э-э-эй!..
Голос звонко перелетел через улицу.
– Эй-эй!
Навстречу Саше бежал Кузнецов, размахивая кошелкой, из которой торчали два батона.
– Ты куда это? В кино?
– Нет, я к Яковлеву, – сказал Саша. – Идиотская, понимаешь, история… Заболел на самые каникулы.
– Н-да… – ответил Кузнецов. – Не мог заболеть к концу четверти! Глупо, конечно. А он где, собственно, живет?
Саша кивнул, указывая головой на парадную Яковлевых.
– Я тоже, пожалуй, забегу, – вдруг решил Кузнецов. – На обед хлеб, между прочим, есть. Это к ужину.
– Ну что ж, – неопределенно сказал Саша, ясно чувствуя, что это некстати.
Но сказать «не заходи» было неудобно, и оба двинулись к парадной Яковлевых. Кузнецов шагал быстрее. Саша степенно отставал. Они шли гуськом, перекликаясь на ходу.
Дойдя до парадной Яковлевых, мальчики стали подниматься по лестнице. Кузнецов сейчас же лихо перемахнул через перила и начал взбираться вверх по узкому краю ступенек, слегка придерживаясь за перила рукой, свободной от кошелки.
– Валька, брось! – сказал Саша.
– Ну вот еще! – ответил Кузнецов. – Я брошу, а кто же станет подбирать? Ты, что ли?
И, ловко балансируя свободной рукой, он поднимался все выше и выше.
Эхо подхватило их голоса и сейчас же понесло под самую крышу дома, как будто бы давно уже дожидалось такого случая, чтоб, притаившись где-то в углу, вдруг загудеть, заныть и с разгона удариться о стены лестничной клетки.
Кто-то вышел из квартиры на третьем этаже и замер, глядя на мальчика, шагавшего по ту сторону перил. Но Кузнецова это не смутило – он уверенно шел вверх по узеньким закраинам ступенек, пока ему это не надоело. Дойдя до третьего этажа, перекинул через перила ногу и стал подниматься на четвертый – уже попросту, как все люди.
Наконец товарищи позвонили у Даниной двери.
Даня услышал звонок и снова, но на этот раз совершенно уже безнадежно, уставился на дверь.
– Привет! – сказал Кузнецов, входя в комнату.
– Привет, – растерянно и сухо ответил Даня.
– Ну, как ты тут? – услышал он вдруг из передней знакомый насмешливо-сочувственный голос. – Скрипишь?
Из-за плеча Кузнецова выглядывал Саша. Сердце у Дани дрогнуло. Он облизнул сухие губы и ничего не ответил.
– Болеешь? – вяло поинтересовался Кузнецов.
– Нет, как видишь, пляшу! – со злостью ответил Даня.
– Н-да… – безмятежно сказал Кузнецов. – И угораздило же тебя в самом начале каникул! А завтра, между прочим, культпоход на «Русалку». Ты записывался?
– Не помню, – отрезал Даня.
Он был занят. Он старался не глядеть в сторону Саши.
Все замолчали.
– Нет, ты только подумай, – вдруг сказал Кузнецову Саша, может быть, как это часто бывает, только для того, чтобы нарушить глупое молчание: – если человек нажирается снегу, едва сбросив коньки, ну, прямо сказать, нажирается…
– Ясно, – сказал Кузнецов авторитетно, – не вмер, стало быть, Данило – болячка задавила.
Даня молча, исподлобья глядел на товарищей.
Разговор явно не ладился.
Рассказав что-то про своих скобарей, собаку и какого-то кролика тигровой породы, Кузнецов потянулся, встал и, притворившись, что сладко зевает, подхватил лежащую на стуле кошелку с батонами.
– Привет, – сказал он небрежно.
– Привет, – ответил Даня.
И Саша пошел провожать Кузнецова в переднюю. Они долго о чем-то шептались у вешалки. Дане стало под конец нестерпимо слышать этот шорох и шопот. Он вобрал в себя воздух и крикнул:
– Мама!
Она не услышала – они с отцом пилили на кухне дрова. Из кухни слышался редкий стук падающих чурбашек и равномерное поскрипывание. А между тем ему так сильно хотелось, чтобы мама была тут. Его сердце билось так отчаянно, кровь так сильно стучала в уши… Да, он один, зол, глуп и в тягость товарищам. Он не в тягость только ей.
Проводив Кузнецова и потолкавшись зачем-то в темной передней, Саша неторопливым шагом вернулся к Дане.
В это время в приоткрывшуюся дверь просунулась голова матери:
– Ты меня звал?
– Разве тебя дозовешься! Кричу, а тебе что, ты как оглохла!
Мать вздохнула, но ничего не ответила. Голова скрылась за дверью, и дверь тихонько захлопнулась.
– Я… я уже сказал тебе однажды, – вдруг заговорил Саша, повернув к Дане побледневшее лицо, – мне противно слышать, мне гадко слышать, как ты разговариваешь с матерью! Как ты смеешь!
И вдруг одеяло, которым Даня был укрыт, взлетело и голые Данины пятки уперлись в пол. Он сел на постели.
– Ты, ты… – хрипло сказал Даня.
В коридоре послышались шаги и затихли. Зачем в эту минуту не вошла в комнату мать! Может быть, тогда не случилось бы того, что случилось.
Они смотрели в глаза друг другу. Не отрываясь глядел Даня в самое дно чужих глаз, в самое дно прозрачных и удивленных глаз своего лучшего друга.
В тихой комнате было слышно напряженное дыхание мальчиков.
– Ты… ты… – опять тихо повторил Даня, как будто не находя достаточно горьких слов для упрека товарищу, – ты…
Что-то перехватило у него дыхание.
С тяжелой обидой, почти с болью припомнилось ему все, что он пережил за последние несколько дней. Да что за несколько дней – за всю его короткую жизнь.
Он вспомнил слова Кардашева, обращенные к нему, и, задохнувшись, сказал Саше:
– Я… я думал, ты мне как брат… А ты? Ты что? Нотации читаешь? А вот когда надо было помочь, ты взят и сразу отрекся… – Он не то зло засмеялся, не то просто захлебнулся словами. – Еще бы! Ты ведь даже не понимаешь, каково мне было тогда, на сборе. Тебе все равно! Да пропали я пропадом, ты и пальцем не пошевельнешь…
Саша резко дернул подбородком – должно быть, хотел сказать что-то, но Даня не дал ему и рот раскрыть.
– А я говорю, что не пошевельнешь! – крикнул он, с силой ударив кулаком подушку. – И не подумаешь даже… Да вот, к примеру: разве ты нашел для меня хоть одно какое-нибудь хорошее словечко?.. Семка нашел, это да! А ты? А ты?.. Ничего! Нет, если бы у тебя было когда-нибудь такое, как у меня, если бы тебе вот так напомнили б, если б… Да, тогда бы у тебя, небось, нашлись слова, и время, и все. А ты меня попросту бросил. Ты не друг. Ты даже не знаешь, что это такое – товарищ… Что? Обидно правду слушать? Ничего. Мне, может, еще похуже твоего было. У меня, может, все нутро перевернулось тогда. Да только какое тебе дело! У тебя-то самого, небось, полный порядок – все гладко, все чистенько, все прилизано, как твои книжки-тетрадочки! «Как ты разговариваешь, как ты смеешь»… – передразнил он Сашу. – Э-эх! Да если бы хоть один раз, один-единственный разочек что-нибудь случилось и с тобой, ну хоть какая-нибудь там неприятность, беда, самая маленькая, – авось бы ты тогда научился понимать. Скажите пожалуйста! Кузнецова с собой взял, чтобы только не слушать моего нытья. А потом выговоры делаешь: «Как ты разговариваешь?!.» Молчишь? Нечем крыть? Иди, иди… Мне не надо, не надо!.. Иди!
– Всё? – очень тихо спросил Саша.
– Всё, – ответил упавшим голосом Даня.
Саша медленно вышел в коридор.
Там он повозился у вешалки (видно, надевая калоши и пальто), потом послышались его мерные шаги по коридору, и дверь хлопнула. Шаги на парадной становились все тише и вовсе уже не стало слышно их, а сидевший на кровати Даня все прислушивался к затихающему вдалеке звуку.
Внизу хлопнула дверь.
Даня сунул голову под подушку.
– Даня… – тихо сказала вошедшая в комнату мать и услышала в ответ глухое и короткое рыдание, доносившееся из-под подушки.
Глава VII
Вот двор и вот деревянный дом. Вот отгороженное полисадником одинокое дерево во дворе. В сгущающихся сумерках оно белеет ветками, обсыпанными снегом. Вот крылечко, ступеньки.
Яковлева, близоруко щурясь, прочла на медной дощечке надпись: «Елена Серафимовна Подвысоцкая», осторожно отворила входную дверь и поднялась по навощенной желтой лестнице.
Звонок был старинный. Она тихонько дернула проволочную петлю, и в глубине квартиры раздался многократный дребезжащий звон.
Дверь открыла незнакомая старуха.
– Вам кого? – сурово спросила она.
Яковлева хотела сказать: «Я к профессорше», но запнулась и вдруг неожиданно для себя сказала:
– К учительнице.
– Ладно. Заходите, – ворчливо ответила старуха. – Елена Серафимовна, к вам!
Яковлева вошла в комнату и тяжело опустилась на стул.
– Что-нибудь случилось, вероятно? – услышала она приветливый, спокойный голос.
Елена Серафимовна стояла на пороге, опираясь на палочку, и внимательно глядела на свою неожиданную гостью.
Яковлева только махнула рукой. Она не находила слов.
Усевшись в низенькое кресло и слегка склонив голову набок, Елена Серафимовна ждала, когда она заговорит. Но гостья все не решалась начать.
– Он вам верит! – сказала она наконец, собравшись с мыслями. – Я знаю, он верит вам.
Елена Серафимовна чуть заметно улыбнулась.
– Да-да, вам он доверяет, – решительно повторила Яковлева. – А мне он не говорит ничего, и я не знаю, что делать. Он не ест, не пьет и не спит по ночам. Сегодня я слышала, что он всю ночь вертелся и вздыхал. Что с ним? Да разве он скажет!
– Простите, я не совсем понимаю, – сказала Елена Серафимовна. – Наверно, какие-нибудь неприятности в школе… Им, кажется, там не совсем довольны…
Яковлева покачала головой:
– Нет, не то. В школу бы меня вызвали. Это все, должно быть, из-за того, что он с Сашей поссорился, с приятелем своим. А отчего поссорились и что там такое, я понять не могу. Меня как раз не было в комнате, я пришла, когда уже было поздно. А теперь разве спросишь? Никак нельзя. Я бы, конечно, пошла домой к Петровскому, но разве он мне расскажет, если сын не говорит!
Елена Серафимовна покачала головой. Трудно было понять, кого именно она порицает, только лицо у нее стало недовольное, губы сурово поджались.
Но Яковлева этого не заметила.
– Конечно, они – дети, и вес это, может быть, пустяки, – раздумчиво сказала она. – Ну, а если в самом деле случилось что-нибудь плохое? Он так переменился, прямо на глазах. А я… я мать…
– Да, да… – неопределенно сказала Елена Серафимовна. Она решительно не понимала, чего от нее хотят.
– Так вот, в музее я узнала ваш адрес, – продолжала ее гостья, подняв к Елене Серафимовне влажные карие глаза. – Я знаю, он вам верит. И, может быть, вы как-нибудь… я, конечно, понимаю, что вы очень заняты, что у вас очень много таких, как он. Но он у нас теперь единственный. Ну, словом, может быть, вы не откажетесь поговорить с ним? Он дома… он болен…
– Как, даже и заболел? – спросила Елена Серафимовна.
Яковлева горестно кивнула головой. В поисках сочувствия и понимания она взглянула на Елену Серафимовну доверчивым взглядом, но лицо хозяйки выражало не столько сочувствие, сколько удивление.
И Яковлева по-своему поняла ее недоуменное молчание.
– Конечно, я человек простой, – неловко усмехнувшись, сказала она. – Может быть, поэтому-то мне и приходится вас просить, чтобы вместо меня вы поговорили с ним. Мне он не доверяет. Он, наверно, думает: раз я неученая, так мало что смыслю в его делах. Да, я не училась, конечно. Надо было учиться, как учились другие женщины. Но мне казалось: учиться – это только для себя, а дети без присмотра будут. Неправильно, конечно, рассуждала. Надо было учиться смолоду, надо было стремиться стать настоящим человеком, не только матерью. Другие женщины это понимали… Но ведь не каждой же матери быть врачом, библиотекаршей или профессором. Я просто любила своих детей и, не подумайте, тоже работала. Я всегда работала на них, даже когда один ушел на войну, а другого мы отправили в эвакуацию: я тогда дежурила в госпиталях. Отдавала кровь. Просто кровь. Но ведь я не ученая, ничего другого у меня не было. Да и в госпитале от меня, может быть, было немного толку. Я за ними могла ходить только как санитарка, а это, конечно, не то же самое, что быть доктором. Но я как могла работала на них. Я собирала на фронт шерстяные вещи – коски, фуфайки… Чтоб они там не мерзли. Тоже ведь чьи-нибудь сыновья. У кого-то сердце тоже болит… – Она помолчала. – Что я могу? – добавила она тихо. – Я могу любить. Я могу умереть, если надо. Только пусть будут счастливы дети. Они… наши сыновья!
И вдруг Яковлева заплакала. Она заплакала беззвучно, не вытирая слез. Влажные глаза блестели, и лицо ее, немолодое и усталое, вдруг изменилось, словно в темном доме зажегся свет.
Елена Серафимовна глядела на нее с изумлением – столько чистоты, столько любви, нетребовательной и даже не сознающей себя, было в лице этой женщины. «Мать…» Недаром же муж всегда называет ее этим именем, хотя, должно быть, он старше ее на много лет.
– Успокойтесь, – сказала Елена Серафимовна, положив свою руку на смуглую руку гостьи. – Вы достойны, поверьте, уважения и любви. Мальчик вас любит. Очень любят. Я знаю.
– Он вам сказал? – встрепенувшись, спросила Яковлева.
Елена Серафимовна не могла не улыбнуться в ответ.
– Нет, он мне этого не говорил. Мальчики его возраста не рассказывают и даже не знают, что любят маму. Он мне этого не сказал. Но, видите ли, разве мы говорим о том, что любим воздух, который нас окружает? И тем не менее разве возможно жить человеку без воздуха? Он вас любит, поверьте – любит, даже не задумываясь над этим. Он к вам суров, как бывает суров к себе, потому что вы – часть его. Вы – мать. Вы – то, что подарено человеку, как, например, зрение или слух. Вам кажется, что он мало вас ценит, но это неверно. Не печальтесь! Поверьте мне, не раз еще вы будете убеждаться в его привязанности. Не забывайте, голубчик, что то последнее слово, которое произносил частенько на фронте солдат, которому вы посылали варежки, было: «мама». Он вас любит. Как можно вас не любить! Как можно не чтить вас!..
Яковлева слушала, и все больше света появлялось в ее глазах. Дом светлел, и, казалось, не осталось в нем ни единого затемненного, не пронизанного светом угла.
Елена Серафимовна замолчала. Она о чем-то задумалась, уронив руку на подлокотник кресла и рассеянно глядя на белый кафель печки. Потом она вздохнула.
– Не печальтесь! – повторила она. – Что же делать! Вы говорите, что не учились, боясь отнять время у своих детей… А вот у меня нет детей. Когда-то мне казалось, знаете, что личные привязанности могут отвлечь от дела. Это… это тоже было неправильно. Нынешние ученые – мои ученики, они… у них на все хватает сил и времени. Советский человек – человек гораздо более широкий, чем были люди в прежние времена. Им принадлежит будущее. Ну что ж, были бы только счастливы… как вы это сказали?.. вы это отлично сейчас сказали: «Они – наши сыновья!..»
Словно опомнившись, Елена Серафимовна неловко усмехнулась и тихонько пожала Яковлевой руку:
– Жалко, что я не могу к вам зайти ни завтра, ни послезавтра. Я вполне понимаю вашу тревогу, но до четверга я очень занята. Вот как мы сделаем: я сейчас напишу письмо Дане, а вы передайте или опустите его в почтовый ящик, как по-вашему лучше. Может быть, так даже будет правильней.
Елена Серафимовна присела к столу. Перо быстро летало по бумаге. Яковлева терпеливо и молча ждала.