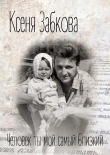Текст книги "Отрочество"
Автор книги: Сусанна Георгиевская
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц)
И вдруг распахнулась дверь. Оттуда вышла и остановилась на пороге старая женщина. Ее желтовато-седая голова повернулась в сторону Озеровского. Лоб был перехвачен черной бархатной ленточкой, седые кудри, аккуратно разделенные пробором, взметнулись по обеим сторонам ленточки, когда она повернула голову. От ее лица, обрамленного свежим и светлым воротничком мешковато сидящего темного платья, от ее плотной и даже немного грузной фигуры веяло опрятностью и какой-то скромной, спокойной деловитостью. Маленькая розовая рука опиралась на палку с резиновым наконечником.
– Что здесь, собственно, происходит? – с интересом спросила она и посмотрела вокруг своими голубыми, поблекшими от возраста глазами, вправленными, как солнце в лучи, в целую сеть тончайших морщинок.
Озеровский вскочил со стула. Почтительно стояли рядом китаец и Борис Николаевич. Притихли мальчики.
– Небольшой турнир, Елена Серафимовна, – ответил Озеровский, – турнир в защиту двух направлений: теоретического и практического. Борцы – товарищ Микеладзе и товарищ…
– Яковлев, – глядя исподлобья на Озеровского, сказал Даня.
– Но разве вы не знаете, Озеровский, что теория и практика неразделимы? Турнир, по-моему, неуместен, – чуть улыбнувшись, сказала женщина. – И, кроме того, нельзя ли немного потише? В этой квартире, дорогие гости, есть один человек, которому время от времени все же нужно работать.
– Простите, Елена Серафимовна! – с отчаянием в голосе сказал Озеровский. – Это я больше всех виноват. Как всегда, я… Ну, хотите, оттаскайте меня за уши или выдерите у меня чуб.
– Некогда, голубчик, – сказала женщина, которую он назвал Еленой Серафимовной, и, улыбаясь, погрозила ему пальцем. – Ужо на досуге, в ноябрьские дни или Первого мая. А пока, чтоб искупить свою вину, затопите-ка печку – что-то холодно стало.
– Сию минуту, мигом! Микеладзе, Фролов – топор!
Мальчики, стоявшие в дверях, кинулись куда-то вглубь квартиры.
– Ну вот и прекрасно! Когда растопится – скажите мне. Озеровский, приду греться.
Старая женщина шагнула к порогу своей комнаты и уже хотела было прикрыть за собой дверь, как вдруг, неожиданно для самого себя, ее остановил Даня.
Она была здесь хозяйкой. Ее уважали, быть может боялись. Перед ней стоял навытяжку даже этот сильный, большой Озеровский…
С решимостью отчаяния Даня взглянул ей в глаза и сказал бессвязно:
– Пожалуйста, не можете ли вы нам дать для нашей школы, девятьсот одиннадцатой, немного цветного металла? Нам очень нужно. Мы собираем… для пятилетки… Обходим район. И вот я попал… А они: «камни, камни»… А я пришел за ломом… Если не затруднит – пожалуйста!
Она смотрела на него, будто не слыша. Смотрела удивленно и внимательно, словно забыв о том, что ему, может быть, неловко от ее пристального взгляда. А ему и в самом деле стало неловко почти до слез. Он хотел повернуться и выйти в переднюю, как вдруг в глазах Елены Серафимовны задрожал какой-то свет, она слегка кивнула головой, улыбнулась:
– Заходите, мальчик. Сюда, сюда, ко мне…
Он смутился еще больше, беспомощно оглянулся по сторонам (как-никак, хоть этот самый Микеладзе чуть было не вздул его, но они были все ж таки ребята, школьники, свой народ, рядом с ними было как-то спокойнее).
Но никто не ответил на Данин взгляд. Все были заняты печкой. На корточках перед топкой уже сидел Озеровский и колол лучину своей единственной рукой. Волшебно, ловко, пленительно быстро двигалась эта единственная рука. Чиркнул спичку, зажав коробок подбородком, и в печке вспыхнул огонь.
Пробежавшее по лицу Озеровского веселое пламя осветило на его груди орден солдатской Славы, – раньше Даня его не заметил.
Забыв о себе и все еще в восторге оглядываясь, Даня перешагнул порог комнаты Елены Серафимовны.
Так вот она – берлога!
В маленькой комнате на полу лежала огромная медвежья шкура, на стенах висели рога оленей и рисунки, изображавшие животных – все больше лосей, иногда лошадей, но каких-то большеголовых, неуклюжих, не похожих на теперешних. Дверь в комнате была обита толстым картоном, наверно для того, чтобы из других комнат сюда не долетал шум. У окна стоял письменный стол, на нем были разбросаны листки, исписанные мельчайшим, изящным бисерным почерком. Весь подоконник занимал аквариум с опрокинутой над ним яркой, как маленькое солнце, электрической лампой. От аквариума ложился на стол зеленый колеблющийся свет. Он освещал какие-то камни. Казалось, что камни лежат на берегу реки или моря, по ним проходили дрожащие то золотые, то темные полосы, и от этого представлялось, что они как будто дышат или даже шевелятся.
Даня шагнул к аквариуму. Ему хотелось поближе взглянуть на пестрых рыб с прозрачными, словно кружевными плавниками, но он не успел рассмотреть их. Камни, лежавшие рядом, перехватили все его внимание. В них было что-то замечательное. Продолговатые, грубо обточенные, они будто намекали своими очертаниями на руку человека, когда-то сжимавшего их. Даня взял один из камней, повертел его и всей ладонью почувствовал, что камень и в самом деле обточен по руке.
– Кремневое оружие, – небрежно сказала Елена Серафимовна. – Ему двести тысяч лет от роду.
Робко, не смея вздохнуть, Даня положил камень обратно на стол.
– Так. Чем могу быть вам полезной, мальчик?
– Да вот лом… Только я, наверно, не во-время пришел: вы заняты. – Он указал на раскиданные по столу листки.
– Да. Пишу одну небольшую работу.
– Работу?.. Про что?
– Как бы вам это сказать… В общих словах – о роли труда в развитии человека… Камни, которые вы трогали только что, нашли мои ученики – археологи – во время экспедиции под Курском. Моим ученикам удалось собрать интереснейшие материалы…
– Ученикам? Вот этим? – И он указал подбородком на дверь.
– Нет, – улыбнувшись, ответила она. – Среди моих сегодняшних гостей только один археолог.
– Кто?
Она засмеялась:
– Ким. Кореец. Вы, наверно, заметили его?
Даня кивнул.
– Но когда-то, когда им было лет по тринадцати-четырнадцати, ну столько примерно, сколько вам сейчас, Озеровский и Лаптев тоже были моими учениками. Они начинали с археологии…
– А чем же кончили?
– Ну, они еще далеко не кончили, они молоды. Но каждый нашел себе дело по душе. Озеровский – индонезист. Понимаете, он изучает Индонезию. А Лаптев – палеонтолог.
Даня кивнул головой. Это слово навеки теперь врежется ему в память. (Надо будет все-таки завтра спросить Александра Львовича, что оно значит.)
– Если вам все это интересно, приходите как-нибудь ко мне в музей Петра Первого. В отдел археологии. Я вам обо всем расскажу.
– А можно? – тихо спросил он.
Она засмеялась:
– Конечно, можно. К нам приходит очень много ребят.
– Спасибо, – сказал он почти беззвучно и стал пятиться к двери.
– Постойте, но ведь вам же нужен был металл?
– Да уж ладно, все равно!
Она взяла его за локоть, постучала о стену пальцем негромко позвала:
– Машенька!
«Внучку зовет, – подумал Даня, и ревнивое любопытство заставило его обернуться к двери. – Вот счастливая – живет с такой бабушкой!»
В дверях показалась Машенька. Но это была вовсе не девочка, а старушка в большом белом фартуке и мягких шлепанцах.
– А нет ли у нас цветного металла, Машенька? – неопределенно и как бы даже робко сказала Елена Серафимовна.
– Чего? – Старушка в фартуке поджала губы и бросила быстрый взгляд на Даню. – Какого это цветного?
– Ну, Машенька… ну, какие-нибудь кастрюли медные, старый утюг электрический…
– Нету! – отрезала Машенька. – В блокаду отдали все как есть. Но, может быть, скажете – новый утюг отдать? Что ж, отдам. Дело ваше.
Елена Серафимовна вздохнула и робко посмотрела на Даню. И Даня понял, что просить у Машеньки цветной металл так же легко, как у его мамы.
Старуха молча вышла из комнаты, властно шлепая туфлями без задников.
– До свиданья! – сказал Даня.
– Нет, подождите, подождите…
Елена Серафимовна подошла к какому-то столику, сняла оттуда два подсвечника и протянула ему. Они были бронзовые, ярко начищенные, и Дане показалось, что подсвечники золотые.
– Нет, нет! – сказал он, отталкивая их от себя рукой.
Она слегка улыбнулась:
– Берите, берите. Ничего особенного в них нет. Это простые старые подсвечники.
Даня с сомнением покачал головой, но у него не хватило мужества отказаться.
– До свиданья. Спасибо.
Когда он, одевшись, спускался с лестницы, ему казалось, что ступеньки тонко и ласково поют у него под ногами.
Он шел через двор с мешком за плечами, а луна освещала яркой голубизной каменные плиты двора. Только окошко Елены Серафимовны светило зеленоватым светом. Он даже видел ее голову, склоненную над столом.
Даня вздохнул и вышел на улицу.
Когда он добрел до дверей знакомого дворника, было уже без четверти десять, а не девять ноль-ноль. Но Саша, который так любил точность, нисколько не рассердился на этот раз. У него тоже был счастливый день.
Расставшись с Даней, он пошел в студенческое общежитие. Студенты оказались ребята сознательные, но ни у кого из них не было старых кастрюль. Они отдали ему прохудившиеся цинковые ванночки, отслужившие службу в химической лаборатории – эти ванночки давно лежали на черной лестнице, – сами помогли донести их до порога школы и, кроме того, обещали снабжать его книгами из студенческой институтской библиотеки.
Саша был растроган, взволнован, и если бы Даня опоздал даже не на сорок минут, а на полтора часа, у него не хватило бы духу попрекнуть товарища. Тем более, что мешок, который Даня притащил, был весом в добрых двадцать килограммов.
Завидев Даню в воротах, Саша бросился ему навстречу и перехватил тяжелый мешок.
Даня с благодарностью отдал мешок, но ничего не стал рассказывать о том, что с ним случилось в этот вечер.
Почему?
Он и сам не знал почему.
Глава VIII
Клин клином вышибают. Даня знал это по собственному опыту.
Если он был недоволен собой, если что-нибудь у него не ладилось или огорчало его, надо было поскорей заняться чем-нибудь другим.
Когда приходило «другое» со своими новыми радостями и огорчениями, оно почти сразу вытесняло то, что тревожило прежде.
И только теперь никакие события последних дней, никакие голубоглазые девочки, которые пили чай, никакие ученые с их замечательными камнями – одним словом, ничто-ничто не могло почему-то вырвать из его сердца воспоминания о «позоре» с прыжком.
Первый раз в жизни Даня встал перед трудной задачей: справиться во что бы то ни стало со своей «мягкотелостью», как он называл этот неожиданный приступ нерешительности.
Для того чтобы перестать быть трусом, надо было прежде всего научиться прыгать, как Саша и Кузнецов, легко, просто, без оглядки и заминки. И Даня занялся развитием храбрости.
Он прыгал, когда спускался с лестницы, прыгал через тумбочки в сквере Софьи Перовской, через лужи, через канавы, в длину и высоту. Но все это было совсем не то, что прыгать в физкультурном зале через рейку.
Он пробовал заменить рейку гладильной доской, которую положил на две табуретки. Но после первых же прыжков прибежали снизу жаловаться, что у них там обваливается штукатурка, и мать отобрала гладильную доску.
Тогда он стал тренироваться во дворе: прыгал через веревочку, которую натягивал между двумя водосточными трубами. Прыгать было очень хорошо, можно было поднимать веревку все выше и выше. Но тут беда была другая – во дворе слишком много праздных зрителей. Первым выходил поглазеть на то, как он скачет, живший в нижнем этаже дома дошкольник Тимка. Второй выходила Света, ученица третьего класса 123-й женской школы, – стояла и задумчиво смотрела на него из-под полей своего отвратительного белого капора.
Проскальзывая под веревкой, студент Гриша Сердюк непременно произносил на ходу:
– Прыгаешь? Ага. Ясно.
А что ясно, было совершенно неясно ни ему, ни Дане.
Даня упражнялся, разумеется, тайно от товарищей, тайно от всех. Как хотите, а нелегко сказать кому-нибудь, что ты решил развивать храбрость, которой у тебя маловато.
«А как же ты ее развиваешь?» – спросит всякий.
«А вот скачу через веревочку!..»
Нет… Невозможно… Глупо! Позор!..
И тем не менее он скакал. Скакал, а ему мешали.
И вот однажды, встав в шесть часов утра, он тихонько оделся и, стараясь не хлопнуть дверью, осторожно вышел из дому.
Вот она, школа. Вот ее широкий порог. Вот, справа, колышки мичуринского участка. Он прошелся два раза перед подъездом, поднялся по ступенькам и робко постучал в школьную дверь.
За спиной у Дани слышался ленивый звук грохочущего в предутренней тишине трамвая, трещали провода, шуршали подметавшие улицу метелки.
– Отворите! – заорал он, приложив губы к замочной скважине, неожиданно для себя переходя вдруг от робости к отчаянной решимости.
За стеклами зажглась лампочка.
– Да отворите же, это я, я, Яковлев! Из шестого «Б»! – закричал Даня в замочную скважину.
– Ошалел! – раздался за дверью голос сторожихи тети Груши, которую вот уже двадцать лет подряд все ребята называли тетей Сливой. – Ошалел, – сказала она, – ночь на день переменял! Видишь – замкнуто. Так нет, сквозь стены норовят залететь. Того и гляди, все стекла повыбивают. Иди, иди, рано!
– Тетя Слива! – сказал Даня, изо всех сил вцепившись в приоткрывшуюся, но не поддававшуюся его напору дверь. – Пустите, я вас убедительно прошу… Ну подождите, дайте сказать… Я вчера забыл в физкультурке варежки. Мама меня всю ночь за ними гнала. Я только не хотел вас беспокоить… Дайте, пожалуйста, на минутку пройти и взять варежки.
Они стояли в пролете дверей, тесня друг друга: он толкал ее в раздевалку, а она, отстраняя его локтями, пыталась загородить проход.
– Неугомонный! – вдруг сдаваясь, сказала она и опустила руки. – Матеря всю ночь маются… Ключ! Ключ держи, ошалелый! Швейцаров нет за тобой по лестницам бегать!
Она подала ему маленький черный ключик, отцепив его от большой связки ключей, державшихся на медном кольце. Отдала и, зевая, ушла куда-то в темноту, а он помчался наверх, зажав в кулаке с трудом добытый ключ и держась другой рукой за скользкие перила.
Третий этаж. Четвертый. Пятый. Темнота.
Даня обшарил стены лестничной площадки. Вот дверь. Он ощупью нашел замочную скважину и воткнул в нее ключ, согревшийся в его сжатом кулаке. Открывая дверь, он навалился на нее всей своей тяжестью. Но дверь и без того легко отворилась, и он с разгона едва не упал, перевалившись через порог.
Чуть брезжущее, еще не разгоревшееся утро осторожно входило в комнату сквозь стеклянную стену. Все спало. Казалось, он нарушил ночную жизнь физкультурного зала, тихо спящего сном, неведомым людям, тем сном, когда предметы и стены, едва дождавшись, чтобы люди покинули их, тоже дремлют, кряхтя и вздыхая, как будто вспоминают о чем-то своем. Было даже как-то жалко потревожить их покой, и мальчик невольно пошел на цыпочках. Шагнул и остановился, прислушиваясь.
Внизу, в глубине лестничного пролета, было тихо. Оттуда не доносилось ни звука, ни шороха. Должно быть, тетя Слива опять прикорнула где-нибудь в полутьме раздевалки. Даже свет внизу не мерцал. Видно, погасила лампочку.
Постояв минуту в нерешительности, Даня собрался с духом, проволок по натертому полу тяжелые, соединенные между собой стойки, укрепил поперечную рейку, подложил маты. После этого он разыскал в углу мосток и пододвинул к барьеру.
Свет за окнами теплился, чуть разгораясь тусклым накалом.
Может быть, кто-нибудь из ребят проснулся уже в этот час, посмотрел в полутемное окошко, сказал: «Мама, разве уже надо вставать? Ведь еще ночь…» – и спустил ноги с кровати зевая. А другие, может быть, еще крепко спят, повернувшись к стенке лицом. Спят сладко, как засыпают под утро, когда надо вставать.
Даня, позевывая, поглядел в окно на подернутые инеем крыши, потом снял башмаки, чтобы не стучать каблуками, медленно отошел в дальний угол и остановился там, вобрав в себя воздух.
– Раз, два, три! – сказал он себе негромко и побежал к цели.
Вот рейка уже перед Даней. Но вместо того чтобы оттолкнуться и прыгнуть, он остановился, словно задумавшись.
– Значит, я все-таки трус! – беспощадно сказал он себе.
«Трус! Нет! Не хочу!..»
Он измерил прищуренными глазами расстояние до рейки, помялся и вдруг с отчаянием подумал: «Если я сейчас же не прыгну, то мама заболеет!»
Этого не надо было задумывать. Есть вещи, которыми не шутят. По раз уж задумал… Он разбежался, почти закрыв глаза, оттолкнулся и полетел… Полетел с сжимающимся сердцем, словно прыгнул сверху в глубокий колодец.
Сердце разрывалось, трепетало, билось, стучалось в уши. Оно билось частыми ликующими ударами. Ударами освобождения, ударами преодоленного страха.
Правда, он не согнул ноги во время полета, как учил Евгений Афанасьевич, и увлек за собой проложенную между столбов рейку, но он все-таки прыгнул! Однако он не позволил себе обрадоваться.
Нет! Прыгать надо как следует – как Иванов, как Саша. Он поставит себе условие, этакую особенную задачу… И он сказал себе:
«Если я сейчас же не прыгну, поджав ноги в воздухе, а потом не спущу их сразу, легко и не присяду, тоже совсем легко, как прыгающая кошка, – я сниму с себя галстук. Никому не скажу, но не буду сметь его носить!»
Он отдышался, отошел в дальний конец зала и остановился там, но не для того, чтобы отдалить прыжок, а для того, чтобы собрать все свои силы и дать успокоиться сердцу.
И вот он побежал, учащая шаги, не отводя глаз от надвигающейся рейки. Оттолкнулся и полетел – полетел, зажмурившись, согнув ноги, последним усилием преодолев ему самому непонятный, не душевный, а телесный страх.
Он пролетел далеко за рейку, не дав себе права отпустить поджатые ноги. Так прыгает парашютист, глядя сверху на приближающуюся землю, но запретив себе раньше времени дергать кольцо парашюта.
Он упал на мат с поджатыми ногами и остался лежать, с трудом переводя дух. Ему показалось, что все вокруг него дрогнуло, екнуло, отзываясь на его падение. Качнулась дверь, что-то звякнуло в окне и словно мелкой дробью рассыпалось по полу.
В голове гудело. Он открыл рот, глотая воздух, да так и застыл с широко раскрытым ртом. Из окошка вывалилось от сотрясения продолговатое стеклышко. Вывалилось и разлетелось на полу в хрустальную пыль. Морозный воздух, клубясь, рвался в пробоину.
«Как же так?.. Ведь я до него и не дотронулся. Я даже не подходил к нему, – думал Даня. – Иван Иванович сам вставлял эти стекла с ребятами и всякий раз, как входит сюда, непременно потрогает и проверит замазку. Вот уж нагорит! Вот нагорит! Что же теперь делать? Что я скажу?.. Ну да ладно! Это потом… А теперь надо встать и начать сначала. Надо, чтобы во всем теле была легкость, чтобы ты весь был как запущенная бумажная стрела – без тяжести, без страха…»
Он попробовал тихонько запеть, притворившись, будто бы ничего не случилось. Но голос сейчас же оборвался, осекшись от учащенного дыхания.
Тогда он встал, отошел в конец зала, не оглядываясь на выбитое окошко, и пошел на рейку, в злобном азарте заставляя руки, ноги и все свое тело почувствовать несвойственную им легкость.
Он оттолкнулся от трамплина, перемахнул через препятствие и упал ничком на мат. Потом поднялся и, не дав себе времени опомниться, ненавидя себя за неловкость, отбежал снова, снова бросился вперед и опять упал, ударившись оземь жесткими, непослушными ногами.
«Нет, этого не будет! – говорил он себе. – Я не хочу, чтобы это было так».
Он разбежался, совсем расслабив мускулы, до того усталый, что уже не в силах был думать ни о чем, кроме краткого отдыха на матраце после конца прыжка. Разбежался и полетел, полетел, зачем-то широко расставив руки, распластав их, точно крылья планера.
И в первый раз он ощутил легкость полета, короткую, жгучую, щемящую сердце радость.
Пролетел над рейкой и легко опустился на землю.
«Я не боялся! – говорил он себе, прижавшись щекою к тюфяку. – Мне совсем не было страшно. Я и раньше не боялся, я только не знал, не верил, что могу. Надо еще раз попробовать так».
Он взглянул снизу на рейку, проложенную между стоек, на разбитое стекло и сразу утратил веру в себя. Счастливый прыжок был просто случайной удачей. Он понял, что надо встать и все начать сначала.
Между тем за окнами посветлело. Разгоралось утро. В нежном тумане лежали внизу дома, так мягко очерченные, такие легкие, что казалось: дунь – и они улетят.
«Как я устал! Как я сильно устал!..» – подумал Даня и опять разбежался.
И вдруг он услыхал за стеной окрик, почти вопль:
– Гляди-ка, что вздумал! Видно, варежки ищет разувшись… В шесть часов… все стекла повыбивал… Варежки, говорит, обронил. Сама ключик в руку ему подала. Вот он – этак, а я – тут и ключик в руку ему подала… После, слышу, будто бьется что-то под крышей. Думаю, лед скоблят… А он – глянь! Нет, глянь!
Они стояли в дверях: сторожиха и две уборщицы со щетками. Даня отвернулся, чтобы спрятать от них свое красное, измученное лицо.
– Нет, глянь! – кричала старуха, тыча в его сторону связкой ключей. – Глянь! Он так стоял, а я – тут… И сама ему ключик: на, мол, сынок! За сережками, говорит, пришел…
– Да и не было у него никаких варежек! – сурово сказала уборщица Денисова. – Озорство одно!
Дане вдруг стало обидно до слез.
– Нет, были! Нет, были! – закричал он сдавленным голосом. – Только я их, наверно, в другом месте забыл… И не съел я вашу физкультурку! И стекло я не выбивал…
Голос у него оборвался.
Денисова вдруг посмотрела на него внимательным, настороженным взглядом – у нее было пятеро ребят.
– Да полно ты! – сказала она потише. – Ишь, расходился!.. Ну, не выбивал, так и не выбивал. А только не само же оно разбилось?
– Само! – крикнул Даня, кое-как сунул ноги в башмаки и, не завязав шнурков, опустив голову, выбежал из физкультурного зала.