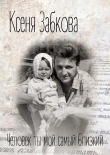Текст книги "Отрочество"
Автор книги: Сусанна Георгиевская
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 24 страниц)
Глава XIII
– Нет, нет, я просто уверен, что каждому учителю необходим какой-нибудь опыт. Не только педагогический… необязательно педагогический. Ну вот, допустим: чтобы преподавать географию, особого житейского опыта как будто не надо… то-есть тоже надо, конечно, но не в такой мере, как, скажем, для преподавания литературы, не так ли? И все-таки одним только знанием предмета, как хотите, вы не откупитесь… Видеть, видеть надо, понимаете, участвовать в составлении карт, ну и там – болотные сапоги, восходы, закаты и все такое… А главное – глаза. Свои глаза. Понятно? Чувство страны! Нет, нет, позвольте, чем же вы его замените?.. А уж о воспитателе – не об учителе, а о воспитателе, Зоя Николаевна, и говорить нечего: без опыта какой же это воспитатель! Нет, и не спорьте со мной, Зоя Николаевна. Все ваши отговорки – это пустяки. Ну хорошо, ну пусть экспедиция не географическая, но ведь руководит же Васильев… Поймите: Васильев! И опять-таки, этнография – люди и быт, страна и все такое… Для географа это более чем полезно. И… и как раз во время летних каникул, к концу июня… Оформляйтесь! Сегодня же… ну ладно, не сегодня, так завтра с утра оформляйтесь, а то людей понаберут. Оформляйтесь хотя бы коллектором, дело не в этом… Ну что? Ну как же, Зоя Николаевна?.. Ну умоляю… Я о вас столько наговорил! Я сказал, что мы без вас просто пропадем. Ну, голубушка, не ставьте меня в дурацкое положение…
Она молчала.
Озеровский с упреком посмотрел на нее:
– Зоя Николаевна, родная, да ведь они же сами будут вас после этого больше уважать. Ну, один раз обойдутся же без вас в лагере… ну нет же людей незаменимых! Зато вожатая-путешественник… Звучит, а? Одним словом, вы едете, голубушка. Едете – и все тут!.. Нет, не едете?.. Ну, так я на колени встану. Предупреждаю: сейчас же становлюсь на колени посередине улицы… Раз, два… Ну? Я становлюсь на колени!
И он притворился, что действительно хочет стать на колени.
Зоя прибавила шагу. Шаг у нее был решительный, крупный, а плечи и спина как у подростка. Узкие плечи, тонкая детская шея и светлые волосы, выбивающиеся из-под шапки на воротник… Почему же он так робел перед ней? Да, он боялся и робел. Нечего греха таить, давно пора было признаться себе в этом.
С тех пор как он ее увидел в школе, в тот, первый раз, и встретил впервые ее прямой и строгий взгляд, все изменилось в его жизни.
Через два дня после Сашиного доклада, придя в школу к Зое Николаевне, Озеровский предложил ей сделать доклад об Индонезии для пятых классов.
Доклад прошел хорошо.
Через неделю, придя в школу к Зое Николаевне, Озеровский предложил ей сделать доклад для классов третьих и четвертых.
Доклад прошел неплохо. Малыши слушали внимательно. Саша Петровский с глубокой серьезностью, полный сознания ответственности возложенного на него дела, иллюстрировал доклад диапозитивами.
Через несколько дней Озеровский предложил Зое Николаевне сделать доклад для педагогов.
Связь школы и науки росла.
Ребята выразили докладчику в стенгазете горячую благодарность. Озеровский был тронут. Он решил организовать школьную выставку, дополнив ту, что сделал шестой «Б».
Однажды, когда Зоя Николаевна и Озеровский подробно разрабатывали экспозицию этой выставки, в пионерскую комнату ворвался председатель совета дружины. Увидев их сидящими за столом друг против друга и низко склонившимися над общей тетрадкой, в которой Зоя Николаевна делала какие-то записи, председатель совета дружины неизвестно почему сказал: «Прошу извинения!» – и быстро захлопнул дверь.
Зоя Николаевна пришла в ярость. Связь школы с наукой была на волосок от гибели.
С этого дня старшая вожатая совершенно потеряла интерес к науке. Охладела она и к школьной выставке.
Но Озеровский относился к выставке попрежнему с большим энтузиазмом. Он часто заходил в школу, забегал в пионерскую комнату и с чрезвычайно деловым и серьезным лицом спрашивал: «Ну как?»
Иногда, сбросив пальто, он присаживался возле столика Зои Николаевны, чтобы проинструктировать кого-нибудь из отрядных вожатых.
В таких случаях Зоя Николаевна, вероятно чтобы не мешать ему, вставала и выходила из комнаты.
Если у Озеровского было мало времени, он не заходил в школу, а только заглядывал во двор, чтобы по пути дать ребятам тот или иной совет.
Ребята, выразившие в стенгазете благодарность докладчику, с удивлением наблюдали за тем, как молодой ученый время от времени бродил вокруг одинокого дерева во дворе, словно ученый кот на цепи вокруг волшебного Дуба.
Он простаивал часами на морозе у порога школы, дожидаясь ее.
И она выходила в конце концов (не ночевать же там, в самом деле!). Она выходила и глядела на него возмущенно, сурово и строго.
– Видите ли, Зоя Николаевна…
Нет, она ничего не видела. Она была слепа.
Он купил себе великолепную бобровую шапку и носил ее набекрень.
– Марья Павловна (так звали соседку Озеровского), Марья Павловна, прошу вас, подтвердите, что я красив…
Он отходил к стене в бобровой шапке, в драповом новеньком пальто (в самом деле отлично подчеркивавшем ширину его плеч) и молча, стоя у стенки и глубоко спрятав руку в карман, требовал ответа.
– Ваня, ты писаный красавец! – говорила старуха. – Не знаю, что еще и кому надо… Молодец хоть куда!
И в самом деле, он был хоть куда! Большой, сильный, ладный. Его лицо поражало выражением душевного здоровья и внутренней силы, а улыбка, веселая, доверчивая, выдавала в нем человека души нежной и даже застенчивой.
И все-таки она не хотела его знать… Вот и теперь она идет вперед, не оборачиваясь, прямо сказать – убегает от него.
Неизвестно почему, он словно привороженный глядел на следы ее ног, четко отпечатанные на припорошенном снежном тротуаре… Вот уйдет сейчас, и ничего не останется, кроме этих следов на снегу…
Да где же его характер, его гордость, в конце-то концов? Девчонка!.. Прищурившись, он посмотрел ей в спину. Вот возьмет сейчас и уйдет!
И он ушел, то-есть круто повернулся и сделал два шага в обратную сторону. Но сейчас же остановился, обернулся и со всех ног кинулся догонять уходящую Зою. Догнал и встревоженно заглянул в ее худое лицо. Из-под темных бровей смотрели на него растерянные глаза, до того синие, что сердце у него зашлось.
– Зоя, Зоя, голубушка…
Она рванулась, и вниз, через ограду, на замерзшую Неву, полетела ее вязаная шапка.
– Зоя!..
И стало тихо.
Потом она сказала:
– Шапка! Я уронила шапку на лед.
– Зоя, голубушка!..
– Шапка!..
– Да ну ее, вашу шапку!
И вдруг она заплакала.
Он смотрел на нее с ужасом и болью, совсем потерявшись. Потом он стал вытирать ее щеки – нет-нет, не носовым платком, про платок он просто позабыл, – он вытирал их ладонью.
– Ведь вы же… (Рыдание.) Вы ничего не знаете, – говорила Зоя. – Разве вы знаете, что я переживаю?.. Они, они… они все время подглядывали. В раздевалке перед концом занятий толпятся, спорят – тут вы уже или нет, любуются в щелку, как вы стоите во дворе. Вы во двор, а они кубарем с лестницы… (Рыдание.) И я ничего, понимаете, не могла… И они стали решительно повсюду – и на каток, и на каток…
– Нет, – сказал Озеровский, – вам кажется…
– Ах, вот как – кажется? – перебила она. – А тетя Настя, соседка наша по квартире? «Ну что же, Зоенька, видать путевый, ученый человек… И непьющий!» А тетя Слива, уборщица школьная? «Зоя, твой пришел. Иди уж, иди! Замерзнет!» Как будто это я вас просила приходить и мерзнуть у всех на глазах… Нет, скажите сами, разве я хоть раз, хоть один раз просила вас прийти?.. Но не могла же я ночевать в школе, на самом-то деле!
– Так как же, не приходить?.. Ну как? – спросил Озеровский.
Ее поразила серьезная страстность его голоса.
– Нет… но разве… разве вы знаете, что я переживаю? – снова повторила она. – Так ведь они смеются, и Андрюшка сказал…
Молчание.
На этот раз стало тихо надолго.
А между тем поднялся ветер. От нечего делать ветер подхватил ее шапку, лежавшую на невском льду, перевернул ее с боку на бок и тихонько поволок за собой. Шапка сперва осторожно подпрыгнула раза два, потом ловко прокатилась колесом и наконец, отяжелев от снега, примостилась у края тропинки, как будто бы успокоившись и устав. Над нею бежал влажный невский ветер, под нею пересекались свежие лыжные следы.
Сколько их?.. Четыре следа – стало быть, по льду пробежали два лыжника.
* * *
Так и есть! Вот они бегут, прокладывая по снегу новую лыжню. Один из них все время старается забежать вперед и заглянуть другому в лицо.
– …Повтори сначала! – сказал один лыжник другому. – Нет, все по порядку, сначала…
– Отстань, я уже повторял.
– Ну, а я тебя прошу еще раз повторить.
– Хорошо. С какого же места?
– Ну, приблизительно с того, когда тебе открыли дверь. Или нет, лучше с того, где хорошего человека не жалко поддержать… Так и сказала – вот именно «хорошего»?.. Вот именно так и сказала? Смотри в глаза!
– Сказала.
– Ты врешь. Ты все врешь.
– Да полно… Ну вот, если бы я был ты, так сказал бы: «Пусть я сейчас на этом месте провалюсь, если вру!»
Раздался хруст. Едва приметно затрещал лед… Да нет, это попросту хрустнула под лыжей какая-то щепочка.
– Значит, ты утверждаешь, что, в общем, не было особенного позора?
– Наоборот… Я же тебе говорю, что все они к тебе исключительно относятся. Отец так прямо и сказал: «славный парнишка».
– Ну, а вот это ты уже соврал! Он не мог так сказать… Нет, вникни: какие же бывают люди на свете!.. Подожди минуточку. Значит, так и сказал: «славный парнишка», взял и сразу подал самовар?
– Вот именно.
– А как?.. Ну что тебе стоит?
– Ладно, – терпеливо ответил Саша Петровский. – Я, значит, стоял на лестнице, а он – напротив, как ты сейчас. Берет самовар, подает мне и говорит: «Хорошее дело, напрасно ты стесняешься». Вот приблизительно так…
– Ну, а теперь про то, как «хорошего человека не жалко поддержать». Только уж про это ты наверняка поднаврал.
– Можешь не верить. Но интересно, как ты, в таком случае, объясняешь себе приход девочек?.. Они не приходили? Я их выдумал, что ли?
– Положим, верно, – задумчиво согласился Даня. – Девочки были. Да мало того, что были – и до сих пор ходят. Все ходят и ходят… Позавчера пришли какие-то четыре маленькие с вожатой и принесли баночку с золотыми рыбками. Еще хорошо, что меня дома не было… А вчера заскочили две пятиклассницы, оставили настольный крокет и сказали, что через день за ним зайдут.
– Врешь! – сказал Саша.
– Ага, вру! – с горьким торжеством ответил Даня. – То-то и беда, что не вру. Как будто я могу такое придумать! И скажи на милость, зачем ты мне такую свинью подложил?
– А я хотел, чтобы ты мне отдал одну рыбку, – прыснув в кулак, ответил Саша.
Даня не выдержал и тоже расхохотался. Отсмеявшись, оба помолчали.
– А все-таки удивительно, что ты пошел вот именно тогда, – вдруг опять сказал Даня. – Ведь я же ничего не понимал… Я в такой был на тебя обиде… А ты понял и объяснил, что все в классе уважают и все такое. Нет, Сашка, вот теперь я действительно клянусь…
– Отстань!
– Сашка, отчего ты не хочешь, чтобы я поклялся? Я уже четвертый день хочу поклясться, а ты…
– Да отстань ты от меня, на самом-то деле! Чего ты пристал?
– Нет, я вижу, ты меня не хочешь понять. Ты же меня действительно за шкирку тащил. Александр Львович был прав. Ты меня волок, волок, а я только упирался.
– Данька, брось!
– Не брошу. Ты думаешь, у меня совести нет? Ты ошибаешься. Совесть у меня есть, и я вам докажу… Сейчас я еще не могу тебе доказать, но, в общем, мне необходимо, чтобы круглые пятерки. И вот увидите… Не веришь? Ну и не верь! Сам увидишь, как я буду заниматься.
– Данька, ну чего ты, на самом-то деле, как будто кто-то сомневается в тебе. Я всегда знал…
– И еще я тебе хочу сказать, что я понимаю, какой ты друг и товарищ. И я всегда…
– Мне надоело, и я ухожу, – сказал Саша. – Подумать только: четвертый день – и все про то же, про то же…
И, подкатив к лестнице, сбегавшей с набережной на лед, он в самом деле снял лыжи и начал медленно подниматься по ступенькам. За ним, разрываемый желанием поклясться в верности и дружбе, в грустном молчании последовал Даня.
Зажав подмышкой лыжи, мальчики шли по набережной. И вдруг Даня заметил, что какой-то цветной полосатый комочек летит тихонько, переворачиваясь на льду. Это странное «что-то» было похоже на оторванное птичье крыло.
– Подожди, – сказал Даня и, сбросив на снег лыжи, сбежал по ступенькам.
Через минуту он воротился. В руках у него были старая вязаная шапочка.
– Провалиться мне, – сказал он, внимательно разглядывая шапку, – если это не шапка Зои Николаевны!
– Ерунда, – ответил Саша. – Таких шапок в Ленинграде, наверно, целая тысяча.
– Как хочешь, а эта все-таки ее шапка. Я тебе и говорю, что ее… Хочешь – спорим?
Но они не успели поспорить. На набережной показалась Зоя. Она была в мужской бобровой шапке. Ее вел под руку Озеровский без шапки. Волосы у Озеровского торчали дыбом на ветру.

Саша быстро толкнул Даню под локоть, но было поздно – тот уже выпалил:
– Зоя Николаевна, шапка!
– Вы видите, – сказала Зоя Николаевна Озеровскому осекшимся голосом, – вы видите, вы видите теперь… Они…
– Стыдно, ребята! – укоризненно сказал Озеровский. – Не ожидал! – и посмотрел на них с таким счастливым и ликующим выражением лица, что Даня от изумления приоткрыл рот.
Зоя Николаевна и Озеровский прошли мимо.
– Нет, что ни говори, очень странно… – пожимая плечами, сказал Даня. – Ведь это же было очень вежливо: «Вот ваша шапка – пожалте!» А он говорит: «Стыдно». Что же по-твоему? Не понимаю! Забирать себе, что ли, чужие шапки?
– А что тут понимать! – ответил Саша. – Я предупреждал, я даже толкнул тебя в бок.
– Нет, как-то все ж таки удивительно, – продолжал недоумевать Даня, внимательно разглядывая шапку Зои Николаевны. – Может, все-таки сбегать, отдать?
– Отстань от них! – строго сказал Саша. – Что ты, маленький?
А Зоя и Озеровский уже были далеко и скрылись от мальчиков, заслоненные пологим спуском Университетского моста.
На той стороне Невы затеплилось первое окошко. За этим огнем зажегся второй. Загорелись, задрожали сквозь путаницу оголенных снежных веток, отбросили во все стороны лучики, прямые и лохматые.
Длинные, узкие дорожки огней скрестились на середине Невы. Снег засветился и заиграл мелкими красными, голубыми и зелеными искорками.
Даня и Саша стояли бок о бок у гранитной ограды и задумчиво смотрели на тот берег. Огни, искрясь и дрожа, как будто плыли навстречу мальчикам, и берег был похож на дальнюю гавань, на неведомый город, к которому, чуть-чуть покачиваясь, приближался их идущий по замершим волнам корабль.
Глава XIV
«Здравствуй, Лида!
Я тебя очень, очень прошу – никому не показывай это письмо. Я знаю, что многие любят показывать письма, которые получают (особенно девочки), а мне нужно знать, что только ты одна его прочтешь. Тебе я отчего-то всегда так хочу говорить правду, Лида. Я тебя совершенно не боюсь, и сам не знаю почему. Я тебя не стеснялся и доверял тебе даже тогда, когда пришел к вам в первый раз и ты сказала бабушке: «Бабушка, а он вообще не любит есть». Я знал, что ты смеешься надо мной, но почему-то не рассердился.
Лида, я тебе хочу сказать одну вещь: у нас был сбор звена, и меня крыли. И я обидел товарища. И вдобавок ко всему, я еще получил одно письмо от одного человека, и теперь я должен обязательно выправиться на круглые пятерки до конца четверти. Потому что это имеет отношение к науке. Мне нужно непременно. Я должен! Из принципа, понимаешь?
Но раньше, до письма этого человека, я думал, что раз ты в такую минуту пришла ко мне, то теперь я смогу хоть изредка тебя видеть и, может быть, даже когда-нибудь пойти с тобой в кино на дневной. А теперь я уже не могу. Я не могу, потому что понял один свой большой недостаток.
Видишь ли, если мы с тобой решим иногда видеться, так уж я буду все время думать только об этом и буду ждать. А я не должен думать и ждать. Я уж знаю: только когда я скажу себе «Нельзя!» я смогу по-настоящему заниматься. И вот я решил сказать себе – и даже уже сказал, – что не увижу тебя до конца четверти.
Но это не значит, что я смогу совершенно не думать о тебе, я привык о тебе думать все время, с самого начала учебного года, с тех пор, как я тогда пришел к вам и твой отец мне дал примус, поднос и прочее… Теперь я хочу тебе сказать еще одну правду: это дело с пятерками я затеял не только ради школы, звена, науки и того человека, от которого получил письмо, но и ради тебя. Ведь я могу все сделать для тебя, Лида! Если бы ты мне, например, сказала, чтоб я выпил чернила, – я выпил бы. Если бы ты сказала, чтоб я выкрасил крышу на восьмом этаже, – я бы выкрасил. Если бы ты сказала, чтоб я пошел пешком в Крым, – я бы пошел.
Так прикажи мне и – даже больше – скажи, что ты веришь в то, что я буду получать пятерки. Я очень хочу, мне очень нужно, и мне так сильно хочется что-нибудь сделать для тебя. И для всех. А кроме этого (с пятерками), я пока еще ничего придумать не мог. Но я буду так стараться, что ты поймешь, что у тебя есть друг, который на все для тебя способен.
И еще я решил предложить тебе дружбу, Лида.
Сперва я хотел, чтоб пошел Саша и предложил от нас обоих. Но я не знал, как ему это сказать. Теперь я тебя не буду видеть до самой весны. Не забывай меня, пожалуйста.
Сейчас я опущу письмо в ваш почтовый ящик. Я знаю, что потом я буду стоять у ящика и, может быть, мне будет очень тяжело, но письма я вынуть уже не смогу… И это ничего. Это даже очень хорошо. Пусть! Я так привык за последнее время, чтобы мне было стыдно и тяжело, что постепенно перестал обращать на это внимание.
Лида, никому не показывай.
Лида, никому не говори про того человека, который мне написал.
Лида, никому не говори, что я предлагаю дружбу.
Лида, передай, пожалуйста, отцу привет, но скажи, что это было устно.
До свиданья!
Твой друг Яковлев Даниил,
ученик шестого «Б» класса 911-й мужской школы».
* * *
«Даня! Большое спасибо за письмо. Я его сожгла, так что ты можешь не беспокоиться. У нас, как назло, сняли плиту и провели газ, а в комнатах уже давно паровое отопление. Но я взяла мусорное ведро, вышла во двор и сожгла письмо в ведре на пороге черной лестницы, хотя мне почему-то было его очень жалко. Я жгла, а все ребята стояли вокруг и спрашивали, что я такое жгу. Но я, конечно, никому ничего не сказала. Вообще, Даня, у меня очень тяжелая жизнь. У нас в доме ничего нельзя спрятать, потому что тут живет один человек, который все время подсматривает, подслушивает и читает чужие дневники. Хорошо, что я первая заметила твое письмо, а то он уже подбирался к почтовому ящику.
Даня! Ты просил меня приказать тебе, чтобы ты получал пятерки. Так вот, приказывать я, конечно, не могу, но ты знай: для меня очень важно, чтобы ты учился на круглые пять. Я думаю, это замечательно, что ты решил воспитать в себе твердый характер.
Между прочим, после случая с тобой все девочки у нас в классе только и говорят о том, что нужно уметь во-время поддержать товарища. Мы даже поставили вопрос на звене, и Таня с Верой признали свои ошибки, что пошли тогда на кросс и недооценили, какое это важное дело – чуткость к человеку. Наша вожатая выступила и сказала, что надо уметь любить и уважать своих товарищей и всех настоящих советских людей, – без этого нельзя ли бить и своей родины. Основа советской школы – такое товарищество, такое товарищество, которое должно пройти через всю нашу жизнь и сплотить нас в единый коллектив строителей коммунизма. Нет, я тебе не могу передать точно, как она говорила. Но, в общем, она сказала очень хорошо.
Наша вожатая, Зинаида Митрофановна, вообще нам нравится больше вашей вожатой, Зои Николаевны. Ваша Зоя, говорят, чересчур принципиальная и часто сердится.
А еще у нас, между прочим, говорят, что Зоя Николаевна выходит замуж за того, с которым каталась на катке и который у вас читал лекцию об Индонезии. Я это знала первая. У него было такое перепуганное лицо, когда он с ней катался.
Я уже привыкла к тому, что ты мой друг, Даня. Спасибо за доверие.
Я жду ждать весны и конца четверти.
Уверена, что ты получишь круглые пятерки. Я бучу ждать и не забуду тебя.
С пионерским приветом.
Твой друг и товарищ Лида Чаго».
* * *
Первое письмо было написано торопливым почерком на клетчатом, вырванном из тетради листке.
Второе письмо было написано широким, тщательным почерком на голубой почтовой бумаге.
Первое письмо отправитель опустил прямо в почтовый ящик адресата, без указания адреса.
На втором письме был красиво выписан адрес и к конверту приклеена великолепная почтовая марка с портретом Пушкина. Письмо пришло по почте.