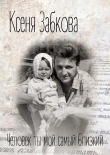Текст книги "Отрочество"
Автор книги: Сусанна Георгиевская
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 24 страниц)
Он ответил ей растроганным и благодарным взглядом.
Его трогали ее скромность и сердечность. Голубые, выгоревшие от возраста, впаянные в морщинки глаза глядели умно и спокойно. В них было доброе любопытство. Такой простой, такой приветливой и доступной оказалась наука, пришедшая в гости к его тринадцатилетнему сыну.
А разговор между тем разгорался. Отец был прекрасным слушателем: любознательным, почтительным. Рассказывать ему было радостью. Он с юношеским любопытством, похожим на любопытство своего мальчика, расспрашивал ее, как организуются археологические экспедиции, как перевозят найденные предметы, по каким признакам определяют их возраст… Его восхищали прозорливость и кропотливое терпение археологов. Услышав, что при раскопках пользуются не только лопатами и совками, но даже иголкой и акварельной кисточкой, он неожиданно пришел в такой восторг, что вскочил с места и раза два прошелся по комнате, потирая руки.
Даня был счастлив. О нем забыли. Елена Серафимовна и его отец беседовали, как старинные приятели.
Между тем на столе появилась знаменитая фруктовая ваза с домашним печеньем.
– Мать, вишневочки ради такого случая, – улыбаясь, сказал отец. – Как-никак, а летом отправляем мальчика в первое дальнее плавание.
– Вишневочки? Я с удовольствием, – радушно ответила мать.
На столе появился графин и четыре рюмки.
– Извините, так скромно… – сказала Яковлева.
– Право, я причинила вам столько хлопот! – ответила Елена Серафимовна.
– Что вы, что вы, какие тут могут быть хлопоты! – И мать отошла к столу с электрической плиткой.
Елена Серафимовна пристально рассматривала ее. Большие карие глаза, смуглая кожа и невысокий, но открытый лоб были хороши. А между тем и лицо и вся женщина были странным образом не освещены, словно дом без света в окошках.
И вот хозяйка села к столу и потянулась за графином. Не торопясь разлила вино по рюмкам. Первой наполнилась рюмка гостьи, потом – рюмка отца и третьей – рюмочка сына. Рука с графином, потянувшаяся к его далеко стоящей рюмке, чуть дрогнула. Рюмочка переполнилась до краев, и, выкатившись, красная капля упала на скатерть.
Последней она налила себе – полрюмки.
Наступило короткое молчание. Стало слышно потрескивание сверчка на печи, то-бишь тиканье часов над жарко натопленной печкой.
– Ну что ж… – сказал Яковлев значительно. – За наше будущее – за молодежь!
– За нашу замечательную молодежь! – добавила Елена Серафимовна и осторожно протянула вперед рюмку, чтобы чокнуться с хозяевами.
Чокнулись. Выпили.
Младший Яковлев благодарно и растроганно посмотрел на Елену Серафимовну поверх своей опустевшей рюмки. Яковлев-отец потянулся к графину и снова налил.
– А теперь за нашу гостью, – сказал он. – За науку!
Елена Серафимовна чуть прикоснулась губами к краю рюмки и, улыбаясь, склонила голову.
Яковлев выпил.
– За мою хозяйку, – сказал он, наливая себе опять.
Елена Серафимовна улыбнулась еще приветливей и опять пригубила.
Яковлев выпил и опять потянулся к графину.
– Хватит, – тихо сказала мать. – Довольно, Антоша.
– Ну, довольно так довольно, – покладисто ответил отец. – Эх! – вдруг сказал он. – Дай-ка мандолину, мать! – и поглядел в глаза Елены Серафимовны доверчиво и простодушно. – Вы уж не осудите.
Мать, смущенно улыбаясь, сняла со стены мандолину.
Он взял инструмент из маленьких темных рук и лукаво взглянул снизу вверх в склонившееся к нему лицо жены. Глаза его сверкнули белками, брови взлетели. Рука как будто бы невзначай задела струну.
Мой голос для тебя и ласковый и томный
Тревожит позднее молчанье ночи темной… —
запел он хрипловатым, каким-то совсем неожиданным голосом.
Близ ложа моего печальная свеча
Горит; мои стихи, сливаясь и журча.
Текут, ручьи любви; текут, полны тобою.
Во тьме твои глаза блистают предо мною.
Мне улыбаются…
Он сказал это негромким, выразительным речитативом и снова, слегка вздохнув, шутливо поглядел на жену.
Он пел. А в это время чуть слышно скрипнула дверь или, может быть, рассохшийся от тепла квадратик паркета присоединил к его пению свой тонкий голосок, кто его знает! – но Елене Серафимовне показалось, что в комнату, мягко шаркая туфлями, вошла еще одна гостья. Старая, много-много старее, чем она сама.
Она была похожа на ту женщину, которая столько лет, изо дня в день, жила и трудилась в этой комнате, заботясь о своих близких. Тихая, незаметная. Как ее звали? «Привязанность»? «Дружба»? «Привычка»? Нет, ее звали любовь, и она была здесь полноправной хозяйкой.
Отовсюду тянуло теплом ее дыхания: она легла на скатерть маленькими руками Яковлевой, она закутала плечи ее мужа уютом домашней куртки, примостилась на локте ее сына аккуратной заплатой, выкатилась осторожной красной каплей из его рюмки…
Она была тут, любовь, и, простая, привычная, будничная, была величава великим спокойствием верности.
Елена Серафимовна посмотрела на Яковлеву и вдруг увидела, что в этой женщине произошла какая-то удивительная перемена. Ее лицо порозовело, губы слегка улыбались. В руке, упавшей на скатерть, в плече, в повороте стареющей головы было непередаваемое выражение достоинства и спокойствия. Семья. Тепло домашнего очага.
И нечто подобное грусти шевельнулось в сердце Елены Серафимовны. Ей вспомнились ночи под светом лампы, горевшей не розовым, а зеленым светом, которым светятся лампы на столах людей, так много работающих, что у них устают глаза.
Ей вспомнились часы бессонницы, когда встревоженной, словно прозревшей душе откликаются даже стены в комнатах и поют свою песню, отвечая мыслям задумавшегося человека.
Ей вспомнился милый, знакомый скрип двери в Музее антропологии и этнографии, строчки, строчки, строчки, в которые входила, которым вся отдавалась душа – щедро, полно и доверчиво, ничего не требуя взамен, и за это вставало утро без старости. Но, однако, всегда ли этого было довольно?
Как бы там ни было, но в этом доме и на нее, Елену Серафимовну, хватало с избытком тепла и любви.
– Я вижу, он вам верит, – вдруг сказала Яковлева, когда муж ее кончил петь и отложил мандолину. – Я вижу, он с вами считается. – И она искоса посмотрела на сына. – Нет, нет, вы даже не говорите, я знаю, что это так… Скажите ему, пожалуйста, что завтра отцовские именины – пусть он один-единственный раз доставит удовольствие мне и отцу и придет к обеду.
– Да разве это уж такой подвиг – прийти к обеду? – удивилась Елена Серафимовна.
Младший Яковлев с молчаливым суровым упреком смотрел на мать.
– Слово, Даня: завтра вы будете дома к обеду!
– Без опоздания, – подсказала Яковлева.
– Да, да, разумеется, – подхватила Елена Серафимовна и не сдержала улыбки, – без опоздания.
Он не мог не ответить улыбкой на эту такую знакомую и милую для него усмешку, но все-таки слегка насупился и пробормотал:
– Очень странно…
– Даня, слово!
– Ну, честное пионерское…
В эту минуту из коридора послышался голос соседки:
– Даня, тебя к телефону. Из школы.
Даня выскочил из комнаты – сердце у него громко заколотилось.
– Яковлев? – услышал он голос Александра Львовича. – Что с вами случилось? Почему вы не пришли к большой перемене?
– Я… Александр Львович… я без уважительной! – упавшим голосом ответил Даня.
Глава X
Ровно в семь, то-есть в то самое время, когда Даня бежал к поезду, в его школу на сбор отряда явился человек саженного роста, одетый в щегольской костюм и голубую шелковую рубашку. Через его плечо, пересекая темносиний в серебристую полоску пиджак, была перекинута брезентовая рабочая сумка.
Придумал этот сбор Костя Джигучев. Костя считал, что все родители его пионеров – это, в сущности, клад для пионерской работы. Вот у Саши Петровского мать – врач-бактериолог, а отец – хирург. Отец Яковлева – рабочий-лекальщик, мать Иванова – железнодорожница, дед Семенчука – краснодеревец. Сколько интересного они могли бы рассказать ребятам! Почему это считается, будто о своем жизненном призвании надо задумываться только в девятом или десятом классе? Почему не начать сейчас? Может быть, такие вот бесхитростные рассказы о профессиях заставят ребят впервые задуматься о жизненном пути, о деле, которое станет для каждого самым любимым?
И вот сегодня на сбор отряда пришел отец Володи – кровельщик Иванов.
Когда замолчал пионерский горн, приветствовавший гостя, дверь класса снова распахнулась, и Джигучев с Володей Ивановым в торжественном и глубоком молчании внесли раздобытый у тети Сливы кухонный стол.
– В общем, о чем тут долго говорить! – неторопливо начал гость, прошелся туда и обратно по классу, чуть прищурившись оглядел ребят, усмехнулся и без всякого перехода, скинув свой щегольской пиджак, закатал рукава голубой шелковой рубашки.
После этого он вынул из рабочей сумки крошечные кровельные, аккуратно обрезанные листы и бросил их широким движением на кухонный стол тети Сливы.
– Картины! – сказал чуть слышно Лека Калитин.
– Совершенно верно, эти листы называются картины. Я вижу, тут подобрался знающий народ…
И в ту же минуту класс переполнился звоном частых и дробных ударов – деревянный молоток барабанил о жесть.
Лист лежал на самом краешке стола. Он сгибался с необычайной быстротой и легкостью под взлетающими и с силой бьющими молотками. Изменяя форму, жесть делалась похожей на крышу карточного дома.
Мальчики вскакивали с мест, вытягивали шею, кричали:
– Смотри! Смотри!..
В звон молота вплетался шум голосов, вздохов, возгласов.
– Тише, товарищи, – серьезно сказал кровельщик и едва приметно взглянул на мальчиков смеющимися глазами из-под лохматых бровей. – Так… Это, стало быть, вагонная крыша. Она имеет два ската. Вот вам один скат, а вот другой. Всем видно?.. Сидите, сидите, ребята, на местах. Сейчас покажу.
И, зажав не без изящества между огромными пальцами лист, которому уже была придана форма, Иванов приподнял его высоко над головой.
– Ну как?.. Сидите, сидите на местах… Стало быть, два ската. А кто скажет – зачем? Очень просто: для прочности. Для того, чтобы свободно стекала по ту и по другую сторону вода. Для сохранности кровли. Ясно?
– Ясно! – ответил Семенчук.
– Так. Хорошо. Но крыша вагона отличается от кровли обыкновенной двойным гребешком. Гребешок – это шов, товарищи, которым сращиваются продольные кровельные листы. Вот он – шов. Двойной, стало быть… Не толпитесь, пропустите меньшенького вперед… Хорошо. А для чего двойной шов? Кто скажет?.. Владимир, молчи… Ясно, тоже для прочности. Для того, чтобы шов не порвался во время движения вагона. Все же поезд – не дом. На месте он, как-никак, не стоит. Понятно?
– Понятно, – сказал Лека Калитин.
– Восемь клямов накладываются на шов, опять-таки для гарантии прочности. Вот клямы – закрепки, так сказать. Раз – один клям, два – другой клям, три, четыре… Сейчас покажу. Сидите, сидите, ребята, на местах…
Молотки взлетали и опускались.
– Вот вам клямы. Все восемь клямов. Опять же, подрамники крыши – боковые и концевые. А вот карниз… Все видят? Отлично. Не толпитесь, ребята…
Иванов работал тремя молотками. Один из них, деревянный, большущий, назывался великолепно: «киянка». Не без блеска и показного изящества демонстрировал знаменитый кровельщик перед замершей аудиторией свое высокое искусство: выкладывал подобно рисунку шахматной доски поперечные листы – «картины» – на крыше вагона, сращивал их тут же, на глазах у мальчиков, едва заметным швом – «закроем».
Поражало то, что молотки и руки были большие, а крыша – маленькая, как игрушечная.
– До войны эти крыши изготовлялись глухими, без отверстия для печных труб, – на ходу пояснял кровельщик. – Но во время и после войны мы стали делать в вагонах люки для выводки печей. Вот вам отверстие для вытяжки: люк. А вот и покрышка люка…
Ребята давно уже повскакали с мест, несмотря на уговоры кровельщика, и окружили его тесным кольцом, почти не давая простора его огромным рукам.
Тем не менее через сорок минут (считая утечку времени, потребовавшуюся для пояснения) крыша вагона была изготовлена. Она была снабжена малюсенькой вытяжкой. Двойной шов, соединявший продольные листы, прихватывался настоящими клямами.
Одним словом, крыша как крыша. Открывай люк, разжигай печурку и отправляйся в путь: вези, скажем, из колхоза в город птицу на сельскохозяйственную выставку, перевози телят, пчел – температура подходящая.
Кровельщик уложил в рабочую сумку свой инструмент, вытер руки чистым носовым платком, опустил рукава рубашки, надел пиджак и, улыбнувшись, передал крышу председателю отряда Кардашеву.
Кровельщик и председатель отряда с глубокой серьезностью обменялись рукопожатием. Ребята громко аплодировали. Кровельщик кланялся.
Любой труд, доведенный до пределов мастерства, становится искусством. Ребятам казалось, что к ним на сбор пришел артист.
Хотя все они уже слышали о знаменитом кровельщике и даже видели в «Ленинградской правде» портрет Иванова, он поразил их все же гораздо больше, чем они могли ожидать.
Когда он кончил работу, никто не шевельнулся. Мальчики сидели тихо-тихо и смотрели на него, не сводя глаз: им и в голову не приходило, что на этом его выступление может окончиться. Они ждали.
Он прошелся по классу взад и вперед большими шагами.
Что бы им еще показать или рассказать?.. Иванов вздохнул. Есть же такие специалисты, которые как начнут говорить, так и не остановишь. Нет, ему за ними не угнаться! Попробуем идти по своей линии.
Взяв в руки мелок и поглядывая на мальчиков серьезными и вместе смеющимися глазами, он заговорил о новостройках и стал одновременно вычерчивать на доске крыши разной формы и высоты, балконы, карнизы, крытые жестью и опоясывающие большие городские здания.
Дело снова пошло на лад. Мальчики закидывали его вопросами. Он отвечал спокойно, вдумчиво, подробно.
Когда все вопросы были наконец исчерпаны, он положил мел и, снова раскрыв свою рабочую сумку, сказал серьезно:
– А ну, кто хочет попробовать?
Охотники, ясное дело, сейчас же нашлись. Его окружили. Каждый кричал: «Я, я!»
Всем хотелось потрогать молотки, подержать их, сделать хоть что-нибудь собственными руками.
– Давай становись в очередь! – скомандовал кровельщик.
Но кровельная работа оказалась работой сложной. Ладилась она отчего-то только у бестолкового, большерукого Семенчука.
– Здо́рово! – сказал Семенчуку кровельщик. – Довольно-таки порядочно для первого раза. Хоть завтра к себе беру. Пойдешь?
– Нет, – застенчиво ответил Семенчук. – Я хочу в артисты.
– Ага… Ну что ж, и это дело неплохое.
– Нет, вы не знаете, как он у нас на самом деле здорово поет! – закричали со всех сторон мальчики.
– Да ну? Так что ж, давай пой!
– Да что петь-то?
– А что хочешь.
Но Семенчук, видимо, совсем не хотел петь. Он стоял и, растерянно моргая, смотрел на кровельщика.
– Пой! – взволнованно и сердито сказал ему председатель совета отряда Кардашев. (Как-никак, а гость ждал!)
– А ну, отойди, парнишка, – вместо Семенчука ответил Кардашеву кровельщик, посмотрев на него смеющимися глазами. – Не умеете вы, товарищи, говорить с артистами! Вот что, братец: запевай-ка ты, а мы все подтянем. Ладно, ребята?
– Нашу, нашу давай! – закричали мальчики.
И Семенчук покорно запел:
Веет ветер широкий
Над просторной волной…
От неожиданной силы глубокого, чистого до прозрачности альта задрожали стекла в окнах класса.
Наше время настало.
Все у нас впереди:
И костры, и привалы,
И большие пути.
Иванов-старший с удовольствием кивнул головой. Видно, песня ему понравилась.
Семенчук пел до того свободно, словно это не стоило ему (да, видно, так оно и было на самом деле) ни малейшего усилия.
И уран и бериллий
Ждут хозяев своих.
Отыщи и бери их
Для заводов родных.
Разгоняя туманы.
Оживляя леса,
Ветер смелых исканий,
Наполняй паруса! —
подхватили ребята хором. С ними вместе запел и почетный гость Иванов-старший.
Голос у него оказался заливистый и неожиданно тонкий для такого большого человека.
Пели все. Пел задумчиво и мечтательно Саша Петровский; пел с глубокой серьезностью детским, ломким голоском председатель совета отряда Кардашев. Дружно подтягивали братья Калитины, и голоса у них были до того похожие, как будто бы это пел один человек. Не пел только автор песни – Сема Денисов: у него не было ни слуха, ни голоса. Но зато он слушал с большим удовольствием. И действительно, пели очень хорошо, а может быть, даже и отлично, потому что, услышав хор, сейчас же поднялась с первого этажа на третий любительница музыки тетя Слива.
Когда песня кончилась, Костя сказал:
– Ребята, у меня есть для вас сюрприз. Помните, первое звено обратилось в райсовет с письмом насчет жилищных условий Мики и Леки Калитиных? Так вот, пришел ответ!
Класс зашумел. Иванов-старший с любопытством оглядел мальчиков и приготовился слушать. Костя поднял руку:
– Читаю!
«Уважаемые товарищи пионеры!
Ознакомившись с вашим письмом от двадцать седьмого октября сего года, сообщаем:
Калитину Петру Кирилловичу (отцу пионеров вашего отряда Михаила и Льва), по решению Ленсовета от третьего августа сего года, предоставляется двухкомнатная квартира в новом доме за Московской заставой.
Квартирой обеспечивает токаря Калитина его завод, строящий этот дом для своих рабочих, инженерно-технического персонала и служащих.
Таким образом, пионерам Калитиным, Михаилу и Льву, шестого класса «Б» вашей школы, были бы созданы, как видите, благоприятные для ученья условия и без вашего ходатайства, ребята. К постройке дома приступили за восемь месяцев до вашего письма.
Однако меня лично, отца троих детей (Чаго Василия – курсанта летной школы, Чаго Лидии – ученицы шестого «А» класса 85-й женской школы и Чаго Олега – ученика второго «В» класса 911-й мужской школы), очень тронуло то, что вы заботитесь о своих товарищах и что дело успеваемости каждого мальчика считается у вас за дело чести всего отряда и звена.
Так и должно быть.
Как старый солдат, участник трех кампаний (Халхин-Гол, Финская, Великая Отечественная), я могу вам сказать, что в наступающей цепи не должно быть ни одного ненадежного места, ни одного слабого звена.
А еще я должен вам сказать, тоже на основании боевого опыта: не может быть объективных причин, которые помешали бы бойцу выполнить возложенное на него боевое задание. Пионер обязан учиться на «хорошо» и «отлично».
Если ребятам невозможно заниматься дома, пусть готовят уроки по очереди у того из вас, у кого хорошие бытовые условия.
Итак, вопрос исчерпан.
Коснемся пункта второго – о физических методах воздействия…»
При этих словах Костя смущенно взглянул на гостя.
– Дело в том, – сказал он, – дело в том, что в письме говорилось… одним словом, Лека стукнул свою младшую сестренку за то, что она мешала ему заниматься. Так вот, депутат и пишет: «Коснемся пункта второго – о физических мерах воздействия.
Полагаю, что они должны быть сурово осуждены, и не только потому, что некрасиво бить того, кто не умеет дать сдачи, а потому, что вооруженное нападение есть проявление слабости прежде всего самого агрессора, не нашедшего другого подхода к противнику, кроме кулаков.
Именно мы, солдаты Советской Армии, которым приходилось в жизни бить, и бить крепко, никогда ни на кого не нападали первыми. Мы – за мир. Чем сильнее страна, государственный строй или частный человек, тем меньше ему нужно доказывать свою правоту кулаками.
Тот, кто лезет в драку, чаще всего слабее того, кто защищается.
Это правило я постарался внушить и своим детям, и они у меня никогда не дерутся. Тот же из вас, кто хочет проявить физическую силу и ловкость, имеет все возможности заняться спортом. Я лично очень увлекаюсь боксом, даже состою в жюри спортивного общества «Динамо».
Итак, желаю вашему отряду высоких показателей в ученье и блестящего окончания второй четверти.
Будьте же мужественными, сердечными, сильными, как подобает настоящим пионерам.
С коммунистическим приветом
Депутат Куйбышевского райсовета
полковник И. Чаго».
Ребята снова захлопали.
– Хорошо написано, – сказал Иванов-старший, – очень хорошо. Прямо скажу, по-государственному! Вот и получилось одно к одному: там дом для ваших товарищей строится, а мы про это самое как раз и говорили.
– Эх, Данька порадуется! – сказал Семен Денисов.
– Данька… А где же он? – спросил Кузнецов.
* * *
– Где Яковлев? – спросил у Петровского Кардашев, когда все разошлись.
– Не знаю, – сдвинув брови и опустив глаза, хмуро сказал Петровский.
– To-есть как это не знаешь?
– А очень просто. Не знаю. Не имею понятия.
– Странное дело!
– А по-моему, ничего тут странного нет. Яковлев – это Яковлев, а я – это я… Если бы ты спросил меня, где я, а я не мог бы тебе ответить, так это действительно было бы странно. А почему я должен знать, где пропадает Яковлев? Он мне об этом не докладывает.
– Кардашев, Петровский, – сказал вполголоса Александр Львович, заглядывая в класс, – если вы свободны, прошу вас обоих зайти на минутку в учительскую.
– Хорошо. Сейчас, Александр Львович, – ответили разом Кардашев и Петровский.
Дверь захлопнулась. Александр Львович исчез.
Мальчики постояли молча друг против друга и молча вышли из класса.
Молча шли они по коридору. У Саши было странное чувство: он не знал за собой никакой вины, но почему-то не мог смотреть в глаза Кардашеву.
Когда они вошли в учительскую, Александр Львович стоял, повернувшись лицом к окошку и заложив за спину руки. Услышав шаги, он обернулся. Лицо у него было серьезное, грустное и озабоченное.
– Сядьте, мальчики.
Сели.
– Я хотел с вами поговорить… о Яковлеве.
Кардашев и Петровский вздохнули одновременно, как по команде.
Потом Кардашев очень пристально посмотрел на Петровского. Петровский снова сердито отвел глаза.
– Дело в том, – сказал Александр Львович, – что Яковлев пропустил сегодня три… нет, пожалуй, четыре урока. С первого урока я его сам отпустил. Он сказал, что идет к зубному врачу. Но он должен был возвратиться при любых обстоятельствах к большой перемене… Можно было бы, конечно, предположить, что у зубного врача была очень большая очередь или что Яковлеву удалили зуб и он себя плохо почувствовал. Но я позвонил ему и… В общем, мать ответила еще до его прихода, что Даня встал в шесть часов утра, вытащил из кладовки какую-то тяпку и отправился в школу. Я звонил к Яковлевым ровно в половине первого. Ни на четвертом, ни на пятом уроке Яковлев так и не появился. На сбор он тоже не пришел. Согласитесь, что это несколько странно.
– Ничего тут странного нет, Александр Львович Очень просто: взял да и прогулял, – сказал Кардашев.
– Тяпка… Не знаю, – сказал Петровский. – Он мне ничего не говорил.
– Не в тяпке дело, мальчики.
– Понятно, дело не в тяпке, – усмехнувшись, подхватил Кардашев.
– Да, дело не в тяпке, а в нас, Кардашев!
– В нас?
– Да, в нас… Вот вы – председатель совета отряда. Яковлев – пионер. Я с ним пока что не мог совладать, как видите. Дело с Яковлевым обстоит совсем не так просто, как вам это кажется. Верно, он в последнее время безобразно стал относиться к занятиям. Он почти совсем не готовит домашних заданий, на уроках в классе читает посторонние книги. Все это так, и все это возмутительно. Однако осудить товарища проще простого. Много трудней осудить себя. А ведь мы с вами отвечаем за Яковлева. Да, я и вы. И со своими обязанностями мы справились плохо – не будем закрывать на это глаза. Даже если бы Яковлев был человек нестоящий, то и в этом случае мы были бы с вами обязаны бороться за него. Но перед нами горячий, искренний человек… Не удивляйтесь и не пожимайте плечами, Кардашев. Будьте же справедливы… Ну, к примеру: кто предложил написать письмо в райсовет? Яковлев. Кто предложил ходить по чужим квартирам, чтобы собрать цветной лом? Яковлев. Вы не можете отказать Яковлеву ни в инициативе, ни в чувстве товарищества. Больше того: у меня есть основание утверждать, что он умеет быть очень настойчивым, когда этого захочет. Пример – физкультура. Евгений Афанасьевич им доволен. Два раза в неделю Яковлев занимается легкой атлетикой с Джигучевым и Зоей Николаевной. Они им тоже довольны. Стало быть, мы попросту не могли найти к нему правильного подхода. Вычеркнуть, осудить – это просто. Надо помочь. Я думаю, что злоключения Яковлева не от лени, не от отсутствия чувства долга. Они скорее… Не знаю, понятно ли я говорю?
– Понятно, – хором сказали мальчики.
– Яковлев – человек коллектива, хороший, бесспорно хороший парень. Но он, видите ли, отчего-то не может понять – а мы с вами не сумели разъяснить ему, – что все-таки главное его дело не сбор лома, а школа. Здесь его работа, здесь его дом. Так что же кидает его из стороны в сторону?.. Я много думал об этом, мальчики. Мне казалось… Ну, знаете, бывают бурливые реки. Они разливаются весной, а летом входят в берега. Это от возраста… Вы слышали, наверно, как про вашего брата говорят: «самый трудный возраст». Но я в это, скажу по совести, не очень-то верю. По-моему, у всех возрастов есть свои трудности. И ждать, пока Яковлев вырастет или даже постареет, нам некогда…
Мальчики, сдержанно усмехнувшись, переглянулись.
– …Мы должны теперь же ввести его в строй, – продолжал Александр Львович. – Я сделал что мог. Я старался быть терпеливым. Потом, когда он начал ходить в музей и увлекся археологией, я, признаться, надеялся, что это новое увлечение будет мне на руку. Я думал, он приучится там к точности, захочет как следует заниматься. Но нет, и это не помогло…
– Не помогло, – сказал Кардашев. – Очень просто… Мы… ну да, мы все слишком много с ним нянчимся, Александр Львович. А он прогульщик, лодырь – и все!
Петровский сердито взглянул в его сторону.
Но Александр Львович будто не заметил этого. Он молча прошелся по комнате и опять остановился возле мальчиков:
– Да, он прогульщик. Я снова звонил Яковлевым и говорил с Даней. Он пропустил уроки без уважительной причины. Но вы, наверно, слышали, Кардашев, как бьются другой раз мичуринцы, чтобы вырастить новое, молодое деревце. А ведь тут идет речь не о дереве, а о человеке… Ну вот, а вы говорите: «просто»…
Кардашев опустил голову. Он задумался. И вдруг поднял на Александра Львовича ясные, доверчивые, детские глаза.
– Да, и трудно и просто, – сказал он с усмешкой.
– Верно. И трудно и просто, – повторил Александр Львович.
– В одном только, мне кажется, вы неправы, – обращаясь к учителю, сказал Саша: – больше всего Даня любит все-таки школу. Я знаю.
– Тем хуже для нас. Тем хуже для вас, Петровский. Я бьюсь и ничего придумать не могу. А вы срываете… да, да, срываете мою работу…
Голос у Александра Львовича стал тонкий, руки были сжаты в кулаки. Саша даже немного испугался: он никогда не видел Александра Львовича таким сердитым.
– Две недели тому назад я решил обратиться к его чувству товарищества, – продолжал Александр Львович уже как будто спокойнее, – испробовать, как мне тогда казалось, последнее средство. Я поручил ему подтянуть по английскому Кузнецова, надеялся, что он таким образом подтянется и сам… И что же? Вы мне помешали: заниматься с Кузнецовым стали вы, а не он. Кузнецов подтянулся, а Яковлев еще больше отстал.
– Я… я не догадался. Я хотел вам помочь, Александр Львович…
– Очень даже догадался! – сердито сказал Кардашев. – Ты всегда и во всем прикрываешь Яковлева.
– Не будем сейчас пререкаться, мальчики, – оборвал его Александр Львович. – Мне нужна ваша помощь. Яковлев с каждым днем учится все хуже и хуже. Сегодня он в первый раз прогулял.
– Вопрос ясен, – сказал Кардашев. – Надо обсудить успеваемость и прогулы Яковлева на сборе отряда.
– Может быть, сперва на звене? – несмело предложил Петровский.
– Да, сперва, по-моему, на звене, – поддержал его Александр Львович. – Но подумайте прежде, как следует подумайте, мальчики. Я поручаю вам очень важное дело. Я знаю, я верю, что вы отнесетесь к нему ответственно.
* * *
Звено Саши Петровского задержалось в классе после конца занятий. В этот день у них было всего четыре урока – заболела Елизавета Николаевна, учительница русского языка.
Ребята – их было десять человек, считая Кардашева, оставшегося на сбор первого звена, – сидели в разных углах класса.
Саша, взволнованный и бледный, уже успел чистосердечно рассказать звену, как он стал подтягивать по английскому языку Кузнецова, хотя Александр Львович поручил это дело Дане. Он признался и в том, что слишком поздно забил тревогу по поводу плохой успеваемости товарища.
– В общем, ребята, – сказал Саша, – я очень, очень и перед вами и перед Яковлевым виноват. И… и, наверно, если бы вместо меня был другой звеньевой, ну, например, Денисов, так дело с Данилой так далеко бы не зашло. Я проглядел.
Мальчики подробно обсудили (и осудили) Даню (а заодно и Сашу). Обозвали Даню прогульщиком и сказали Саше, что это был с его стороны блат и приятельство.
И вдруг дверь скрипнула, и в класс тихонько вошла Зоя Николаевна. Вошла и, не говоря ни слова, села на заднюю парту.
Джигучева на этот раз не было на сборе звена. У них в восьмом было шесть уроков.
«Но как узнала о сборе Зоя Николаевна? Кто ей сказал? Джигучев? Нет, наверно Александр Львович», подумал Кардашев.
Он обрадовался. Дело с Яковлевым было все же дело серьезное. Хорошо, что она была тут.
– Ну, кто еще, ребята? – вздохнув, спросил Кардашев.
Мальчики молчали.
– Что же, тогда я, пожалуй…
Он встал и еще раз глубоко вздохнул, набрав в легкие воздуху.
– Даня, – очень тихо сказал Кардашев, – мы… мы с тобой учимся в одном классе, и… и мы с тобой были вместе в лагере во время войны. Мы ехали в одном поезде. Да, да, я очень даже хорошо помню, как мы стояли рядом у окошка, когда поезд отходил. Наши мамы бежали вместо за поездом… Потом, когда мы ехали, мы тоже долго стояли рядом у окошка. Забыл? А потом был еще один раз, когда мы стояли рядом. В актовом зале, помнишь? Там на мраморной доске имена наших братьев. Они… они тоже стоят рядом… Нет, ты погоди, ты не отворачивайся, я все равно скажу все до конца. – Голос у Кардашева стал тоненький и до того напряженный, что, казалось, вот-вот сорвется. Глядя на Даню в упор, он сказал как-то особенно прямо, просто и даже грубо: – Ваш Аркадий и наш Алеша были, наверно, лучше нас с тобой. А вот их нет. Они погибли. Погибли потому… для того, чтобы мы и другие ребята могли учиться в советской школе. И я не хочу, то-есть мы не хотим… и я не дам… – голос наконец не выдержал и, дрогнув, сорвался, – …и я не дам, чтобы ты забыл!..
В классе стояла глубокая тишина. Кто-то уронил тетрадку и тихонько поймал ее на лету.
Блестящие, внимательные, настороженные, смотрели на Кардашева глаза Саши Петровского.
Кардашев внезапно замолчал. Он молчал целую минуту, но в классе было все так же тихо. И вдруг он ударил ладонью по парте.
– Ты… ты позоришь имя своего брата! – задохнувшись, сказал он. – Ты прогульщик и лодырь! Говорят, что к тебе нужен подход, что ты не обыкновенный, а какой-то особенный прогульщик. Ну да, особенный: «прогульщик-пионер». Потому и особенный…