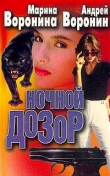Текст книги "Александр Великий. Дорога славы"
Автор книги: Стивен Прессфилд
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц)
Книга вторая
ЛЮБОВЬ К СЛАВЕ

Глава 5
КОСОЙ СТРОЙ

Херонея – это равнина к северо-западу от Фив. Здесь в свои сорок пять лет (мне тогда было восемнадцать) Филипп повёл Македонскую армию против объединённых сил Эллады. В его жизни это была последняя великая битва, а в моей – первая.
Простирающаяся на север и северо-восток Херонейская долина поросла лавандой и другими ароматными травами. На южной её оконечности находится возвышение с укреплённым акрополем, а на северной, как раз напротив, гора Аконтион. Войско, наступающее с северо-запада, вступает на равнину в самой широкой её части, где она простирается более чем на шесть тысяч локтей. Если вы переправляетесь через Кровавую реку, справа от вас будет поток, именуемый Цепис. Именно в него эллины упёрлись своим левым крылом, тогда как правое подпирала городская цитадель. Фронт противника имел в длину около двадцати стадиев, или примерно двадцать восемь сотен щитов.
Херонея являлась местом сражений на протяжении столетий, ибо, как и соседние равнины, такие как Танагра, Платея, Лектра, Коронея и Эритрея, самой природой была предназначена стать театром военных действий. Именно здесь писалась история Эллады. Тысячу лет умирали солдаты на этих полях, орошая их кровью.
Но сегодня здесь предстояло разыграться битве совершенно нового типа: отец твёрдо вознамерился положить конец доселе неоспоримому превосходству эллинов. Мы, те, кого Демосфен Афинский пренебрежительно именовал «народом сомнительного происхождения», те, кого сыны Греции почитали чуть ли не скифами, были исполнены решимости не просто вырвать у Эллады пальму первенства, но и стать эллинами. С сегодняшнего дня именно мы будем оплотом и опорой эллинской цивилизации.
Численность неприятельских сил колеблется между тридцатью пятью и сорока тысячами, наши чуть-чуть не дотягивают до сорока. Сил противника достаточно для того, чтобы выстроить пехоту по всему фронту, с глубиной строя от восьми до шестнадцати щитов.
Сливки эллинского воинства представляет собой «священный отряд». В нём три сотни воинов, и он, как утверждают поэты, составлен из любовных пар. Замысел состоит в том, чтобы каждый сражался как одержимый, боясь опозориться в глазах возлюбленного, и уж, конечно, не бросил его в беде.
Впрочем, в глазах Теламона такой способ комплектования отрядов не выдерживает критики.
– Если поверить, будто лучший способ получить настоящего солдата заключается в том, чтобы трахать товарища по оружию в задницу, самой распространённой командой у десятников должно стать: «Раком ста-но-вись!»
Мой отец, которому в молодости довелось провести в Фивах три года в качестве заложника, тоже смеётся над этими поэтическими бреднями.
– При таком подходе половина отряда состояла бы из безусых мальчишек с нежными ягодицами, но разве из них составишь ударную силу? Нет, в этом отряде – храбрейшие, самые умелые бойцы из знатнейших семей Фив, включая шестерых чемпионов Олимпиад и ещё десяток атлетов, стяжавших награды на иных Играх.
Как известно, расходы по содержанию «священного отряда» полностью несёт государство, и состоящие в нём освобождаются от всех гражданских обязанностей, кроме подготовки к войне. Говорят, что фиванские красавицы тщетно пытаются привлечь внимание этих воителей, ибо, согласно заявлению их соотечественника Пиндара, «своей невестою они избрали Битву и ей верны до самого конца».
Все воины «священного отряда» – это гоплиты, тяжеловооружённая пехота. Каждый имеет шлем из железа или бронзы (шесть фунтов), сплошной бронзовый панцирь, закрывающий грудь и спину (двенадцать фунтов), поножи (по два фунта каждая) и круглый, два локтя в поперечнике, щит, сработанный из обитого бронзой дуба. Иными словами, одни лишь доспехи такого воина весят от тридцати четырёх до тридцати шести фунтов, и это не говоря о мече и копье (ещё десять фунтов), плаще, хитоне и обуви. Эллинский гоплит защищён надёжнее любого другого пехотинца мира. Когда воины поднимают щиты так, что над их кромками становятся видны лишь глазные прорези шлемов, «священный отряд» предстаёт перед противником как сплошная стена из бронзы и железа.
Принято считать, что «священный отряд» состоит ровно из трёхсот гоплитов, но это справедливо разве что в отношении парадов. На поле боя выходят двадцать четыре сотни. Каждого гоплита подкрепляют семь пеших ополченцев: вместе они составляют боевую единицу из восьми человек. С учётом резервных подразделений, позволяющих довести глубину построения до шестнадцати шеренг, боевое построение составляет сорок восемь сотен бойцов. Кавалерии в отряде нет вовсе, и конной атаки он не боится. Фиванцы считают, что против закованной в бронзу, ощетинившейся копьями фаланги конница бесполезна.
Как и все отборные пехотные подразделения южных эллинов, отряд сражается в плотном строю. Главным оружием воинов являются восьмифутовые копья, которыми они наносят удары из-за щитов, а в ближнем бою они пускают в ход короткие, спартанского образца мечи, которыми можно как колоть, так и рубить. Отряд идёт в бой под мелодию флейты, а среди его командных сигналов нет сигнала к отступлению. Его девиз: «Стой и умри». В нём служат лучшие пехотинцы Эллады, а значит, и всего мира. Вместе с десятью тысячами «Бессмертных» царя царей Персии «священный отряд» представляет собой одно из лучших воинских формирований мира.
Сегодня он будет уничтожен. Мною.
Это, как я понял, моя задача. В Фессалии, возле Фер, где войско Филиппа сделало последний привал перед броском на юг, к Херонее, мой отец запланировал устроить учения в условиях, приближённых к боевым. Предполагалось, что манёвры проведут на рассвете, но ни утром, ни днём, ни вечером, ни после полуночи никаких приказов так и не поступило. Только после третьего караула нам приказали строиться, что мы и стали делать, толкаясь и чертыхаясь в кромешной тьме, под ругань десятников и сотников. Разумеется, именно это Филипп и задумал: он хотел бросить солдат в условный бой неожиданно, усталых, голодных, застав их справлявшими нужду или делавшими что-то в этом роде. Как мог бы застать враг.
В последнюю минуту он прибыл сам, сопровождаемый половиной «друзей», тысячью бойцами лёгкой фессалийской конницы и тремя сотнями фракийских копейщиков. Поначалу прибытие массы конных лишь усилило беспорядок. Поблескивающая луна освещала мокрую и всё ещё затянутую пеленой мелкого дождя долину.
– Чехлы долой! – выкрикнул Филипп, и его команда, передаваемая через сотников и десятников, прокатилась по рядам. Воины принялись снимать с наконечников саррисс, копий длиной в дюжину локтей, проложенные промасленной шерстью покрытия. И в тот же миг, как только капли дождя упали на отточенное железо, всё переменилось. У воинов возникло ощущение боя. Теперь каждому пехотинцу надлежало проявлять осторожность. О толкотне не могло быть и речи, ибо каждый из них, допустив неловкость, запросто мог бы наконечником отхватить товарищу ухо, а то и выколоть глаз.
Филипп приказал также расчехлить и щиты. Стягивая с них чехлы из бычьих шкур, бойцы ругались, ибо знали, сколько трудов потребуется на то, чтобы после дождя заново отполировать бронзу.
Лошади мочились, вонь от дерьма, и конского и солдатского, смешивалась с перегаром, выдыхавшимся всадниками, а резкий запах травы перебивал запах смазки на железе, наводивший на мысль о битве, как ничто другое.
Мой отец занял позицию на холме, под усыпальницей Алквиада. Мы с Гефестионом и Клитом Чёрным, превосходным командиром, впоследствии получившим под начало царскую «сотню» из отряда «друзей», тоже верхом встали по левую руку от него и его высших военачальников, Пармениона и Антигона Одноглазого. Остальные полководцы собрались справа и за его спиной. Филипп объявил диспозицию, но по одному, важнейшему, вопросу приказа пока не было. Кто сподобится высокой чести выступить против «священного отряда»?
Филипп этот пункт пропустил: не прозвучало даже намёка. Все крепились, но под конец Антигон не сдержал своего нетерпения.
– А кто займётся «священным отрядом»? – громко спросил он.
Царь, словно бы не услышав вопроса, отдал ещё несколько распоряжений, а потом, словно мимоходом, сказал:
– А, фиванцы? Их возьмёт на себя мой сын.
То был первый (и единственный) раз, когда Филипп высказался на сей предмет в моём присутствии. Правда, тогда, обращаясь не столько ко мне, сколько ко всему ближнему кругу, он сказал, что я получу в своё распоряжение четыре отряда тяжёлой пехоты, всего шесть тысяч человек, и корпус «друзей» в полном составе. Гефестиона последнее сообщение привело в ярость. Он решил, что отец предоставляет в моё распоряжение столь крупные силы, чтобы умалить мою славу.
Я, однако, сказал, что он плохо знает моего отца и что перед самым началом сражения он наверняка заберёт у меня четверть пехоты и половину кавалерии. Как бы там ни судачили иные сплетники, отец не был ни безумцем, ни извращенцем: просто он был хитёр, как кот. Своих полководцев царь, по его собственному выражению, знал, как шлюха постоянных клиентов. И меня тоже. Полагаю, отец любил меня больше, чем о том говорил или даже думал сам. Но, будучи царём, хотел, чтобы и его сын оказался достойным такого сана. До сегодняшнего дня Антипатр не говорил мне об этом, опасаясь моего неудовольствия, но доброжелатели донесли, что тогда, на рассвете, когда за два часа до начала битвы Филипп отозвал половину моих сил, Антипатр выступил против.
– Ты что, хочешь убить Александра? – спросил он.
– Я хочу лишь испытать его, – ответил отец.
Три дня спустя мы добрались до Херонеи. Основные силы противника – фиванцы, афиняне и коринфяне – уже преградили равнину, подкреплённые несколькими отрядами наёмников, а ополченцы из Мегары, Эвбеи, Ахайи, Левкадии, Коркиры и Акарнании подтягивались в течение всей ночи. Впрочем, и у наших войск на это ушёл весь день.
Я со своими силами двигался в авангарде непосредственно за разведывательными разъездами. Задача передового охранения заключалась в том, чтобы в случае возникновения любых непредвиденных обстоятельств немедленно известить Филиппа. Но ни с чем непредвиденным столкнуться так и не довелось. Эллины заняли равнину и терпеливо ждали, пока мы соберёмся и намнём им бока. А мелкие стычки со случайными отрядами да захват брошенного лагеря – не основание для того, чтобы тревожить царя. Вступив на равнину, я приказываю конным патрулям развернуться веером и застолбить места для следующих позади отрядов. По прибытии каждого подразделения ему уже будет отведено место. Под моим командованием (если к такого рода опыту подходит столь многозначительный термин) состояли как многоопытные пехотные командиры – Антипатр, Мелеагр, Коэн, – специально приданные мне отцом, чтобы умерить мои юношеские порывы, так и мои ровесники и друзья: Гефестион, Кратер, Пердикка и длиннокудрый Леоннат по прозвищу Любовный Локон. Этим предстоит вести в бой тяжёлую кавалерию «друзей». Моими телохранителями командует Клит Чёрный.
Теламон, мой наставник в военном деле, указывает на стоящий напротив «священный отряд» и предлагает:
– Присмотримся к ним получше?
Мы присматриваемся. Впрочем, то, что «священный отряд» встретит любую атаку остриями копий, ясно и так. Важнее другое: как будет сформирован его косой строй.
Смеркается, но мы до боли в глазах продолжаем присматриваться к рельефу, стараясь, исходя из характера местности, предугадать, какое размещение сил предпочтёт противник.
Косое боевое построение было введено в военный обиход Эпаминондом из Фив. До него войны эллинов представляли собой драки стенка на стенку.
Армии противников выстраивались одна напротив другой, сходились и лупили друг друга всем имеющимся оружием, пока одна не пускалась в бегство. Частенько, впрочем, случалось, что одно войско пускалось наутёк прежде, чем другое успевало нанести удар. Это, впрочем, тоже способствовало урегулированию спорных вопросов, из-за которых всё и затевалось.
Больше всех прочих в подобной незамысловатой тактике преуспели спартанцы, регулярно колошматившие и фиванцев, и других своих соперников.
Конец этому, а заодно и спартанской гегемонии положил косой строй. Впрочем, самому Эпаминонду такое название не нравилось: он называл введённый им в практику боевой порядок «systrophe», что значит «накопление» или «концентрация». Примером ему служил кулачный боец, который не наносит ударов обеими руками попеременно, а держит одну позади, атакуя другой.
Как и прежде, Эпаминонд выстраивал своё войско перед фронтом противника, но теперь его строй не имел одинаковой глубины на всём своём протяжении и, соответственно, не обрушивался одновременно всем своим весом на всю вражескую линию. Он усиливал левое крыло, а правое, наоборот, ослаблял.
Спартанцы распределяли солдат вдоль строя равномерно, но правый фланг считался более почётным, ибо там, в окружении своих телохранителей, всегда сражался сам царь. Таким образом, построение Эпаминонда при численном равенстве обеспечивало ему превосходство на том участке, где находились лучшие вражеские силы. Он резонно полагал, что, если ему удастся сломить отборных вражеских воинов, остальные обратятся в бегство.
Каким образом усиливал Эпаминонд своё левое крыло? Во-первых, он доводил глубину строя не до восьми щитов, как спартанцы, даже не до шестнадцати, как бывало в прошлом в Фивах, а до тридцати или даже до пятидесяти. Кроме того, он вооружил своих солдат копьями длиной в семь локтей, тогда как копьё спартанцев достигало только пяти. И наконец, Эпаминонд изменил форму пехотного щита. Слева и справа на нём появились выемки, а ремни теперь крепили его не к руке, а к плечу и шее, что оставляло руки воина свободными, давая ему возможность орудовать длинным, тяжёлым копьём.
Встретившись со спартанцами на равнине у Лектры, Эпаминонд разбил их наголову, что изменило расстановку сил по всей Элладе. Фивы в один миг превратились из второстепенного полиса в доминирующую на суше державу, а Эпаминонд был восславлен как герой и несравненный военный гений.
Мой отец знал Эпаминонда. В пору расцвета новой фиванской державы Македония была вынуждена отдавать знатных юношей в Фивы в качестве заложников, и отец, попавший туда в тринадцать лет, провёл в этом городе три года. Обращались с ним хорошо, взаперти не держали, а он, со своей стороны, ко всему присматривался и запоминал то, что могло оказаться полезным. В первую очередь, разумеется, военные нововведения, включая особенности фиванской фаланги.
Став царём, Филипп организовал свою армию по образцу фиванской, но по сравнению с Эпаминондом произвёл некоторые усовершенствования. Важнейшее из них касалось копья. Он довёл его длину до двенадцати локтей. Так появилась знаменитая македонская сарисса.
Теперь впереди первой шеренги двигалась сплошная изгородь из отточенного железа, причём то были острия копий не трёх, как в других фалангах, а целых пяти шеренг. Устоять перед натиском такого строя не смог бы никакой противник, вне зависимости от его храбрости, упорства и защитного вооружения.
Этим, однако, Филипп не ограничился. Македонское войско, ранее состоявшее из пёстрых отрядов различных кланов, превратилось в профессиональную армию, базировавшуюся в лагерях и получавшую ежемесячное жалованье. Царь и его великие полководцы, Парменион и Антипатр, муштровали фаланги до тех пор, пока солдаты не научились выполнять все движения, перестроения и повороты с абсолютной слаженностью, превратив строй в единое целое. Мир никогда не видел боевой силы, подобной ощетинившейся сариссами македонской фаланге. Даже великий Эпаминонд, восстань он из могилы, был бы разбит пехотой Филиппа.
Мы с товарищами пересекаем Херонейское поле и приближаемся к позициям «священного отряда». Многие воины, нагие, умастившись маслом, выполняют упражнения, как делали это спартанцы при Фермопилах. Это и вправду великолепный отряд, все атлетически сложены, и даже лагерные прислужники блещут красотой. Ну а сам лагерь – любо-дорого посмотреть – словно расчерчен по линейке. Отчищенное до блеска оружие сверкает в аккуратных пирамидах.
Подъехав и остановившись на расстоянии половины броска камня, я представляюсь и громогласно возглашаю, что Македонии и Фивам следует не сражаться друг с другом, но объединиться против общего недруга, каким является Персия.
– Если так, – со смехом отвечают фиванцы, – скажи своему отцу, чтобы он возвращался домой.
– Завтра вы займёте позицию здесь? – спрашиваю я, указывая на их лагерь.
– Может быть. А вы?
Как выясняется, с двумя из этих воинов, братьями-борцами, Чёрный Клит знаком по Немейским играм. Они обмениваются рассказами и сообщают новости, а ко мне в это время направляется командир, ветеран лет сорока, а то и пятидесяти.
– Неужто я и вправду вижу сына Филиппа? – с улыбкой говорит он и, назвавшись Коронеем, сыном военачальника Паммена, сообщает, что дружил с моим отцом. Действительно, будучи заложником в Фивах, отец жил в доме Паммена.
– Твоему отцу было четырнадцать, а мне десять, – сообщает Короней. – Он, бывало, макал меня головой в воду и лупил по заднице.
– То же самое он проделывал и со мной, – со смехом отвечаю я.
Короней жестом подзывает симпатичного юношу лет двадцати.
– Позволь мне представить моего сына.
Поскольку беседа пошла вовсю, продолжать её, сидя на коне, кажется мне неучтивым. Мы с товарищами спешиваемся. Возможно ли, что уже завтра на рассвете нам придётся насмерть сразиться с этими замечательными людьми?
Сына Коронея зовут Памменом, в честь его деда. Этот красивый, облачённый в великолепные доспехи юноша на добрых полголовы перерос своего отца. Отец и сын, оба воины «священного отряда», встают плечом к плечу.
– Вот так мы стоим и в боевом порядке, – заявляет юноша.
Я ловлю себя на том, что борюсь со слезами. Нащупав висящий на поясе усыпанный драгоценными камнями кинжал из редчайшей закалённой стали (он стоит талант серебра), прошу Коронея принять этот подарок в память о моём отце.
– Только в том случае, если ты возьмёшь это, – говорит он, протягивая мне украшавшую его панцирь фигурку льва: слоновая кость, кобальт и золото.
– Какие приятные и достойные люди, – говорит мне Гефестион на обратном пути.
Здесь, Итан, я остановлюсь особо, обратив твоё внимание на предмет, всегда повергающий молодых командиров в смятение. Я имею в виду симпатию к противнику. Никогда не стыдись этого чувства, отнюдь не являющегося признаком слабости или излишней мягкотелости. С моей точки зрения, это, напротив, есть одно из высочайших проявлений воинской добродетели. Помню, как-то вечером, уже после битвы при Херонее, мне довелось рассказать о встрече с тем благородным фиванцем, Коронеем.
– Ну, сын мой, и что сказало тебе в тот час твоё сердце? – спросил отец, внимательно меня слушавший.
Как я понимаю, он хотел подразнить меня, но не из злобы, а желая подправить моё поведение, в котором видел слишком много великодушия.
– Ощутил ли ты сострадание к тем, кого тебе вскоре предстоит убивать? Или, напротив, обратил сердце в кремень, что, если верить толкам, хорошо удаётся твоему отцу?
Мы находились дома, в Пелле, на пиру с командирами Филиппа. Едва прозвучали слова отца, как разговоры смолкли и все взоры обратились ко мне.
– Отец, сердце сказало мне, что, коль скоро я сам готов отдать свою жизнь, это даёт мне право забрать жизнь противника, кем бы он ни был, и небеса не сочтут это деяние несправедливым.
– Вы только послушайте! Вот уж сказал так сказал! – одобрительно загомонили гости.
– Это уж точно, – согласился отец, – сам Ахилл, следуя древним ораторским канонам, не смог бы ответить лучше. Но скажи мне, сын, как бы этот древний герой и полубог смог совладать с распущенностью, продажностью, бесчинствами и мерзостями, сопутствующими нам в наши дни?
– Отец, он воодушевил бы людей, предающихся порокам, благородством и чистотой своей цели. Воистину, это возможно даже в нашем несовершенном мире.
Сказав так, я не покривил душой, но кое о чём умолчал. В тот миг, когда отец устроил мне испытание перед лицом командиров, я ощутил присутствие своего даймона, своего природного гения. Дух сей незримо вошёл в помещение, одарив меня ясностью мысли и неколебимой убеждённостью. Как никогда раньше, я отчётливо понял, что мой дар превосходит дар моего отца, причём на порядок величин. Увидел это так, словно сумел заглянуть в него. И он это понял. Как поняли и другие: стоявший у его плеча Парменион и стоявшие подле меня Гефестион и Кратер. То был момент встречи поколений, заката и восхода, прошлого и будущего.
В миг обмена дарами с Коронеем мой даймон предложил мне обоюдоострый меч, одно лезвие которого есть симпатия и сочувствие, а другое – суровая необходимость.
– Эти отважные и благородные защитники Фив, можно сказать, уже мертвы, – молвил тогда мой гений, – но ты, Александр, забрав их жизни, лишь станцуешь в нескончаемом хороводе, предопределённом до начала времён. Исполняй же свой танец хорошо.
Весь следующий день армии только тем и занимались, что танцевали да перетанцовывали.
На рассвете «священный отряд» занимает позицию на крайнем правом фланге фиванцев в качестве единого подразделения. Но спустя шесть часов, когда я выезжаю на поле, три сотни гоплитов оказываются рассредоточенными по первой шеренге центра и левого крыла. Это не просто перестроение, ибо дислокация «священного отряда» является существенным элементом всего стратегического замысла неприятеля. Мои отряды тоже совершают перестроения, стараясь предугадать самые неожиданные манёвры. Отец не тревожит меня никакими приказами, но мои осведомители из его шатра уже донесли мне, что он намерен отозвать половину моих сил.
Так или иначе, я предписываю командирам держать коней налегке, не перекармливать и поить умеренно. Лошадям, как и нам, лучше идти в бой с лёгким желудком. День проходит в ожидании. Ближе к вечеру нашим аванпостам удаётся захватить двоих пленных. Клит Чёрный приводит их ко мне. Я, разумеется, должен незамедлительно отослать пленников отцу, что и будет сделано, но...
– Дай-ка мне этих пташек, Александр. Ручаюсь, что им есть что спеть.
Клит был старше меня на шестнадцать лет и являлся столь отъявленным проходимцем и мошенником, какого только может произвести моя страна, признанная родина плутов. Позднее, уже во время Афганской кампании, он и Филот (будущий командир «друзей»), единственные из высшего командования отказались последовать моему примеру и продолжали носить бороду после того, как я стал начисто бриться сам и поощрять эту манеру в подчинённых. Филот не пошёл на это из тщеславия, а Клит в силу верности Филиппу. Я не затаил на него зла. Кто-кто, а уж Клит, человек с железными яйцами, умел драться и тысячу раз доказал свою храбрость. Когда я был младенцем, Клит был правой рукой моего отца и его возлюбленным, именно ему было доверено держать меня на руках при свершении обряда наречения имени. Он никогда не упускал случая упомянуть об этом публично, эта манера и раздражала меня, и в то же время забавляла.
Клит мастерски владеет кинжалом и удавкой. Царь, по слухам, не раз прибегал к его услугам, Гефестион именует его не иначе как головорезом, а моя матушка дважды пыталась его отравить. Наверное, за дело, но он настолько бесстрашен, и на ратном поле, и в споре, что дерзость его речей внушает мне уважение и даже любовь.
Если мы с Гефестионом переживаем из-за урона, который вынуждены будем нанести «священному отряду», то уж Клит-то по этому поводу нежничать не собирается. Ему, напротив, не терпится поскорее ввязаться в схватку и начать напропалую рубить вражьи головы. Ну а высокие достоинства противника, на его взгляд, лишь усиливают удовольствие.
Он, как сказано у драматурга Фриниха о Клеоне Афинском, «негодяй, но наш негодяй».
Мы задаём пленным вопросы, касающиеся завтрашней диспозиции «священного отряда». Оба клянутся, что отряд будет стоять на правом фланге, напротив реки. Я им не верю.
– Каково твоё ремесло? – сурово спрашиваю я старшего.
Он говорит, что является наставником в области геометрии и математики.
– Тогда скажи, как в правильном треугольнике соотносятся квадрат гипотенузы и сумма квадратов двух других сторон.
На пленного нападает приступ кашля, и Клит, уткнув в него остриё меча, спрашивает:
– Ты, часом, не актёр, а, приятель?
И то сказать, кудри у пленных напомажены и завиты, что наводит на мысль о театре.
– А ну, сукины дети, прочтите нам что-нибудь из «Медеи».
Я думаю о том, что разместить «священный отряд» на правом фланге фиванцы могут разве что в припадке безумия. В этом случае мой левый фланг наверняка их сметёт. Впрочем, не смогут ли они быстро сдвинуться с этой позиции к центру, соединившись с соседними подразделениями так, как если бы захлопнулись ворота? Нет, попытаться, возможно, и попытаются, но, если я поддержу пешую атаку конницей и обойду их с тыла, ничего у них не получится. Я обсуждаю такую возможность с Антипатром, которого отец приставил ко мне в качестве наставника и советника.
– Александр, отряд встанет или на левом крыле, или в центре, – заявляет он. – На такую глупость, чтобы оставить его у реки, не способны даже фиванцы.
Размышления и споры продолжаются до полуночи, после чего мы с Гефестионом начинаем собирать и строить людей.
Херонея славится своими ароматными травами, которые вовсю используются торговцами благовониями. С наступлением темноты плывущие над долиной ароматы становятся ещё сильнее.
– Ты чувствуешь это, Александр?
Он имеет в виду ощущение чего-то эпохального.
– Да. Как вкус железа на языке.
Мы оба думаем, что эта благоухающая долина к завтрашнему полудню пропахнет кровью и смертью. Потом я осознаю, что мой друг плачет.
– Что случилось, Гефестион?
Чтобы сформулировать ответ, ему требуется некоторое время.
– Знаешь, меня как громом поразило нежданное понимание того, что этот столь совершенный во многих отношениях момент уже никогда не повторится. С завтрашним днём изменится всё, и главным образом многие из нас.
Я спрашиваю, почему это заставило его плакать.
– Мы станем старше, – отвечает он, – и сделаемся более жестокими. Сейчас мы находимся в преддверии, накануне великих событий, а тогда окажемся внутри. Это совсем иное качество.
Он отстраняется, и я, присмотревшись, вижу, что его бьёт дрожь.
– Дело в том, – поясняет мой друг, – что то широкое поле разнообразных жизненных возможностей, которое лежит перед нами сейчас, к исходу завтрашнего дня невероятно сузится. Свободу выбора заменит свершившийся факт и суровая необходимость. Завтра мы перестанем быть юношами, Александр, но станем мужчинами.
Позволю себе процитировать слова Солона: «Тому, кто проснулся, пора прекратить видеть сны».
– Не бери в голову, Гефестион. Завтрашний день принесёт именно то, ради чего мы были рождены. Возможно, на небесах дело обстоит по-другому, но в нашем мире любое приобретение неизбежно связано с потерей.
– Ты прав, – с угрюмой серьёзностью соглашается Гефестион. – Значит ли это, что я потеряю твою любовь?
Так вот что тревожит его нежное сердце! Теперь в дрожь бросает меня.
– Ты никогда не потеряешь этого, мой друг. Ни здесь, ни на небесах.
За два часа до рассвета прибывает курьер. Все командиры и начальники собираются, чтобы получить последние приказы. В шатре Филиппа царит полная сумятица: помимо высших военачальников и командиров крупнейших соединений пехоты и конницы Македонии туда понабились командиры союзных нам фессалийцев, иллирийцев и фракийцев. Среди них немало вождей полудиких племён, славящихся своим хвастовством и буйством, но в этот час все они напряжены и встревожены. Что ни говори, а войне всегда сопутствует страх, и сейчас даже эти дикие вепри Севера ощущают доносящуюся из темноты поступь Смерти.
Сам Филипп при этом, как всегда, опаздывает. Его походный шатёр латан-перелатан и, совершенно определённо, взят из обозного старья. Куда подевался настоящий царский шатёр, ведомо лишь небесам. Ночью похолодало, поднялся порывистый ветер, и полощущиеся на нём, что твои паруса, стенки палатки то и дело производят резкие, громкие хлопки. Снаружи артачатся привязанные у кольев низкорослые лошадки курьеров, а внутри чадят на ветру факелы.
Все полководцы понимают, что завтра им предстоит главная битва в их жизни, битва против фиванцев, низвергших могущество Спарты и не знавших поражений в течение тридцати лет. Их поддерживают лучшие военачальники половины Эллады – Афин, Коринфа, Ахайи, Мегары, Эвбеи, Коркиры, Акарнании и Левкадии, – а также пять тысяч наёмников, собранных отовсюду, включая даже Италию.
И все, кроме наёмников, явились защитить свои очаги и святилища. Сегодняшний день должен изменить мир. Это столкновение решит судьбу не только Эллады, но Персии и всего Востока, ибо, восторжествовав здесь, Филипп не остановится на достигнутом, но направится из Европы в Азию, дабы ниспровергнуть устоявшийся мировой порядок.
Люди и даже животные напряжены до предела: нервы у всех натянуты, как тетива. Многоопытные начальники отрядов, за плечами которых с полсотни походов, с трудом справляются с тревогой, и лишь самые молодые командиры болтают и разминаются на холодке, как застоявшиеся жеребята. Со стороны проёма, выходящего в сторону пикетов, доносятся шаги.
В шатёр пружинистым шагом входит мой отец, и всех нас охватывает такое чувство, будто явился могучий лев. Каждый волосок на моём теле встаёт дыбом, но в то же время на смену трепетному воодушевлению приходит неколебимая уверенность. Командиры вздыхают с нескрываемым облегчением: он здесь, с нами, а значит, мы не можем потерпеть поражение.
Я не свожу с отца глаз. Удивляюсь тому, как мало он делает, чтобы воодушевлять и окрылять людей. Он не возвышает голоса да и вообще не выказывает никакого намерения привлечь к себе внимание. Все военачальники, даже величайшие из великих, смотрят на него неотрывно, в то время как он рассеянно грызёт кость с вяленым мясом – такие в армии прозвали «собачьими ляжками». Помощник вручает ему свиток, и он, чтобы принять его, берёт «собачью ляжку» в зубы и вытирает одну руку о плащ, а другую о бороду. Парменион и Сократ Рыжебородый, командир «друзей», расступаются в стороны от царского походного кресла, свитский мальчик выдвигает его вперёд, и отец, вместо того чтобы занять место во главе стола и руководить военным советом, плюхается на это сиденье, как куль с овсом. После чего дожёвывает своё мясо. Создаётся впечатление, будто «собачья ляжка» волнует его куда больше, чем предстоящее сражение.