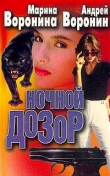Текст книги "Александр Великий. Дорога славы"
Автор книги: Стивен Прессфилд
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 27 страниц)
Глава 36
БИТВА У ГИДАСПА

Эту битву мне нет нужды описывать в подробностях. Ты был там, Итан. Ты сражался, ты победил. Я не вижу необходимости пересказывать тебе то, что ты видел собственными глазами.
Вместо этого я буду говорить о роли этого сражения. О том, какое значение имело оно и для меня, и для армии.
Оно было тем единственным, что нам тогда требовалось: битвой героического масштаба с достойным и доблестным противником, отважно защищавшим свои позиции. В конце концов поле осталось за нами, но, что в данном случае было даже важнее, нам удалось сохранить жизнь и самому Пору, и сколь можно большему количеству его кшатриев. Одолев упорного и мужественного противника, мы не опустились до расправы и мародёрства, но смогли проявить великодушие и одержали победу не только над неприятелем, но и над тем разбродом и шатанием, который в последнее время был бичом нашей армии.
Сама же победа была блестящей, возможно, величайшей из одержанных под моим командованием. Я утверждаю это, ибо она потребовала совершенно новой стратегии и тактики, нетрадиционного подхода к организации наступления и изумительной слаженности и координации со стороны рассредоточенных соединений – трёх обособленных корпусов, отделённых друг от друга аж ста пятьюдесятью стадиями, и действовавших на фронте протяжённостью в двести пятьдесят стадиев по обоим берегам могучей реки. В этом сражении (которое, по правде говоря, представляло собой сложную комбинацию, сочетавшую удар с воды с сухопутной операцией) перед нашей армией встала самая сложная за всю её боевую историю задача по согласованной, выверенной по времени передислокации в труднейших условиях огромного воинского контингента. На семистах ладьях и одиннадцати сотнях плотов надлежало переправить сорок семь тысяч солдат и семьдесят пять сотен лошадей (большую часть пришлось переправлять ночью, во время муссона), со всем вооружением и боевым снаряжением, включая полевые баллисты и катапульты. Это потребовало величайшей гибкости и способности к импровизации со стороны находившихся в отрыве один от другого командиров, многие из которых говорили на разных языках. Наступление велось с форсированием естественных и искусственных преград, на беспрецедентно широком фронте, против неприятеля, сражавшегося не только ради победы, но и защищавшего свою родину и свободу. Одни лишь затраты физической энергии были таковы, что все предыдущие операции меркнут по сравнению с этим грандиозным свершением.
Всё начинается с броска в сто восемьдесят стадиев вверх по течению, по вязкой грязи, совершенного во время продолжавшейся всю ночь грозы, сопровождавшейся подобным потопу ливнем. Конечно, непогода скрыла нас от противника, но зато превратила русло реки, и без того вспухшее после ранних дождей, в завывающий бурный поток. Затем следует переправа через этот поток, причём ширина его составляет почти десять стадиев, и последнюю треть многим приходится преодолевать вплавь. И всё это имеет место до сражения, даже до построения в боевой порядок, осуществлённого уже на том берегу. Потом следует марш на сближение протяжённостью сто пятьдесят стадиев и происходящее на заболоченной местности столкновение с противником, чей фронт растянулся на двадцать стадиев, а силы составляют восемнадцать тысяч конницы, сто тысяч пехоты и две сотни боевых слонов. Последних доселе ни одна армия Запада даже не видела, не говоря уж о том, чтобы вступить с ними в бой и победить. И это только физические трудности. Душевных сил было затрачено не меньше, если не больше. Ибо по мере того, как разворачивалось сражение, оно преподносило нам множество неожиданностей. Обстановка чуть ли не ежеминутно резко и непредсказуемо менялась, причём помимо действий противника на это влияли и наши собственные, неизбежные при осуществлении операции такого размаха и такой сложности ошибки. Наиболее драматичный просчёт допустил я сам, направив на противоположный берег, предназначавшийся для захвата плацдарма, семитысячный передовой отряд, который оказался перед промытым стремительным потоком речным рукавом, преодолеть который можно было только вплавь.
По ходу дела нам приходилось отбрасывать один план за другим и придумывать новые, когда вопрос о жизни и смерти решали мгновения. Подчеркну, что принимать мгновенные, самостоятельные решения приходилось не только мне и высшим военачальникам, но и десяткам командиров подразделений. Из-за всей этой неразберихи, больших расстояний и продолжительности боя они потеряли связь как с командованием, так и друг с другом. Сражение длилось с вечера одного дня, когда первые колонны выступили к находившейся в ста восьмидесяти стадиях от лагеря переправе, до заката следующего, когда бой завершился на противоположном берегу. Сутки люди и кони были вынуждены обходиться без сна и еды, разве что некоторым счастливцам удавалось перехватить что-нибудь на бегу.
Это испытание солдаты и командиры выдержали блистательно. Атака конных лучников Даана на левое крыло противника, поддержанная фланговым ударом «друзей», оказалась столь яростной и кровопролитной, что превзошла даже столкновение с Дарием при Гавгамелах. Гефестион получил три раны, пробиваясь со своими людьми сквозь ряды неприятельской конницы, имевшей пятикратное численное превосходство. Пердикка, Птолемей, Пифон и Антиген, возглавлявшие пехоту с сариссами, и Таврон, командовавший стрелками из Мидии и Индии, выступившие против сплошной стены поддержанных пехотой неприятельских боевых слонов, хотя и понесли страшные потери, прорвали вражеский строй и, атакуя огромных животных, привели их в ярость и бешенство, заставив метаться по полю, топча своих же бойцов. Воцарился хаос, и, когда на противника обрушилось крыло Коэна, вражий хребет был сломлен.
Наши иностранные формирования показали себя великолепно. Скифские конные лучники отбросили неприятельских колесничих, возглавлявшихся сыном Пора, персидская конница Тиграна прорвала правый флаг индийцев, таксилианские царские всадники раджи Амбхи потеснили пенджабских копейщиков, а метатели дротиков из Фракии, действуя совместно с конными саками и массагетами, произвели сокрушительную контратаку. Ну а наступавшие в центре «серебряные щиты» Матиаса и Вороны, вместе с их братьями из царских телохранителей (первоначальных «серебряных щитов») Неоптолема и Селевка, были просто непобедимы.
Что же до меня, то и на переправе, и даже в самый разгар схватки мне приходилось думать не только о ходе боя, но и о своём коне. Когда Буцефал, которому уже миновал двадцать один год, переплывал поток со мной на спине, у него чуть не разорвалось сердце, однако моя попытка пересесть на Корону не увенчалась успехом: он мне просто этого не позволил. То же самое случилось и после возобновления битвы. При попытке передать его на попечение Эвагора Буцефал одарил меня столь гневным взглядом, что мне пришлось оставить это намерение. Он не давал мне сойти с него до тех пор, пока львиный стяг Македонии не восторжествовал над всем полем битвы.
Какая ещё армия смогла бы совершить то, что совершила наша? И это при том, что ещё в предшествующее сражению утро большая часть войска не просто не хотела идти в бой, но была близка к тому, чтобы взбунтоваться и обратить в ничто все наши усилия.
Думаю, этой победой я имею право гордиться более, чем какой-либо другой, и, насколько могу судить, мои полководцы и друзья придерживаются на сей счёт того же мнения. В отличие от многих других случаев от меня не требовалось никакого вмешательства для предотвращения излишних кровопролитных эксцессов: уважение к противнику само по себе держало воинов в узде.
Сам Пор явил в бою великое умение и отвагу. Бился он на спине своего боевого слона, который и сам показал себя героем. Индийский владыка получил множество ран, причём столь тяжких, что, когда по окончании битвы он спустился со слона, сил, чтобы взобраться туда снова, у него уже не нашлось. Говорят, мудрое животное усадило его на себя хоботом.
Когда я послал раджу Амбхи к Пору с требованием признать своё поражение, он, хотя и знал, что сражение им проиграно, отказался капитулировать перед человеком, которого считал своим врагом. Сдался он лишь после того, как я направил к нему его друга Беоса, предложившего самые почётные и достойные условия и для него, и для его людей.
– Как должно тебя принимать? – спросил я Пора, когда его доставили ко мне.
– Как царя, – ответил он, и мы обращались с ним со всем почтением, подобающим царю.
Одержанная победа предоставила мне приятную возможность проявить великодушие. Благородный противник заслуживает благородного обхождения. Условия, на которых мы с Пором договорились о мире, более походили не на капитуляцию побеждённого перед победителем, а на договор о союзе, скреплённый щедрыми дружескими дарами. Все пленные были освобождены в тот же день, без выкупа и каких-либо условий, получив назад оружие. Во дни, последовавшие за примирением, мы с моим новым другом с удовольствием соперничали в дружелюбии и щедрости.
Павшие с обеих сторон были погребены с почестями в общем кургане, а оставшиеся в живых, оплакав павших, в память о них обменялись обетами, поклявшись никогда впредь не поднимать оружие друг против друга.
Наконец, и это самое главное, войско вновь обрело «dynamis», жажду битвы. Долгая, утомительная и губительная для морального состояния борьба с разбойниками и головорезами завершилась. Даром, который преподнёс Пор македонской армии, стала она сама, её возрождённая гордость и заново пробуждённый боевой дух.
Время шло к закату, битва завершилась. Начался дождь. Не такой потоп, как в прошлый день, но очистительный дождь, придавший небесам молочный оттенок. Верхом на Короне я вернулся к побережью напротив нашего лагеря. Целители и лекари из формирований Кратера и Мелеагра, находившиеся в резерве на той стороне Гидаспа, теперь переправились сюда, ибо раненым в схватке требовалась неотложная помощь. Прямо посреди лукового поля был устроен полевой лазарет, куда на всех имевшихся в наличии повозках и телегах свозили раненых, как македонцев, так и индийцев. Присмотревшись, я различил там двух наших целителей, Марсия из Кротона и Луку с Родоса. На моих глазах к ним подбежал мальчик, видимо с каким-то посланием. Неожиданно оба врача вскочили, выбежали из-под навеса и со всей быстротой, на какую были способны, помчались прямо по раскисшему полю по направлению к проходившей у береговой насыпи размокшей дороге.
Я проследил за ними взглядом, увидел толпу солдат, в отчаянии сгрудившихся над чьим-то телом. Было очевидно, что кто-то расстался с жизнью. Причём кто-то видный и уважаемый.
Каждый волосок на моём теле встал дыбом. Гефестион? Нет, я ведь его видел: он ранен, но его жизни ничто не угрожает. Кто же? Кратер? Птолемей? Пердикка?
Я перешёл на рысь, потом на галоп. Индийцы выращивают на насыпных грядках овощи, и сейчас копыта Короны топтали их, разбрызгивая ошмётки и сок. Когда я оказался примерно в тридцати локтях от группы воинов, некоторые из них узнали меня и вскочили, побледневшие и напряжённые. И тут в их числе я увидел своего конюха Эвагора.
Теперь стало ясно, что они хлопотали не над человеком.
Я спешился и направился вперёд сквозь ряды солдат, которые расступались передо мной, снимая шлемы и подшлемники. Буцефал лежал на правом боку, и я сразу увидел, что его великое сердце больше не бьётся. В своём воображении я тысячу раз рисовал себе этот скорбный миг, неизбежность которого полностью осознавал, однако это никоим образом не смогло подготовить меня к ужасной действительности. Ощущение было такое, будто кто-то с титанической силой ударил меня в солнечное сплетение. При этом я чувствовал не столько скорбь по Буцефалу, ибо верил, что его вольный дух пребывает в блаженстве, сколько сострадание и жалость к себе, оставшемуся в одиночестве. И ко всему нашему народу, лишившемуся сего светоча доблести и величия духа. Я пошатнулся, упал на одно колено и удержался в этом положении, лишь схватившись за руку Эвагора.
Один из солдат держал голову Буцефала на коленях. При моём приближении он заметно растерялся, не зная, вставать ли ему, как подобает при виде царя, или оставаться на месте.
– Положи его голову сюда, – молвил я, тронув бойца рукой за плечо, однако снять и расстелить плащ так и не смог: у меня совершенно не было сил. Эвагору пришлось мне помочь.
Было очевидно, что воины сделали всё возможное, чтобы спасти Буцефала, однако они были бессильны. Годы и переутомление вынесли ему свой безжалостный приговор.
– Узнай имена этих благородных людей, – приказал я Эвагору после того, как немного собрался с силами.
Они оказались всадниками-одриссами из отряда Менида, возглавлявшегося, во время его отсутствия, Филиппом, сыном Аминты.
Лекарям Марсию и Луке я приказал вернуться к их обязанностям. Раненые солдаты, как я понял, тоже одриссы, нуждались во врачебной помощи. Они не уходили. Как и у македонцев, у этих сынов Фракии имелся обычай убивать коня на могиле его всадника и хоронить обоих в общей могиле, чтобы они оставались неразлучными и в ином мире. Здесь, на луковом поле, под непрекращающимся дождём, они предложили мне заполнить могилу Буцефала телами их коней. И их собственными.
– Нет, друзья мои, – был мой ответ. – Но каждую предложенную вами каплю крови я верну вам отлитой из золота. А сейчас я с благодарностью прошу вас вернуться в свои подразделения.
А вот панегирик, который был произнесён мною над могилой Буцефала два дня спустя.
– Когда я впервые увидел этого коня, он был четырёхлетком, едва познакомившимся с удилами. На конской ярмарке в Пелле его демонстрировали среди других великолепных скакунов. Буцефал затмевал всех, как солнце затмевает звёзды, но покупателя на него не было, ибо он яростно лягался, не позволяя никому сесть на него верхом. Мой отец отказался от приобретения, заявив, что этого коня невозможно объездить. Мне в ту пору было тринадцать, и я, как это свойственно мальчишкам, тем паче царского рода, был весьма высокого мнения о своём предназначении. С первого взгляда я понял, что тот, кого признает сей скакун, будет достоин власти над миром. А ещё я понял, что смирить столь высокий дух возможно, только разбив своё сердце. Ни один наставник не дал мне столько, сколько этот конь. Ни одна военная кампания не пополнила мои познания в большей степени, чем общение с этим животным. Тысячи дней и ночей, будучи юношей и став мужчиной, я неустанно трудился, стараясь поднять себя до тех высот, на коих обитала его душа. Он требовал меня всего, но, приняв этот дар, воздал за него сторицей, дав мне гораздо больше. Наша армия стоит здесь благодаря Буцефалу. Это он прорвал строй «священного отряда» при Херонее, чего не смог бы никакой другой конь. При Иссе и Гавгамелах кони «друзей» мчались в атаку, следуя не за мной, а за Буцефалом. Да, он мог быть неистов, да, он мог быть неукротим. Но нельзя подходить к столь высокому духу с обыденными, привычными мерками. Почему Зевс являет Земле чудеса и посылает тех, кто одарён превыше мыслимых возможностей? Не потому ли, почему, по воле Его, комета перечёркивает небеса в своём ужасающем величии? Ему угодно показать, что может существовать нечто несравненно большее, чем дано видеть нам в повседневности.
Заканчивая панегирик, я возгласил:
– На этом месте будет заложен город с именем Буцефалия. И да благословят небеса всех, кто обретёт жилище в его стенах.
Взявшись за лопаты, мы насыпали над могилой моего незабвенного друга земляной курган.
– Друзья мои, многие из вас пытались утешить меня в моём горе, напоминая о долгой жизни, выпавшей Буцефалу, о его любви ко мне, о его смелости и славе, о том даже, что его место среди звёзд. Вы указывали мне на то, что передо мной лежит весь необъятный мир и, обыскав все его уголки, я могу найти для себя любого коня и вырастить из него нового Буцефала. Увы, я в это не верю. Нигде под небесами нет и не может быть ему равного. Он был, но более его нет. Воистину, когда настанет и мой час, надежда на встречу с ним в иной жизни сделает для меня расставание с миром менее горестным.
И тут над равниною прокатился громовой раскат. Небо осветилось всполохами молний. Люди и я вместе с ними застыли, поражённые мощью и величием этого знамения.
– Македоняне и союзники, я знаю, что подверг вас тяжким испытаниям. Требования, предъявлявшиеся мною к вам, непременно сломили бы любого другого и были посильны лишь для вас, с вашей безмерной стойкостью. Вы всегда верили мне, братья, так поверьте же ещё раз. Победа сделала нас прежними! Мы снова обрели себя. Всё остальное не имеет значения. Так идём же вперёд, с верой в своё предназначение. Вперёд, и никакая сила в мире на сможет нас остановить!
Эпилог
ИТАН

То были последние слова, сказанные мне Александром для записи. В следующий вечер, когда я предстал перед ним, он поблагодарил меня за столь долгое пребывание в роли его исповедника (что, как заявил царь, сослужило добрую службу) и велел мне возвращаться к моим постоянным воинским обязанностям.
Что я и сделал.
После тридцатидневного отдыха армия продолжила продвижение на восток. Форсировав Акесин, ещё один могучий поток, а за ним Гидраот, она присоединила к владениям Пора обширные земли его недругов. Но тут юго-западный муссон принёс дожди. Семьдесят дней подряд армия, словно в душной парилке, хлюпала по превратившейся в сплошное болото земле, под непрекращающимися ни днём ни ночью, подобными неистовым водопадам ливнями. Боевой дух неуклонно падал. Хуже того, когда местных жителей спрашивали о расстоянии до Восточного Океана (находившегося, по утверждению Александра, «недалеко» и провозглашённого им конечной целью похода), из их ответов следовало, что, дабы добраться туда, надобно преодолеть тысячи стадиев, причём путь пролегает через широкие реки, подпирающие небеса горы, безжизненные пустыни и страны, обороняемые неисчислимыми и могучими воинствами. Если этот Океан вообще существует. И это после того, как, по подсчётам участников похода, армия за последние восемь лет оставила позади сто двенадцать тысяч стадиев.
Наконец на реке Гифасис к нему явилась делегация военачальников и «друзей», которые от имени всей армии стали молить его о милосердии. Они утверждали, что силы, стойкость и выносливость македонцев исчерпаны. Дальше на восток войско идти не может.
Александр с негодованием отверг их просьбу и в ярости вернулся в свой шатёр. Прежде подобное неудовольствие мигом привело бы армию к покорности, но теперь люди были решительно настроены настоять на своём. Когда царь уразумел, что никакие слова и действия не заставят солдат отступиться от их намерений, он устроил публичные жертвоприношения. Было явлено множество знамений, недвусмысленно указующих на то, что высшие силы едины с его воинами. Боги и солдаты желают одного и того же.
Царь во всеуслышание объявил, что во исполнение воли небес его армия поворачивает назад.
Он, никогда не терпевший поражения ни от вражеских армий, ни от неодолимых стихий природы, вынужден был уступить, снизойдя к слабости своих соотечественников. Узнав о его решении, они тысячами собрались у царского шатра, рыдая от счастья. Люди благословляли и восхваляли его, предвкушая путь домой и лелея счастливую надежду увидеть наконец своих жён и детей, престарелых отцов и матерей и любимую родину, с которой они так долго были разлучены.
Но и повернув на запад, Александр продолжил политику завоеваний, подчинив множество стран и народов, значительнейшими из которых были оксидраки, маллы., брахманы, агалассы, сидраки, такие царства, как Мусикан, Портикан и Самбус. Кроме того, он проложил неведомые дотоле пути к Арабскому океану и Персидскому морю.
В Сузах он устроил пышную, торжественную церемонию бракосочетания девяноста девяти виднейших командиров «друзей» с дочерьми представителей персидской знати. Сам он взял в жёны старшую дочь Дария Статиру, предназначив Гефестиону её младшую сестру Дрипетис. Ему очень хотелось, чтобы сыновья, его собственный и его ближайшего друга, были двоюродными братьями. Он щедро одарил «друзей», дал за всеми невестами богатое приданое и обещал золотую чашу каждому македонскому солдату, который возьмёт себе жену на Востоке. Таких (по спискам на выдачу награды) набралось около десяти тысяч.
В Экбатанах спустя два года после того, как армия повернула назад, Гефестион неожиданно подхватил лихорадку и умер. Казалось, что сама земля не сможет выдержать силы обуявшего Александра горя. Дабы почтить усопшего друга, он повелел возвести монумент в сто двадцать локтей высоты, стоимостью в десять тысяч талантов, приказал в знак траура остричь гривы всем лошадям и мулам и даже обрушить венцы сторожевых башен, дабы и они выглядели скорбящими.
Я служил командиром «агемы» «друзей», так что по долгу службы, находился при его особе от шести до двенадцати часов в сутки. Могу заявить и прошу мне поверить, что хотя внешне Александр выглядел столь же бодрым и деятельным, как всегда, но смерть Гефестиона сделала его другим человеком.
Впервые он начал заговаривать о своей возможной смерти, высказывая мрачные предчувствия относительно будущих настроений и предсказывая неизбежную борьбу за раздел его наследия. У Роксаны в ту пору родился младенец, и царь тревожился за его судьбу, как, впрочем, и за мою. Он опасался, что после его ухода честолюбцы и властолюбцы найдут способ дискредитировать нас, лишить всех прав, а то и убить, дабы мы самим своим существованием не смогли препятствовать осуществлению их замыслов.
По возвращении в Вавилон Александр посвятил своё внимание подготовке новых кампаний: следующий поход намечался в Аравию. Однако поздней весной одиннадцатого года с начала вторжения в Азию он неожиданно занемог. Состояние его, несмотря на все усилия врачей, стало стремительно ухудшаться.
Солдаты, возбуждаемые слухами о том, что царь умер, и не желая внимать увещеваниям командиров, уверявших, что он ещё жив, собрались взволнованной толпой у дворца, требуя доступа к его особе. В конце концов разрешение было получено. Один за другим товарищи по оружию проходили мимо царского ложа. Говорить Александр уже не мог, однако он узнавал каждого из ветеранов и благословлял его взглядом. А в тот же вечер его дух навсегда покинул земную юдоль.
Это случилось пятнадцатого таргелиона по афинскому календарю, или двадцать восьмого десиуса по македонскому, в год сто четырнадцатой олимпиады.
Александру было тридцать два года и восемь месяцев.
Мне не под силу передать в полной мере картину уныния и скорби, охвативших всех при известии о его кончине. Скажу лишь, что горестно оплакивали его как персы, так и македонцы. Первые лишились милосердного и щедрого властелина, вторые – несравненного и блистательного вождя.
Масштаб сверхчеловеческой личности и невероятных свершений Александра был таков, что стоило ему покинуть этот мир, как хроника его деяний, не пробыв и часа достоянием истории, перешла в область легенд и героических преданий. А порой и просто волшебных сказок. С его уходом в центре мира образовалась ощутимая пустота, но в то же время он и из могилы продолжал оказывать на ход событий столь сильное влияние, что, даже когда его полководцы принялись делить между собой созданную им империю, они смогли достичь соглашения и не пролить моря крови лишь потому, что чувствовали на себе его взор. Их встречи и переговоры проходили в его шатре, перед его пустым троном, на котором покоились его царская корона и скипетр. Люди боялись задеть даже тень Александра, полагая, что воля того, кто превзошёл всех в мире, способна преодолеть всё и гнев его настигнет их даже из подземного мира.
И теперь, возможно, будет не столь уж неуместным для очевидца поведать обо всём голосом своего сердца.
Право оценивать Александра как царя я оставляю будущим историкам: моя задача в том, чтобы рассказать о человеке. Многие ставили ему в вину порок самовозвышения (будто они смогли бы избежать этого, оказавшись на его месте), но я всегда знал его как человека исключительного благородства и великодушия. Ко мне, зелёному юнцу, он относился как к товарищу и солдату, открывая своё сердце без тени высокомерия и фальши.
Никто не придавал меньшее значение масштабу своих свершений, нежели он, всегда заявлявший, что хочет быть всего лишь солдатом. Кем и являлся. Он был неподвластен ни жаре, ни холоду, ни голоду, ни усталости, ни, что ещё важнее, алчности и скаредности. Снова и снова я лицезрел примеры того, что о товарищах он заботился куда больше, чем о себе. Домом ему служила лагерная палатка, постелью – собственный плащ. Он и одевался как солдат, практично и просто, презирая всякого рода роскошества и пышность. Зима и лето были для него одинаковы, ад в его представлении являлся местом, где люди обречены на безделье. Он обретал себя перед лицом невзгод, взыскуя не покоя и неги, но трудностей и опасностей. Не было до него человека, внушавшего такую любовь соратникам и такой ужас врагам. Он был прекрасным оратором, но для того, чтобы воспламенить сердца своих боевых товарищей, вовсе не нуждался в словах: ему стоило лишь явиться пред ними. Один лишь вид их царя делал робких солдат смелыми, а смелых превращал в легендарных героев. То, что он совершил, не сводится к тринадцати годам непрекращавшихся военных кампаний. Кто в мире одержал столько побед и завоевал столько земель? Кто сможет повторить его деяния в будущем?
То, что Александр сказал своему любимому Буцефалу, вполне применимо и к нему самому: он принадлежит не кому бы то ни было, включая самого себя, но небесам.
Почему Зевс являет Земле чудеса и посылает тех, кто одарён превыше мыслимых возможностей? Не потому ли, почему, по воле Его, комета перечёркивает небеса в своём ужасающем величии? Ему угодно показать, что может существовать нечто несравненно большее, чем дано видеть нам в повседневности.
Однако я должен добавить, что Александр во всём был человеком, возможно, даже слишком человеком, ибо его свершения, причём не только благие, были полны страсти и благородного воодушевления и никогда не диктовались холодным, бессердечным расчётом. Мир, в котором он обитал, был населён не его современниками, а героями легенд, в нём жили Ахилл и Гектор, Геракл и Гомер. Парадоксально, но хотя ни один другой человек не повлиял на свою эпоху столь сильно, как сделал это Александр, сам он принадлежал не ей, а веку полубогов и великих, благородных героев. Тому воспетому поэтами веку, которого, возможно, в действительности никогда и не было, но который существовал в его воображении.
Мне неведом ни один человек, знавший его лично и после его смерти сказавший о нём хоть одно дурное слово. Ошибки и преступления реального человека полностью затмило ослепительное сияние его призрака, и по прошествии времени мы думаем о нём со всё большим благоговением и трепетом, словно с расстояния нам становится виднее, кого мы лишились.
Ну а закончу я этот документ рассказом об одном случае, приключившемся в Индии. На реке Гифасис, когда его армия отказалась идти дальше, он воздвиг три величественных алтаря, дабы навеки обозначить, как далеко простёрлась его десница. Я, в числе многих придворных и военачальников, присутствовал при освящении этих монументов. День был ясный и ветреный, какие обычно и стоят в этой стране в перерывах между подобными водопадам неистовыми ливнями. По завершении церемонии, когда все уже собрались вернуться в воинский стан, Теламон, наёмник, предстал перед царём. Между ним и Александром долгие годы существовало полное взаимопонимание, и во всей армии лишь ему могло быть позволено попросить отставки в любое время, когда ему заблагорассудится. Что он сейчас и сделал.
Александр поначалу выслушал эту просьбу с удивлением и неверием, ибо и представить себе не мог, что вдруг разлучится со старым другом и соратником в столь многих кампаниях. Прежде всего ему пришло в голову, что наёмник недоволен своим положением, и он спросил: чего ему недостаёт? Чего он хочет? Сокровищ? Женщин? Почестей и чинов?
Аркадец с улыбкой ответствовал, что всё это ему опостылело. Всё, к чему он стремился прежде, есть лишь пусть блистательная, но видимость, нечто вроде сосуда, скрывающего подлинную суть. Важно же не что снаружи, а что внутри.
Поражённый этими словами, Александр спросил наёмника, куда тот собирается отправиться и чем заняться.
Теламон указал на восток, в сторону большой дороги, по которой во множестве брели индийские паломники.
– Вот что меня интересует, – сказал он и добавил, что хотел бы стать их учеником.
– А о чём ты желаешь узнать? – осведомился Александр.
– О том, что делать, если человек перерос в себе воина.
Александр улыбнулся и протянул ему правую руку.
Теламон ударил ладонью по ладони и сказал:
– Идём со мной.
Я стоял слева от Александра, почти вплотную, и мне показалось, будто на какой-то миг царь и вправду задумался над этим предложением. Затем он рассмеялся. Разумеется, ни о каком паломничестве не могло быть и речи: его ждали новые цели, новые проблемы и новые заботы. Конюхи подвели лошадей. Что-то побудило меня остаться близ Теламона. Когда Александр уже собрался сесть в седло, его слуха неожиданно коснулась нежная, печальная мелодия. Царь повернулся на звук, в сторону временного лагеря царских копейщиков, и увидел, что этот меланхолический мотив выдувает ветер, блуждая между древками составленных вертикально кавалерийских сарисс.
– Сариссы поют, Теламон, – сказал Александр. – Скажи мне, неужели ты позабудешь их песню?
Царь и наёмник обменялись прощальными взглядами. Затем один из юношей свиты помог ему взобраться на спину Короны.
Со временем, конечно, я кое-что подзабыл, но вот песнь сарисс задержалась в моей памяти. Помнится также: Теламон собрался было что-то ответить, но тут Александр обернулся и, словно мелодия подсказала ему слова, продекламировал:
Грустен сариссы напев, как печальная песня свирели.
Он призывает меня голосом мягким и нежным
Брань позабыть и мирному делу предаться.
Но всё, что ведомо мне, это одна лишь война.
В это мгновение порыв ветра приподнял край Александрова плаща. Я приметил, как его бедро сжало бок Короны. Потом он натянул поводья и в окружении свиты поскакал в лагерь.