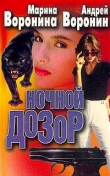Текст книги "Александр Великий. Дорога славы"
Автор книги: Стивен Прессфилд
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
Погода здесь неустойчивая, и местность являет нам множество знамений. Над нашей колонной вьются орлы и вороны. Каждый день после полудня разражается гроза. Небеса рассекают огромные огненные стрелы, хлещут проливные дожди. След бегущего врага, ясный и отчётливый поутру, к вечеру полностью смывается водяными потоками. Мы чувствуем, что это знаменует собой конец державы.
На шестой день от Патрона, греческого командира, который, надо отдать ему должное, остался верным Дарию, прибывает посланец. Патрон сообщает, что царские вельможи готовятся предать царя, и просит меня не щадить усилий ради спасения бывшего властителя. Своего гонца вождь наёмников предлагает нам в проводники. Сам он, по его словам, останется с Дарием, чтобы защищать того от его собственных сатрапов, однако без нашей помощи ему долго не продержаться.
Выжимая из коней всё, что возможно, мы на одиннадцатый день добираемся до города Раги, что в дневном переходе от Каспийских ворот. Пехотинцы больше не в состоянии выдерживать такой темп, даже кавалерийские кони валятся с ног. Дезертиры от Дария прибывают теперь к нам сотнями, говорят, что остальные просто разбегаются по домам.
Мне приходится дать отряду пятидневный отдых, после чего погоня возобновляется. За Каспийскими воротами возле деревни под названием Ашана мы подбираем Дариева толмача, брошенного своими из-за болезни. От него становится известно, что Дарий обезоружен и взят под стражу Бессом и Набарзаном. Бесс, командовавший правым крылом персидского войска при Гавгамелах, является сатрапом Бактрии, той самой страны, куда теперь устремляются дезертиры. Вся оставшаяся у царя кавалерия подчиняется ему, а следовательно, он если не номинально, то фактически изначально являлся хозяином положения.
Я беру с собой лишь «друзей» и копейщиков, а из пехоты только самых молодых и крепких парней: прочие остаются позади, под началом Кратера. С нами оружие и двухдневный паек. Стремительный ночной бросок к следующему полудню приводит нас к деревушке под названием Тири, где мы находим двух воинов Патрона, оставленных на попечении местных жителей из-за полученных ран. Они сообщают, что эллины, не имея сил оборонить царя и опасаясь за собственные жизни, ушли в горы. Дарий остался один, без защитников.
Намного ли они нас опережают?
На шестьсот стадиев.
На преодоление сорока из них у нас уходят весь день и ночь. Двигаться приходится по ухабистой, безводной пустыне, а кони наши измотаны до предела. Однако нам удаётся снова найти след, а потом и брошенный боевой штандарт Дария, золотого орла с распростёртыми крыльями.
Вечерней прохлады наш отряд дожидается, отдыхая в деревушке, настолько бедной, что у неё даже нет названия. Когда мы разводим костры и готовим скудный ужин, из жалкой мазанки выбираются скрывавшиеся там сын Мазея Антибел и вавилонский аристократ Багистан. От них мы узнаем о том, что Дарий ещё жив и находится в двухстах пятидесяти стадиях впереди, его везут на закрытой повозке, под стражей.
Я сокращаю отряд ещё больше, сажаю самых молодых и лёгких на последних коней, которые ещё в состоянии скакать, и к середине утра в пятидесяти стадиях перед нами мы видим предателей. Они тоже видят нас: их колонна рассыпается, и все пускаются наутёк кто куда.
Глава 29
КОНЕЦ ЦАРЕЙ

Тело Дария мы находим в канаве в трёх фарлонгах от главной дороги. Живот царя был пронзён насквозь несколько раз, из чего видно, что он был связан или его держали за руки. Раны смертельные, но не из тех, что убивают мгновенно: перед смертью Дарий претерпел страшные муки. Теламон склоняется над телом, чтобы расправить скомканный плащ и укрыть им поруганный труп бывшего владыки.
– Те, кто убил его, – замечает аркадец, – по крайней мере, соблюли приличия и напали спереди.
– Да, – добавляет Гефестион, – но добить его, чтобы избавить от страданий, им не хватило духу.
Столь гнусное предательство пробуждает во мне приступ безумной ярости. Я снимаю свой плащ и накрываю им тело. Да, игра «Убить царя» велась мною долго и упорно, но я отдал бы всё, чтобы она закончилась по-другому. Царской тиары Дария нет, и это наводит на мысль о том, что цареубийца вознамерился сам претендовать на высшую власть. Рядом с дорогой разбросаны обломки повозки.
– Они держали его в цепях. – Гефестион указывает на оковы, прикреплённые к обломку рамы. – Должно быть, во время подъёма на холм ось колесницы сломалась, и Бесс решил пересадить Дария на лошадь. Но тут царь отказался выполнить какое-то требование узурпатора и был убит.
– Отказался-то от чего? – спрашивает Теламон. – Отдать тиару?
– Нет, к тому времени изменники наверняка уже забрали её. Может быть, он просто не захотел ехать дальше.
– Хватит глазеть да судачить, это недостойно.
Я приказываю обмыть и запеленать тело, дабы передать его царице-матери для погребения в Персеполе, в царской усыпальнице.
– Несите его на носилках завёрнутым в мой плащ, – говорю я, прочитав вопрос в глазах десятника. – Несите так, как если бы это были мои собственные останки.
В Гекатомпиле я снова присоединяюсь к армии, однако оказываюсь во власти меланхолии, какой никогда прежде не испытывал. Передо мной встаёт непростая задача: по иному сформулировать для армии цель похода. Теперь, когда Дарий мёртв, многие сочтут, что задача выполнена, и захотят вернуться домой. Разумеется, остаётся ещё погоня за Бессом, который наверняка подкрепит свои притязания на трон формированием на востоке новой армии. Но что потом? Как удержать войско от распада?
Но моё отчаяние сильнее, чем простая озабоченность. Я ищу уединения и прошу оставить меня всех, кроме Гефестиона, Кратера и Теламона.
В своих покоях, в обществе ближайших друзей, я всё же чувствую себя так плохо, что не могу не только говорить, но даже пить вино. В глазах моих дорогих товарищей угадывается тревога, они опасаются за состояние моего ума. Каждый по очереди пытается как-то объяснить моё удручённое состояние, как будто определение и озвучивание оного способно избавить меня от его хватки.
– Смерть царя ужасна, это всё равно что конец мира, – говорит Кратер.
– Однако, – добавляет Теламон, – это показывает, что и царь всего лишь человек. Он истекает кровью, как простой смертный, и умирает так же, как любой из нас.
– Но тот, кто сам является царём, – подхватывает Гефестион, – не может не увидеть в уходе из жизни своего собрата указание на неизбежность собственного конца.
Нет. Не в этом дело.
Друг мой между тем продолжает:
– Для человека столь благородного склада, как ты, Александр, зло может видеться не столько в самом факте смерти Дария, сколько в том, как он её встретил. Беглецом, закованным в цепи и преданным собственными вельможами.
По его словам, случись нам захватить Дария живым, поддерживать порядок и управлять державой было бы гораздо легче: он мог бы взять на себя исполнение ритуалов и обязанностей, которые не годятся для македонцев. Сохранение Дария в качестве номинального владыки способствовало бы улучшению обстановки и в стране, и в армии.
– Мы потеряли нашего врага, – замечает Кратер. – Его поимка провозглашалась целью наших усилий, но этой цели более не существует, а заменить её нам нечем.
Воцаряется молчание.
– Успех, – говорит Теламон, – есть самое тяжкое бремя из всех возможных. Теперь мы победители. Все наши мечты сбылись.
– Это тоже своего рода смерть, – соглашается Гефестион. – Может быть, самая суровая из всех.
Ночь приходит и уходит.
– Простите, друзья, – говорю я, нарушив наконец молчание. – Идите отдыхать. Со мной всё в порядке.
Требуются минуты, чтобы убедить их, и ещё минуты, чтобы выпроводить за дверь. Распахнув створы, я мельком замечаю тысячи обеспокоенных моим состоянием людей, собравшихся вокруг здания. И хватаю Гефестиона за руку.
– Это из-за него, – срывается с моих уст. – Несомненно.
– Я не понимаю.
– Из-за Дария. Мне хотелось поговорить с ним. Услышать его мнение. Видишь ли, он единственный человек, который занимал ту вершину, на которой теперь должен стоять я.
Мой товарищ внимательно вглядывается в мои глаза. Всё ли со мной в порядке?
– Я хотел слишком многого, – сознаюсь я. – Хотел, чтобы он стал моим другом.
Глава 30
СВИТА

Проходит год. Наша армия продолжает своё всепобеждающее шествие. Как и в результате предыдущих кампаний, под моей властью оказываются огромные территории. Но всё это уже не овеяно прежним духом славы. Славы и справедливости.
Это чувство месяцами донимает меня, когда я остаюсь в своём шатре в окружении юношей из свиты. Со смертью Дария цель нашего похода была достигнута. Мы разграбили столицу Персии и сровняли царский дворец, символ преступлений, совершенных персами против Эллады и Македонии, с землёй. С этим покончено. Царь мёртв.
Теперь наши войска преследуют Бесса, присвоившего царскую тиару и провозгласившего себя владыкой Азии. По вступлении в афганские пределы я с почётом отпустил домой половину наших ветеранов. Несравненная фессалийская конница, все восемь отрядов, с богатыми дарами отбыли в свою Фессалию. Семь тысяч солдат македонской пехоты, получив заслуженное, отправились на родину. Союзники из полисов Эллады, равно как многие из наёмников, тоже получили возможность вернуться, а вместе с этим – больше сокровищ, чем они могли унести. Из ветеранов со мной остались добровольцы, которым повысили жалованье, ядро же наших сил теперь составили греческие и македонские подразделения, недавно прибывшие из Европы или эллинских полисов Малой Азии. Осенью, после смерти Дария, к нам присоединились три тысячи всадников и пехотинцев из Ливии, зимой мы нанимаем ещё одну тысячу сирийских всадников и восемь тысяч пехотинцев. Из Эллады и Македонии прибывают ревностные добровольцы. А почему бы и нет, если в моём распоряжении находятся все деньги мира? В Задракарте, в Гиркании, к армии присоединяется отряд воинов, обученных Тиграном, первое наше боевое подразделение, состоящее исключительно из персов. Теперь у нас есть египетские копейщики, бактрийские, парфянские и гирканские наездники. Знатные персы являются ко мне и приносят обеты верности из ненависти к презренному узурпатору Бессу. Вождь греческих наёмников Патрон, ранее служивший Дарию, приводит ко мне пятнадцать сотен закалённых бойцов, которые встречают самый радушный приём. В армии появляются новые командиры и новые подразделения, формируемые из уроженцев здешних мест. Преследуя Бесса по горам и пустыням, без них не обойтись.
Повседневное управление державой осуществляют чиновники, девять десятых которых персы. А кому ещё можно поручить руководство огромной, пёстрой и совершенно чуждой пониманию эллинов и македонцев страной? В иерархии управления находится место Артабазу, отцу Барсины (с которым я впервые познакомился мальчиком в Пелле, когда он с Мемноном нашёл убежище при дворе моего отца), и благородным Автофрадатам, братьям, до конца хранившим верность Дарию и явившимся ко мне после его гибели. Оба получают в управление провинции. В свою свиту, представляющую собой нечто вроде школы юных командиров, я зачисляю юношей из персидской знати, включая Кофена, сына Артабаза, двух сыновей Тиграна и троих сыновей Мазея. В конечном счёте получается, что из сорока девяти юношей свиты одиннадцать являются персами, а ещё семь – египтянами, сирийцами или мидийцами. Я не настолько слеп, чтобы не предвидеть недовольство, которое это вызовет, но, признаюсь, переоцениваю свою способность его сдержать.
Суть проблемы в следующем: численность свиты оговорена обычаем, и, принимая в неё азиата, я тем самым отказываю в приёме македонцу. Это вызывает недовольство и на родине, где родовитые семьи воспринимают подобный отказ как оскорбление, и в лагере, где начинаются разговоры о том, что я отдаю предпочтение чужакам в ущерб соотечественникам. Кроме того, свитские юноши обзаводятся любовниками. Это обычное дело. Пареньки тринадцати-четырнадцати лет, прибывающие из Македонии, охотно дают соблазнить себя высокопоставленным командирам, которые лет на десять-пятнадцать их старше. По большому счёту главное здесь не плотское вожделение, а своего рода политика. Политика – это всё. Юноши прибывают из дома, будучи знакомыми с командирами, которым предстоит стать их менторами, семьи же не только не возражают против подобных связей, но всячески их приветствуют. Такие узы скрепляют межродовые союзы, а юноши приобретают покровителей, способствующих их продвижению. Так, например, Клит, состоя в свите, был любовником Филиппа, что в немалой степени способствовало его назначению командиром царского подразделения «друзей». Теперь он делает своим подопечным паренька по имени Ангелид. Можно сказать, что каждый из юношей свиты предоставляет своему покровителю место в моём шатре.
Пока в свите состояли одни македонцы, всё шло прекрасно, но при появлении иноземцев казавшаяся такой устойчивой колесница опрокидывается. Македонские командиры не хотят брать под своё крыло азиатов, да и те, в свою очередь, боятся македонцев. Но что ещё хуже, так это взаимная ревность. Стоит мне оказать внимание сыну Тиграна, как Клит и прочие соотечественники начинают видеть в этом ущемление их собственных подопечных.
Всё это усугубляется и деньгами. Одно дело добиваться успеха и совсем другое – добиваться успеха небывалого, такого, какого добились мы. Это моя вина. Мне не удалось предложить армии перспективу достаточно впечатляющую, равную той, что была утрачена со смертью Дария. Кроме того, добиваясь сближения персов и македонцев, я в глазах последних зашёл слишком далеко, приняв и усвоив многое из обычаев недавнего врага.
Чтобы компенсировать это, я осыпаю соотечественников щедрыми дарами. Доблесть Арета, явленная при Гавгамелах, вознаграждается пятью сотнями талантов, сокровища Агамемнона меркнут в сравнении с богатством, дарованным мною Мениду. Назначив Пармениона правителем Экбатан, я дарю ему кровать из золота. Домой, матери, я шлю триремы с ладаном и сердоликом, корицей и кассией. С обратной почтой она меня укоряет.
Александру от Олимпии, привет.
Мой сын, твоя щедрость превратила некогда примерных командиров в мелких царьков. Пусть ты одаряешь друзей, руководствуясь добрыми намерениями, но это может повлечь за собой отнюдь не добрые последствия. Ты развращаешь их, ибо теперь каждый сотник мнит себя архонтом, а их родичи дома напускают на себя важный вид, претендуя на большее. Каждый военачальник, которому ты так благоволишь, преувеличивает свою роль в твоих победах и не только считает себя незаменимым, но и всякий раз, когда ты оказываешь честь кому-нибудь другому, мнит себя недооценённым и обойдённым. Они дуются, даже не пытаясь скрыть недовольство, а оставшиеся дома жёны и родичи подогревают его своими подстрекательскими письмами. Чем больше ты даёшь им, сын мой, тем больше ты подстёгиваешь их амбиции. Птолемей хочет воцариться в Египте, Селевк жаждет Вавилона. Но как могут позволять себе такие желания карлики, обязанные всем, что имеют, исключительно тебе?
Из того же письма:
Когда вы голодали, твои командиры были друг другу настоящими товарищами, а теперь каждый завидует другому и воспринимает чужой успех как личное оскорбление. Они более не товарищи, но соперники. Давая так много денег, ты делаешь их независимыми от себя. Давай им землю, сын мой, женщин или лошадей. Давай им в управление провинции, но не золото. Золото коварно: оно делает хороших людей дерзкими, а плохих и вовсе неуправляемыми.
Теперь у меня есть враги и в собственном шатре. Те, в чьи обязанности входит оберегать меня, превращаются в заговорщиков, чьи интересы расходятся с моими. И речь не о мальчишках из свиты, а о высших командирах, в которых пробуждается дух взаимной зависти и ревности. Каждый из них, зарвавшись, мечтает возвыситься над прочими и боится, как бы его не опередили.
Я знаю твоё сердце, сын мой. Оно слишком доброе. Любовь, которую ты питаешь к своим товарищам, ослепляет тебя, и ты не видишь их вероломства. Успех заставил каждого ревниво относиться к своему положению, и каждый боится, как бы другим не досталось больше, чем ему. Хочешь ты того или нет, но твой шатёр более не палатка командира, а царский двор, а при дворе царя окружают не воины, а льстецы и лизоблюды.
Однажды ночью (дело был в афганских землях) один из юношей свиты в сильном волнении врывается ко мне в купальню и сообщает, что против моей жизни составлен заговор. Его товарищ несколько дней назад сообщил об этом Филоту, в расчёте на то, что Филот немедленно уведомит меня. Но Филот этого не сделал.
Я созываю на совет македонцев. Филота приводят связанного. Его отец Парменион находится в шести тысячах стадиев к западу, командует сокровищницей в Экбатанах. Я предлагаю Филоту высказаться в свою защиту. Он говорит, что не воспринял известие о заговоре всерьёз и не захотел беспокоить меня по таким пустякам.
– Негодяй! – ревёт Кратер. – Как ты смеешь прикидываться тупицей перед лицом царя?
Допрашиваются четырнадцать юношей, у девяти из которых есть покровители, командиры «друзей» или царских телохранителей. Все юноши происходят из знатных семей. И все бесстыдно лгут.
– Надо подвергнуть их пыткам, как поступают во время войны с врагами, – предлагает Птолемей.
Всю ночь я совещаюсь со своими высшими военачальниками – Гефестионом и Кратером, Птолемеем, Пердиккой, Коэном, Селевком, Эвменом, Теламоном и Локоном, после чего решаю пытки к юношам не применять.
– Тогда отправь их домой, – предлагает Пердикка. Он полагает, что позор будет для них наихудшей казнью.
Гнусная измена повергает меня в отчаяние. Клянусь Зевсом, я начинаю жалеть о том, что мы победили в этой войне. Лучше пасть пронзённым копьём, чем дожить до того дня, когда те, кого я любил, начинают составлять заговоры и умышлять против моей жизни.
Более же всего меня страшит то, что вскрылась вина Филота.
– Как ты поступишь с Парменионом? – тут же спрашивает меня Гефестион.
Я не могу казнить сына и оставить в живых отца. Поступить так не может ни один царь.
А у Пармениона есть власть. Я сделал его наместником Мидии; теперь он командует Экбатанами, в его распоряжении двадцать тысяч солдат, многие из которых почитают его, и царская казна, 180 000 талантов.
Я приказываю подвергнуть Фи лота пытке, и он, едва затрещали кости, выдаёт сообщников. В заговоре замешаны семь человек. Совет решает дело менее чем за двадцать минут. Все будут казнены.
Но что мне делать с Парменионом?
Глава 31
АГОНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Весь день и ночь после пыток Филота я совещаюсь со своими полководцами, моими генералами в своей ставке во Фраде. Гефестион верен, как солнце. Кратер принадлежит более мне, чем самому себе. Теламон чтит свой собственный кодекс, но этот кодекс не допускает измены. Пердикка любит царя; Коэн, Птолемей и Селевк – своего главнокомандующего. Клит горяч и своеволен, но он не станет плести интриги, а выскажет наболевшее в глаза. Кроме них, Эвмена и Певкесты, я не доверяю никому.
– Никто не говорит правду царю. – Час поздний, и я произношу свою речь, будучи пьян. – И чем более велик царь, тем меньше откровенности. Кто осмелится заговорить со мной без обиняков? А ведь прямодушие всегда считалось сильной стороной македонцев. Мы грубы, но правдивы. Никто не боялся предстать перед Филиппом и высказать всё, что у него на уме, да и вы, друзья, служа мне, прежде поступали так же. Но этого больше нет. Что говорят обо мне солдаты? Можете не отвечать, я и так всё знаю: «Александр изменился, завоевания испортили его. Это не тот человек, которого мы любили». Почему? Потому что я веду их от победы к победе? Потому что отдал в их руки целый мир? Потому что осыпаю их сокровищами?
Я сам чувствую, что говорю слишком высокопарно. И вижу это в глазах моих товарищей. Птолемей, самый энергичный из моих военачальников, берёт слово.
– Александр, позволь мне обозначить опасность так, как я её вижу?
– Пожалуйста.
До этого я метался из угла в угол. Теперь сажусь.
– А вы, братья, – обращается Птолемей к своим товарищам полководцам, – призовите меня к ответу, если сочтёте мои мысли неверными, но поддержите меня, если увидите в них правду.
Он поворачивается ко мне.
– Друг мой, теперь каждый из нас тебя боится.
Эти слова поражают меня как гром.
– Это правда, Александр. Поверь. Каждый командир чувствует то же самое.
Я обвожу взглядом лица моих товарищей.
– Но как же это, друзья? Почему?
– Мы боимся тебя – и друг друга. Ибо ныне очевидно, что ты, бывший некогда нашим товарищем и другом, вознёсся на недосягаемую высоту. Как братья, мы мечтали низвергнуть владыку Азии, но лишь возвели на престол нового. Теперь им стал ты.
– Но это не так, Птолемей. Я остался тем, кем и был.
– Увы, нет. Да ты и не мог бы, при всём желании.
Он обводит жестом палату, в которой мы собрались, прежде принадлежавшую Дарию.
– Клянусь богами, взгляни, где ты находишься. Колонны из кедра, свод из слоновой кости.
– Но под ним по-прежнему мы.
– Нет, Александр.
Он мешкает, и я вижу, что, дабы продолжить, ему требуется вся его смелость.
– Я говорю откровенно, рискуя вызвать твой гнев. А что, если ты воспримешь мои слова превратно? Завтра ты отберёшь у меня мои войска и передашь их Селевку...
– Неужели ты считаешь, что я способен на такое непостоянство?
В комнате воцаряется молчание.
Филот.
Мои полководцы вспоминают о нашем бывшем товарище, закованном в цепи и ожидающем казни. И не только о нём. О его родственниках и друзьях по всей армии: об Аминте Андромене и его братьях – Симмии, Аттале, Полемоне; о моём собственном телохранителе Деметрии; о тридцати сотниках, сотне полусотенных. Должен ли я отнять у них жизни? И жизнь отца Филота, Пармениона?
Слово берёт Пердикка, самый суровый из моих военачальников, не считая Кратера.
– Александр, мы беседуем здесь как братья. Никого не виним. Мы пытаемся найти решение. Когда высказывался Птолемей, я завидовал его смелости.
Он делает паузу, но потом продолжает:
– Люди говорят, будто ты считаешь себя богом.
Я хочу возразить, но Пердикка тут же меня останавливает.
– Я отметаю это, как и все мы. Но, Александр, кем бы ни мыслил себя ты сам, во всём этом есть момент, чреватый куда более серьёзной опасностью. Если уж совсем начистоту, так ты ведь и впрямь стал богом. Ты совершил то, во что никто не верил и о чём никто даже не мечтал.
Он указывает на полководцев, своих товарищей.
– Каждому из нас есть чем гордиться, каждый не лишён дарований, и каждый считает, что достоин величия. Однако все мы сходимся на том, что достигнутое тобою было бы не по плечу никому другому. Ни твоему отцу, ни кому-то из нас, ни всем нам, вместе взятым. Ни одному человеку или группе людей из когда-либо живших. Ты единственный, кто мог совершить это.
Он встречается со мной взглядом.
– Мы боимся тебя, Александр. Мы любим тебя, но боимся и уже не знаем, как нам с тобой держаться.
– Пердикка, – говорю я, – ты разрываешь мне сердце.
– Но это ещё не самое большое горе. Беда в том, что страх подталкивает к заговорам. С этим ничего нельзя поделать. Любой из нас думает о том, что будут делать другие, когда явятся за его головой, и мы спрашиваем друг друга: а не нанести ли упреждающий удар?
Слёзы туманят мой взор.
– Я предпочёл бы умереть, но не слышать этих слов.
– Эти слова правдивы, – говорит Кратер. – Мы в аду.
Как-то раз, в детстве, я вбежал в кабинет отца, когда он был занят написанием письма. Его слуги погнались было за мной, но Филипп махнул рукой и подозвал меня к себе.
Закончив писать, отец вручил свиток мне и велел прочесть. Послание было обращено к некоему союзнику, и доставить его должен был один из знатных приближённых Филиппа. Приписка под прощальными словами гласила: «Человека, вручившего тебе это письмо, надлежит убить».
Когда я прочёл послание и вник в его суть, Филипп, к тому времени вставший и начавший переодеваться к вечернему пиршеству, дал мне понять, что на пиру собирается встретиться с обречённым на смерть человеком, а также с его отцом и братом. Я в испуге спросил, как же он будет держать себя с этими людьми.
– Шутить, смеяться и пить с ними вино, – заявил Филипп. – Пусть он считает, что мы лучшие друзья.
В этот момент случайно вошёл Парменион, тоже собиравшийся на пир. Он вызывал моё восхищение тем, что презирал пышные наряды и даже на самые торжественные приёмы и великие празднества одевался по-военному просто. Отец обнял его, и я почувствовал, что эти двое любят и уважают друг друга. Потом Парменион увидел в моей руке письмо и, видимо, будучи осведомлён о его содержании, понял, что Филипп познакомил с ним и меня.
– Александр, – тихо промолвил он, стоя передо мной, и больше не добавил ни слова. Я его понял.
Десять лет спустя, когда Филипп был убит, я, унаследовав трон, послал такое же письмо Пармениону, велев ему взять под стражу и казнить за соучастие в заговоре его зятя Аттала. Он так и сделал.
Прошло ещё десять лет. На сей раз я напишу Пармениону об измене Филота и отправлю к нему гонцов на беговых верблюдах. Когда он станет читать депешу, его друзья по моему приказу лишат его жизни.
– Быть царём, – говорила мне Сизигамбис, – значит ступать босыми ногами по лезвию бритвы.