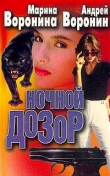Текст книги "Александр Великий. Дорога славы"
Автор книги: Стивен Прессфилд
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)
Персы – тонкие знатоки и ценители лошадей, а в имении Тиграна находится славнейшая в Персии школа наездников, коневодов и коновалов. Едва баржа касается причала, как поглазеть на Буцефала вываливает целая толпа народу: лекари, ученики, конюхи, мастера выездки и им подобные. Мой конь прославлен повсюду, и настоящие ценители рады возможности взглянуть на него даже в столь прискорбном состоянии. Буцефал похож на меня: он неравнодушен к славе, и внимание его окрыляет. Стоит мне заглянуть ему в глаза, и впервые за долгое время я позволяю себе вздохнуть с облегчением. Он выздоровеет.
В усадьбе Тиграна мы гостим пятнадцать дней. Это настоящее кавалерийское учебное заведение, где обучают всех, кому предстоит иметь дело с боевыми скакунами. Территория со множеством конюшен, амбаров, скаковых дорожек и арен для выездки содержится в безупречном порядке, однако повсюду витает дух поражения. Две стены ристалища увешаны уздечками товарищей, павших в бою, многие помещения забиты ранеными и увечными. Все исполнены страха и деморализованы.
Я немедленно даю обещание сохранить школу. Меня очаровывает красота персидских юношей, служащих Тиграну, так что я, отозвав в сторонку Гефестиона, говорю:
– Вот чем персы отвечают нам.
Тиграну настойчиво предлагается перейти ко мне на службу. Я хочу, чтобы он собрал собственный полк и вёл дальнейшую кампанию на моей стороне. Но благородный воин отказывается выступить против своего царя и родича: он заявляет, что я, как победитель, могу забрать его жизнь, но не вправе посягать на его верность. Это утверждает меня во мнении, что в Персидской державе найдутся честные и благородные люди, которым можно будет доверить управление.
А знаешь, Итан, как Фрадат вылечил Буцефала? С помощью небес. Этот лекарь, как и все лекари Персии, является знатоком магии и астрологии.
– Звёзды, о царь, рождаются и умирают, как и люди, – говорит он мне, – ни одна звезда не появляется на небесах в одиночестве. У каждой есть пара, её близнец. Такие звёзды светят в небе по отдельности, но, когда одна из них вспыхивает или тускнеет, это неизбежно затрагивает другую. Точно так же, Александр, обстоит дело с тобой и твоим конём. Буцефал страдает, потому что болит твоё сердце. Это великое чудо, но он – это ты, и он не сможет обрести покоя, пока неспокойна твоя душа.
При этих словах я разрыдался как ребёнок. Смысл сказанного лекарем был понят мною сразу, и мы – я, он, Тигран и Гефестион – проговорили об этом всю ночь.
Я признался, что более всего на Востоке меня огорчает жалкое положение людей и покорность, с которой они его терпят.
– Кто же безумен? Я, потому что мне тяжко видеть их горести, или они? Неужели свобода и целеустремлённость есть лишь пузырьки на поверхности безбрежного и вечного моря страданий?
Трудно пересказать, в сколь удручённое состояние повергали меня мои невесёлые размышления.
– Неужели Восток и Запад невозможно объединить? – спрашиваю я. – Неужели мы, пришельцы из Европы, не можем почерпнуть мудрость от Азии, а она – воспринять у нас свободу?
– В минуты растерянности, – говорит Тигран, – я часто находил ответы на самые сложные вопросы у детей и лошадей. Может быть, Александр, дети помогут найти ответ и на твой вопрос.
Я спрашиваю, что он имеет в виду.
– Для нынешнего поколения объединение невозможно. Люди Востока и Запада слишком разные, и им уже поздно менять устоявшиеся привычки и усвоенные с детства взгляды. Но со следующим поколением...
Я прошу его продолжать.
– Александр, пожени своих людей на наших женщинах. Возьми и себе супругу из персиянок. Пусть дочери Персии станут для новых хозяев страны не наложницами и шлюхами, но жёнами. Это позволит осуществить твою мечту. Отпрыски таких браков составят совершенно новый народ, который не сможет отказаться от наследия своих предков, как отцов, так и матерей, не отказавшись от себя самого. А пока, – утверждает Тигран, – тебе лучше не преследовать Дария, как охотник преследует добычу, но предложить ему примирение и согласие. Восстановить его на троне и сделать его своим другом и союзником. Не разрушай благородные обычаи, Александр, но включи знать и простых бойцов в состав своей армии, а для управления страной отбери среди обоих народов, персов и македонцев, тех, чья мудрость и справедливость позволят им справиться с этим наилучшим образом.
Тигран обещает, что, едва первое поколение потомков смешанных браков подрастёт, он сформирует из них великолепный отряд.
– Я почту за честь способствовать рождению этого нового мира, – заверяет герой, – и клянусь, что смогу призвать под твоё знамя многих благородных сынов Востока, ибо подобное видение грядущего развеет их отчаяние.
На четырнадцатый день из Вавилона приезжает Парменион. Каким-то образом он узнал о моём разговоре с Тиграном и теперь, отведя в сторону, увещевает по-отцовски. Неужто я не в ладах с разумом? Македонская армия не потерпит, чтобы я относился к персам как к равным.
– Покинь это место, склоняющее тебя к безрассудству, Александр, покинь немедленно. Каждый лишний час, проведённый тобою здесь, причиняет боль тем, кого ты любишь. Вспомни: это те самые жители Востока, относительно которых твой мудрый наставник Аристотель говорил: «Относись к эллинам как предводитель, но к варварам как господин». А спартанский царь Агесилай, хорошо знавший здешний люд, высказывался так: «Из них получаются хорошие рабы, но плохие свободные люди». Александр, выбрось из головы безумную мысль о смешении народов! Эти знатные персы, сколь бы ловко они ни сидели на коне, неспособны к самоуправлению. Они рождены для жизни придворных: это единственное, что они знают, и всё, что будут знать.
Как относятся македонцы к персам? Они презирают их. В их глазах эти щёголи в шароварах, обвешанные золотом, стоят меньше, чем женщины. С другой стороны, и сами персы ведут себя вызывающе. По возвращении в город мне приходится издать и довести до каждого сотника и даже десятника указ, запрещающий беспричинно избивать местных жителей, а также подвергать их публичному унижению. Люди, которых мы победили, не собаки. Но если этот вопрос хоть как-то решается, то праздность и избыток денег начинают разлагать армию в других отношениях.
На двадцать седьмой день я председательствую на играх в честь павших. Пройдя мимо ворот Мардука, я вижу, что улица менял за ними запружена солдатами, среди которых и мой давний знакомый, десятник Дерюжная Торба, нахватавший охапку всякого добра при Иссе. Он и его товарищи стоят в очереди перед столом уличного казначея.
– Что ты там делаешь, Дерюжная Торба? – окликаю я его, подъехав.
– Стою в очереди, о царь.
– Сам вижу, что стоишь. Но что это за очередь?
– Так ведь в этой проклятой стране везде приходится мучиться в очередях. Стоять в очереди, чтобы похавать, чтобы отлить, чтобы тебе заплатили.
Теперь я понимаю, что он хочет взять у здешнего заправилы взаймы.
– Неужели у тебя нет денег, десятник? – спрашиваю я, памятуя о том, что свою долю добычи стоимостью в трёхгодичное жалованье он получил всего двадцать дней назад.
– Всё спустил, – признается малый и указывает на дельца. – И не я один. Многие из нас уже по уши в долгу перед этим мошенником.
Я приказываю десятнику и его товарищам в тот же вечер явиться ко мне в военное казначейство. В назначенный час возле казначейства, как бы случайно прогуливаясь, собирается чуть ли не вся армия.
Как я уже говорил, в македонской пехоте самое маленькое подразделение состоит из восьми солдат. Эти ребята постоянно держатся вместе, по очереди дежурят, исполняют роль «носильщиков», перенося сариссы товарищей, вместе сражаются. Отдыхают и развлекаются они тоже вместе.
– Вижу, вы и деньги спустили все разом, – замечаю я.
– Ага, – признается Дерюжная Торба.
По его словам выходит, что, получив шальные деньжищи, его товарищи решили «расширить свой горизонт».
– Ну-ка выкладывай, каким это манером?
– Вообще-то мы хотели посмотреть город. Поэтому нам понадобился переводчик. Ты можешь это понять. И знаток местных достопримечательностей, чтобы мог показать нам всё самое интересное. Мы нашли обоих в одном лице, причём за умеренную плату. Но ведь не могли же мы ходить по городу оборванцами, как-никак победители. В походе все поизносились, так что новая одежонка да и обувь были нам нужны позарез, иначе неловко перед местными красотками. Толмач и проводник подыскал нам портного и мастера по изготовлению сандалий. Мы, конечно, понимали, что чужака всякий попытается обмишулить, но зять нашего проводника, очень кстати, оказался менялой, и мы позвали его с собой, чтоб нас не дурили. А он каким-то манером завёл нас в «весёлый квартал». К шлюхам, стало быть. Славные там девчушки, просто им малость не повезло. Мы, ясное дело, по доброте душевной решили им помочь, дать им заработать. Ну и попировать с ними, провести время как следует. А шлюшки-то там не какие попадя, они тебе и на флейте сыграют, и танцевать горазды. С такими зазорно сидеть в солдафонском обличье.
Как я понял, в весёлом квартале наших солдат обслужили как вельмож: умастили благовониями, завили им волосы, словно архонтам, выкупали, сделали массаж. Потом закатили пир с лучшими блюдами и винами, причём каждого солдата обслуживал отдельный слуга. Ну а для ночлега им предложили особняк на реке, который они сняли вместе со служками, домоправительницей, привратником и сторожем. Кроме того, наши ребята прикинули, что таскаться по городу в этакую жарищу пешком не больно приятно, а поскольку гуляли они широко и смекнули, что абы где просто так возницу не поймаешь, то наняли на целый день крытую повозку с возчиком и конюхом (должен же кто-то позаботиться о лошадках, покормить их, почистить и всё такое).
– Ну да, – неохотно сознается он под конец, – нас провели как младенцев. Обобрали. Мы ведь ещё и землю купили, причём с домашним скотом.
– Что, никаких скаковых коней?
– Всего-то двух. Но вот другое: трое наших парней женились.
– Только не говори мне, что вы берёте взаймы, чтобы поддержать их семьи.
Я не сержусь на своих братьев и соотечественников, но плохо представляю себе, что в сложившихся обстоятельствах могу для них сделать. Дать им ещё денег? Но это, во-первых, несправедливо, ведь они уже получили причитающееся, а во-вторых, бессмысленно. Сколько ни дай, эти молодцы промотают всё до медяка. Жизнь в Вавилоне предлагает много соблазнов, но, главное, расхолаживает людей. Те, кто не спустил всю добычу, начинают поговаривать о том, чтобы вернуться в края, где всё подешевле, в Сирию или Египет, а то и домой, где, по тамошним меркам, они будут считаться состоятельными людьми. В конце концов я издаю указ о том, что все деньги, потраченные на городские увеселения и выманенные у солдат местными мошенниками, будут возмещены им, драхма в драхму, но только столы армейских казначеев будут установлены на дороге, в четырёхстах стадиях восточнее города. Иными словами, друзья мои, поход продолжается.
Армия соглашается с таким решением: по подразделениям гуляют слухи о том, что в Персеполе и Сузах сокровищ накоплено ещё больше.
Покидая Вавилон, я оставляю Мазея на том же самом посту наместника, который он занимал при Дарии. Прежнюю должность сохраняет и его казначей Багофан, но теперь он будет работать под надзором македонского чиновника. Так же как и Фарнак с Адраматом. Гарнизон города составлен из ветеранов, наёмников и тех, чьи воинские навыки не подходят для будущей кампании, в которой мне потребуются быстрые, мобильные подразделения.
Можно сказать, что наше завоевание пробудило город к новой жизни. Та часть сокровищ Дария, которая была роздана мною солдатам и потрачена ими в Вавилоне, влила свежую струю, превратив застойный пруд городского хозяйства в изобильную реку. Все эти богатства долгое время лежали под спудом, не видя дневного света, а теперь наполняют страну, подогревая деловую активность. Вавилон не знал столь весёлых времён, когда кошельки развязывались столь охотно. Неудивительно, что, когда на тридцать четвёртый день армия Македонии собирается и выступает в путь, многие солдаты испытывают облегчение, а многие местные жители – сожаление. Захватчики уходят, но вместе с ними уходит и нечто великое и неповторимое. Два миллиона горожан выстраиваются вдоль Царского тракта и, охрипнув от криков, провожают марширующие колонны.
К сожалению, нашему уходу предшествует очередная ссора между мною и моими военачальниками. На тридцать третий день мы совершаем поминальный обряд, и я приказываю захоронить пепел сожжённых тел персидских командиров в том же кургане, что и пепел македонцев. Возмущению армии нет предела. В последний вечер нашего пребывания в городе я устраиваю для своих командиров пир в большом пиршественном зале Дария, том самом, где на полу из малахита и мрамора выложена мозаичная карта державы. Но то, что доступ ко мне теперь преграждается евнухами и старые боевые товарищи, прошедшие со мной два континента, больше не могут запросто ко мне подойти, воспринимается ими как оскорбление. Чёрный К лит и раньше бесился при виде того, как я разговариваю с Тиграном, Мазеем или любым другим персом, но в тот вечер, напившись пальмового вина, он уже не может сдерживаться.
– Александр! – кричит он, выйдя на середину зала. – Неужто теперь ты предпочитаешь нам варваров? Клянусь чёрным дыханием ада, я не потерплю, чтобы эти щёголи в шароварах беседовали с тобой, тогда как мне придётся ждать или испрашивать их дозволения!
Я направляюсь вперёд и протягиваю руку.
– Клит, друг мой. Не твоя ли десница спасла мне жизнь при Гранине? Разве могу я забыть об этом?
Он уклоняется от моих объятий и обводит зал взглядом в поисках поддержки. Я знаю, что многие на его стороне, хотя, боясь моего гнева, не рискуют высказываться открыто.
– Это Восток, Александр. Здешние жители всегда были и будут рабами. Ты хочешь понять их? Да самый тупой десятник давно уразумел, как тут всё устроено. Воровство и взятки – вот основа здешней жизни. Любой обладающий хоть какой-то толикой власти обирает нижестоящего и платит тому, кто выше его. Сокровища стекаются на самый верх, к царю, но, пока эта река течёт, каждый стоящий рядом окунает в неё руку. Так было, есть и будет: ты ничего не сможешь изменить. Клянусь Зевсом, я предпочёл бы быть собакой, чем одним из здешних бесправных подёнщиков или земледельцев. Но ты пытаешься превратить разряженных лизоблюдов в свободных людей и дни напролёт проводишь, запёршись с облачёнными в пурпурные мантии льстецами, тогда как любящие тебя и проливавшие за тебя свою кровь остаются в небрежении. Мы солдаты, Александр, а не придворные. Позволь же нам солдатами и остаться!
Я не сержусь. Я не поддаюсь гневу, но в то же время осознаю, что в этот момент, пожалуй, сталкиваюсь с самой серьёзной угрозой для осуществления моих замыслов с того момента, как мы покинули Европу.
Взгляд, брошенный мною на Гефестиона, Теламона и Кратера, даёт понять, что они думают о том же самом.
– Солдаты ли вы? – восклицаю я. – Или мне померещилось, что по пути к Гавгамелам многих охватил столь безумный страх, что они жались ко мне, как потерявшиеся во тьме детишки? А теперь, насладившись плодами победы, вы начинаете дерзить! Скажи, Клит, – обращаюсь я к своему обвинителю, стоящему в самом центре зала, на том самом месте, где мозаикой выложен знак Вавилона, – ты покорил этот город или он тебя?
Клита мои слова смущают, ибо он знает, что и мне, как и всей армии, известно о его связи с дворцовой блудницей, ублажая которую мой полководец за считанные дни спустил целое состояние.
– Вот что скажу я тебе, мой безрассудный друг. По моему разумению, распущенность и блуд лишили тебя рассудка. Да и не тебя одного. Всех вас! Ибо вы, называющие себя солдатами, забыли, что главные солдатские доблести – это дисциплина и повиновение. Не я ли ваш царь? Будете ли вы повиноваться мне, или же нежданно свалившееся богатство, обретённое, кстати, благодаря мне, управляет вами, толкая вас к бесчинству и своеволию? Неужели вы усомнились во мне? Неужели я потерял ваше доверие?
В зале воцаряется мёртвая тишина. Мои шаги гулко отдаются под сводами, когда я направляюсь к восточному концу мозаичной карты – к Греции и Македонии.
– Менее четырёх лет назад, когда мы покинули родину, кто из вас мог предположить, что мы зайдём так далеко?
Я пересекаю Геллеспонт, указываю на Трою и северную часть Эгейского побережья.
– Однако мы победили здесь, при Гранине. И здесь, и здесь, и здесь.
Я шагаю по побережью мимо Милета и Галикарнаса к Иссу.
– Здесь вы чуть не повернули назад.
Ещё шаг, и подо мной Тир и Газа.
– Здесь вы тоже хотели остановиться.
Я делаю ещё шаг.
– Вот Египет, вот Сирия. И здесь вы советовали мне не идти дальше. Разве я говорю неправду? Скажите! Пусть выйдет вперёд тот, кто осмелится опровергнуть мои слова!
Все затаили дыхание. Никто не шелохнулся.
Я сдвигаю Клита с мозаичного круга, обозначающего Вавилон.
– Теперь мы стоим здесь, куда не мечтали попасть даже в самых дерзких мечтах. Но мы не намерены остановиться на достигнутом, а собираемся идти дальше. Сюда, в Сузы! Сюда, в Персеполь! Сюда, в Экбатаны! Разве не такова должна быть цель тех, кто называет себя солдатами? Но если так, то ответьте, кто поведёт вас?
Я выпрямляюсь.
– Назовите его! Назовите человека, которому вы верите, и я отойду в сторону. Если вы считаете меня недостойным, пусть другой полководец ведёт вас от победы к победе.
Я обвожу взглядом лица присутствующих. Глаза потуплены. Никто не решается встретиться со мной взглядом.
– Намерены ли вы подчиняться мне? Смею ли я назвать себя вашим царём? Ибо мне кажется, что сейчас самое подходящее время сообщить вам о том, что я не собираюсь задерживаться здесь, пройдя лишь половину этой карты.
Я шагаю через Персию и Мидию. К Парфии, Бактрии, Арии. К Иранскому нагорью и пустыням Афганистана.
– Будете ли вы покорять эти земли со мной, братья? Или, удовлетворившись обретённым богатством, остановитесь на пол пути, чтобы предаться обжорству, пьянству и блуду?
– Нет! Никогда! – восклицают командиры.
Я смягчаю тон: имея дело с хорошими, смелыми и честными людьми, не стоит давить на них слишком сильно.
– Друзья мои, я признаю, что, возможно, слишком уж рьяно склонял вас к новизне, испытывая тем ваше терпение. Но позвольте, во имя всех тех благ, каковые до сих пор приносило вам моё руководство, попросить вас оставаться со мной. Доверьтесь мне, как делали это всегда. Ибо когда мы выйдем за пределы Персии, в земли, в которые, как известно, не вступал ни один эллин...
Я пересекаю Афганистан и приближаюсь к Гиндукушу, за которым лежит Индия.
– ...нам понадобятся все надёжные солдаты, какие только есть. И настройтесь, друзья мои, на ещё более дальний путь. Ибо в тех землях, которые будут покорены, я наберу новые войска, и они будут сражаться под моим командованием бок о бок с вами. Так должно быть. Да и как оно может быть иначе?
В первый раз я чувствую, что люди поворачиваются ко мне. Они поняли или начинают понимать. А те, кто не понял, просто доверяют моей прозорливости.
– Задумайтесь о том, друзья мои, сможем ли мы изменить мир, не изменившись сами? Нам предстоит создать совершенно новый мир. Кто последует за мной? Кто верит мне? Пусть тот, кто любит меня, пожмёт мне сейчас руку и поклянётся в своей верности, ибо робкие, слабые сердцем и сомневающиеся не смогут сопутствовать мне в осуществлении моих планов.
Я пересекаю Индию и шагаю дальше, пока не оказываюсь на самом краю зала, в сумраке, которого не достигает свет множества свечей. Возле побережья Океана, что на Краю Земли.
– Объявите же своё решение, братья, и соблюдайте данный обет отныне и вовеки. Тот, кто идёт со мной, должен будет идти до конца.
Все как один встают из-за столов.
– Александр! – восклицают мои командиры, и эхо вторит им под сводами огромного зала.
Глава 28
ЧУДОВИЩА ГЛУБИН

Путь до Суз занимает у нас двадцать дней. В здешней сокровищнице Дария хранится пятьдесят тысяч талантов, или двенадцать сотен тонн золота и серебра, так много, что мы не в состоянии увезти всё это с собой. Спустя ещё сорок дней боёв и форсированных переходов наша армия оказывается в пределах броска от Персеполя. Теперь мы находимся не в одной из провинций, а в самой Персии, в сердце державы. Дарий бежал на север, в Экбатаны, но его сатрап Ариобарзан предпринимает попытку самостоятельно вывезти казну. Мы пресекаем её, преодолев за два дня и ночь восемьсот стадиев. В царской сокровищнице Персеполя хранится 120 000 талантов золота. Доставка только части этой казны в Экбатаны требует пяти тысяч верблюдов и десяти тысяч пар ослов. Обоз тянется на сто семьдесят стадиев. Это богатство столь ошеломляющего масштаба, что никто и не помышляет его разворовать. Люди сидят вокруг походных костров, примостившись на серебряных слитках, и садятся на лошадей, перешагивая через мешки с золотом.
С Гавгамел прошло девять месяцев. Армию почти не узнать. Наши подкрепления, пятнадцать тысяч конницы и пехоты, наконец-то догнали нас, но половина из них уже совращена излишествами, которые они видят вокруг. Кажется, что в Персеполе нам навстречу вышла половина мира. Явились актёры и акробаты из Афин, искусные повара из Милета и парикмахеры из Галикарнаса, сёдельщики и портные из Сирии и Египта. Помимо них нас осаждают толпы танцоров и фокусников, звездочётов и предсказателей, флейтисток и жриц любви. Птолемей замечает, что количество отирающегося возле армии сброда уже превысило численность кавалерии. Каждый день прибывают свежие караваны. Войско превратилось невесть во что. Создаётся впечатление, что каждый ветеран держит в лагере не только жену или любовницу, но и половину их родственников. Мой отец запрещал иметь при подразделениях повозки, а в моей армии подводами обзавелись полусотенные и даже десятники. Филипп разрешал держать одного слугу на десять человек; в моём корпусе слуг больше, чем солдат. Мы возим за собой гору имущества. Лошадей, принадлежащих одному Филоту, хватило бы на целый отряд в армии моего отца, а его личной обуви достаточно для крупного соединения. В Персеполе он находит человека с точно такими же волосами, как у него; он нанимает этого малого только для того, чтобы отращивать свежие локоны (солдаты прозвали его «волосяная грядка»), из которых парикмахер Филота (да, он возит с собой и парикмахера) делает вставки, маскирующие его редеющую шевелюру.
При всём том, что неподобающие солдату излишества вызывают у меня отвращение, общая распущенность затронула и меня. Ещё в Дамаске я взял в постель вдову Мемнона Барсину. Сделано это было по предложению Пармениона, чтобы держаться подальше от гарема Дария, но его план принёс и неожиданные плоды. С одной стороны, я стал заботиться не только об армии, но и о женщине, а с другой – сам стал зависеть от некоторых её услуг. Барсина защищает меня. Если бы не она, всякого рода просители и жалобщики не оставили бы мне и минуты времени. Барсина закрывает мою дверь и не пускает никого, давая мне возможность работать, и не разрешает мне чересчур напиваться (есть у меня такая слабость).
На её день рождения я устраиваю пир, на котором публике предлагается представление. Акробаты, вооружённые мечами (настоящими, остроту лезвий которых они демонстрируют, жонглируя плодами айвы и рассекая их в воздухе), исполняют пантомиму завоевания Персии. Это должно польстить македонцам, но, когда оно завершается, Тигран, успевший стать моим другом, заявляет, что оскорблён увиденным, и обвиняет Барсину в бесстыдном низкопоклонстве.
И тут, ко всеобщему удивлению, встаёт Парменион.
– На что ты жалуешься, перс? – вопрошает он Тиграна. – Ведь в этой войне победили не мы, а вы!
Никогда прежде я не слышал, чтобы Парменион говорил столь возбуждённо и с такой горечью. В огромной палате воцаряется тишина. Парменион обращается ко мне.
– Да, мы потерпели поражение! – заявляет он. – Мы побили этих персов на поле, но они перехитрили нас во дворцах. Посмотри, во что мы одеты, что мы едим, что за свиты нас окружают. Ты не уничтожил Дария, Александр, а превратился в него сам. Что же до этой женщины, опутавшей тебя, словно паучиха, то признаю, что, указав тебе на неё, я поступил как недальновидный глупец.
Некоторые из гостей пытаются заглушить его, опасаясь моего гнева.
– Ну а теперь, – говорю я ему, – тебе остаётся только сказать, что мой отец никогда бы не повёл себя таким образом.
– Да, он бы себя так не повёл.
– Я не мой отец!
– Конечно, – отвечает Парменион, – это мы всё ясно видим.
В другое время подобная дерзость заставила бы мою руку потянуться к мечу. Но сегодня я чувствую лишь отчаяние.
Гефестион возвышает голос в мою защиту.
– Действительно, – соглашается он, – Александр не Филипп. Ибо Филипп никогда не ставил перед собой столь грандиозных задач и даже не догадывался об их существовании! Будь во главе нас Филипп, мы так бы и торчали в Египте, предаваясь праздности и порокам...
– А чем мы занимаемся сейчас? – вопрошает Парменион.
– ...вместо того, чтобы переделать окружающий мир в нечто смелое и новое!
Парменион смеётся Гефестиону в лицо. Старому полководцу за семьдесят. Он уже отдал походу одного сына, Гектора, и потеряет другого, Никанора, спустя всего два месяца после нашего выступления. Он помнит меня ребёнком, а мой отец был другом его юности, с которым они вместе мечтали... о чём? Не об этом, это уж точно.
Он обращается к Гефестиону:
– А тебе, валяющемуся в царской постели, лучше бы помолчать. Мне зазорно находиться с тобой рядом!
Он имеет в виду, что от Гефестиона зависит, кто из полководцев получит ко мне доступ, однако мой друг приходит в ярость.
– Что ты хочешь этим сказать, сын шлюхи?
На защиту отца устремляется Филот. Он взбешён и готов броситься в драку, но стража, по указке Локона, хватает его.
– Что за шум и гам? – с деланным удивлением говорит Локон. – Или у нас тут собрались философы, спорящие о сущности бытия?
Смех помогает несколько разрядить обстановку. Слуги устремляются к своим господам с влажными салфетками и наполненными вином кубками. Когда шум утихает, Гефестион поднимается на ноги. Никогда в жизни не испытывал я большую гордость за него, чем в тот час, при виде того, как он, являя образец терпения, отвечает на враждебные выпады дружелюбием и великодушием.
– Братья, – говорит он, – когда люди совместными усилиями стремятся, преодолевая невзгоды, к великой цели, они с готовностью подавляют порывы собственного тщеславия. Во всяком случае до тех пор, пока эта цель не достигнута. Но когда намеченное осуществилось, каждый желает получить свою долю добычи. Сейчас для нас настало самое опасное время, ибо все мы неожиданно для себя превратились в богачей и вельмож. Каждый считает, что его вклад в общее дело больше, чем у товарищей, и негодует, видя, как другие получают то, что он считает по праву принадлежащим ему. Что случилось со всеми нами, друзья? Клянусь Зевсом, когда мы проливали кровь и умирали на поле боя, нам приходилось только мечтать о возможности пировать, развалившись на подушках, как мы делаем это сейчас. Однако теперь, пребывая в безопасности и довольстве, мы дерёмся, словно амбарные коты. Неужели мы отвергли прежние добродетели и утратили свои достоинства? Думаю, пока это не так. Однако теперь перед нами открылись широчайшие горизонты, неведомые прежде никому, кроме царей Персии, и мы должны соответствовать высоте, на которую вознеслись. Мы взошли на вершину столь великую и недоступную, что у иных из нас не хватает дыхания. Её грандиозность подавляет нас, даже когда мы считаем её своей.
Гефестион призывает богов помочь нам и призывает нас, его товарищей, не оступаться и вместе стремиться к общей цели.
– Друзья, давайте здесь и сейчас вновь подтвердим нашу верность друг другу и нашему царю и поклянёмся связующими нас священными узами сохранить эту верность перед лицом удачи, так же как хранили мы её, преодолевая невзгоды, и навсегда остаться отрядом друзей и братьев. Готовы ли вы, мои товарищи, принести эту клятву вместе со мной? Это необходимо, ибо ныне мы уподобились пловцам, дрейфующим в море успеха, которых, если они не возьмутся за руки, волны разнесут в стороны. А в глубинах этого моря нас подстерегают опасные чудовища, готовые вырвать любого из братских объятий и увлечь на дно.
Призыв Гефестиона находит отклик в сердцах товарищей, и кризис удаётся преодолеть. К середине лета мы добираемся до Экбатан, откуда Дарий всего за несколько дней до нашего прибытия бежал на восток. Под конец с ним осталось тридцать тысяч пехоты, включая четыре тысячи уцелевших при Гавгамелах греков Патрона, и пять тысяч лучников и пращников, а также тридцать три сотни конников из Бактрии, возглавляемых Бессом и Набарзаном. Треть Азии всё ещё остаётся под властью царя, а людей и коней на этих землях вполне достаточно для того, чтобы собрать и выставить против нас войско, не меньшее, чем любое из тех, с которыми мы уже сталкивались. Но меня пугает не это.
С Дарием всё кончено. Я боюсь того, что его собственные приближённые обратятся против него раньше, чем я успею догнать его и спасти ему жизнь.
В Экбатанах меня ждёт письмо, оставленное царём. Его слуга, которого я сохранил в своей свите, подтверждает, что продиктованный текст заверен подлинной царской печатью.
Александру от Дария, привет.
Я пишу тебе, как человек человеку, опустив все царские титулы и обращения.
Знай, что я буду вечно благодарен тебе за доброту и заботу по отношению к моей матери и моей семье. Если этим поступком ты хотел показать, что твои человеческие достоинства не уступают достоинствам победоносного полководца, тебе это удалось. Я восхищаюсь тобой. А теперь, друг мой, если позволишь так обратиться к тебе (ибо мне кажется, что наше долгое противоборство, равно как и бремя царского сана, позволяет нам понять друг друга ), я позволю себе обратиться к тебе с просьбой. Не обращай меня в пленника. Когда судьба снова сведёт нас на поле боя, дай мне с честью сложить голову. Не надо оказывать мне милостей, сохраняя жизнь или возвращая трон, который в таком случае стал бы для меня седалищем позора. А ещё прошу тебя воспитать моего сына, как своего собственного. Твоему же великодушному попечению вверяю я и всех своих близких, ибо ведаю, что ты отнесёшься к ним как к родным.
Прямота и благородство Дария трогают моё сердце. Несмотря на его пожелание, я больше чем когда-либо хочу сохранить ему жизнь, ибо чту его не только как царя, но и как человека. По моему приказу из «друзей», копейщиков, агриан, наёмной конницы и тех фалангистов, которые не остаются охранять колонну с сокровищами, формируется быстрый отряд, устремляющийся на восток с поражающей воображение скоростью. И вот мы в Гиркании, в краю, лежащем между Парфянской пустыней и Каспийским морем.