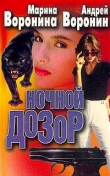Текст книги "Александр Великий. Дорога славы"
Автор книги: Стивен Прессфилд
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 27 страниц)
Книга девятая
ЛЮБОВЬ К СВОЕМУ ВРАГУ

Глава 33
НАГИЕ МУДРЕЦЫ

Против второго натиска муссона лагерь не устоял. Палатки снесены, крепления сорваны, дорожки превратились в полосы грязи. Мы расположились на возвышенности, и почва подсохнет быстро, однако настроение людей кажется испорченным, не говоря уж о времени и силах, которые придётся потратить на починку лагерного оснащения. Индийская жара изнуряет людей не меньше, чем зной пустынь, но к этому добавляется ещё и постоянная сырость, из-за которой у солдат начинают гнить ноги, а конские копыта набухают и размягчаются. Дождь тёплый, как моча, но стоять, тем паче идти под ним невозможно, ибо вода низвергается с небес потоками, наводящими на мысль не о ливне, а о водопаде. Лишь волы и слоны выносят это с восточным терпением.
У реки стоят две деревни, которые фактически слились с нашим лагерем, составив один небольшой город. Местные жители, включая женщин и детей, видят в армии источник заработка: они обстирывают и обшивают солдат, а почитаемые здесь молочные коровы снабжают войско молоком и сыром.
Вполне сжились с нами и гимнософисты, «нагие мудрецы» Индии. На рассвете мы видим, как они спускаются к реке и, бормоча что-то нараспев, совершают омовения. В сумерках они возвращаются и пускают плыть по течению крохотные зажжённые светильники, каждый из которых представляет собой не более чем широкий лист с укреплённым на нём промасленным фитильком. Это завораживающее зрелище. Десятки этих людей, выжженных на солнце до черноты и тощих, как стебли тростника, обитают в лагере. Среди них есть представители всех возрастов, и древние старцы, и зрелые мужи, и совсем ещё юноши. Кратер назвал их появление «заразой», и я опасался, что наши воины будут обходиться с ними презрительно и грубо, как это имело место в отношении вавилонян, но вышло наоборот. Македонцы воспринимают их как философов и относятся к ним с уважительным интересом, а те, со своей стороны, проявляют по отношению к грубоватым солдатам понимание, дружелюбие и благожелательное терпение.
В этот вечер, когда я со своими командирами обедаю на выходящей на реку тиковой террасе, разговор заходит о случившемся днём происшествии. При прохождении моего отряда через участок лагеря, граничащий с деревушкой Оксила, один из юношей моей свиты, смышлёный малый по имени Агафон, двигавшийся впереди, чтобы расчищать мне дорогу, наткнулся на кучку гревшихся на солнце гимнософистов, отказавшихся покидать облюбованное ими место. Началась перебранка, и некоторые из местных жителей уже взялись за дубинки, будучи полны решимости не позволить пришельцам обижать «святых». Мгновенно собралась толпа, так что, когда я подъехал, все спорили до хрипоты. Суть вопроса сводилась к следующему: кто более достоин права на проход – Александр или гимнософисты? Остановившись, я услышал, как Агафон возбуждённо дискутирует со старейшим из мудрецов.
– Смотри, – заявил паренёк, указывая на меня. – Этот человек завоевал весь мир! А что выдающегося совершил ты?
– А я, – не задумываясь, ответил философ, – победил в себе потребность завоёвывать мир.
Я восхищённо рассмеялся, приказал своим людям не тревожить мудрецов и обойти их сторонкой, а сам спросил старого философа, что я могу для него сделать, предложив высказать любую просьбу.
– Дай мне то, что держишь в руке, – отозвался он, и чудесная, спелая груша, находившаяся в этот момент у меня в руке, тут же перешла к нему. Он же немедленно вручил её ближайшему босоногому мальчишке.
На следующий день я провожу смотр армии. Периодические проверки необходимы для поддержания дисциплины и противодействия всякого рода разложению. Ясное дело, что, латая амуницию и начищая доспехи, солдаты ворчат, но когда приведённая в порядок армия выстраивается на поле, её блеск и великолепие окрыляют их, наполняя сердца гордостью и отвагой. Радует это зрелище и меня. На родине смотр такого рода занял бы не менее трёх часов, но держать так долго людей в полной выкладке на такой жаре нельзя, и я стараюсь уложиться часа в два. Кроме того, отрядам позволено стоять «вольно».
Армия, выстроившаяся передо мной, совсем не та, что покинула Европу восемь лет назад, и даже не та, что покинула Афганистан в прошлом сезоне. Левое крыло уже не украшает блистательная конница Фессалии, распущенная по домам в Экбатанах. Её место заняли вольные всадники: афганцы, скифы и бактрийцы. Эти племена, возглавляемые своими вождями, невозможно обучить европейской тактике, но сам их вид, татуированные лица и конские попоны из леопардовых шкур придают нашему войску своего рода дикое великолепие. «Преемники» – конное формирование Тиграна, присоединившееся к нам в Задракарте, обучено на македонский манер, хотя целиком состоит из персов. Наёмный кавалерийский отряд Андромаха ещё существует, но его командир пал на реке Политимет, в бою со Спитаменом.
Мои лучники теперь не македонцы, а мидийцы и индийцы, а копейщиками мне служат парфяне и массагеты. Единственные подразделения, не претерпевшие изменений, это фракийские метатели дротиков Ситалка (хотя сам Ситалк остался в Мидии, командование принял его сын Садок) и копьеметатели Агриании. Смена личного состава происходит каждую весну, как цветение гиацинтов: в армии есть сыновья и даже внуки солдат первого призыва, которые служат достойно, не хуже своих отцов.
Сердцевиной боевого порядка остаётся фаланга (теперь она формируется не из шести, а из семи отрядов), но даже она не состоит целиком из македонцев, в иных отрядах число моих соотечественников уже меньше половины. Много новых командиров – Альцет, Антиген, Белый Клит, Таврон, Горгий, Пейтон, Кассандр, Неарх и другие. В Зариаспе, в Афганистане, к нам прибыло подкрепление из Эллады и Македонии, 21 600 человек. Эти и другие подразделения, включая греческих наёмников Патрона и шесть тысяч царских сирийских копейщиков под командованием Асклепиодора, составляют основной корпус моей лёгкой пехоты. У меня есть конные лучники дааны, которые прежде воевали у Старого Волка, и шесть тысяч царских таксилианцев, пеших стрелков. «Наёмники-ветераны» Клеандра по-прежнему со мной, хотя сам Клеандр остался в Экбатанах. После гибели Чёрного Клита я взял царское подразделение «друзей» на себя, и теперь оно вместе с антимиотийцами, амфиполитанцами и боттиейцами именуется agema «друзей». Кавалерия «друзей» получает новое устройство, а общая её численность увеличивается с восемнадцати сотен до более чем четырёх тысяч, включая многочисленных персов, мидийцев, лидийцев, сирийцев и каппадокийцев.
Едина ли эта армия? Увы, нет. Македонцы, составляющие теперь лишь две пятых общей численности войска, чувствуют себя ущемлёнными и отнюдь не жалуют азиатов, особенно персов, неспособных, по их словам, даже правильно произнести моё имя. Для новых подданных я Искандер. То, что меня это очаровывает, приводит в ярость моих соотечественников, и чем старше человек, тем сильнее его недовольство. В настоящее время мои люди обучают обращению с сариссой двенадцать тысяч юношей в Египте и сорок тысяч персов. Македонцам, как бы ни жаловались они на скудность жалованья и трудности продвижения по службе, ненавистна мысль о том, что их заменят иностранцы.
Теперь я подхожу к «недовольным». На смотру они стоят между царскими телохранителями и отрядом фалангистов Пердикки. Не могу не признать, что выглядят они безупречно. Как жаль, что мне пришлось втиснуть их между безукоризненно надёжными подразделениями, чтобы сдержать их если не любовью, то железом.
Чтобы повысить боевой дух, я сформировал новые отряды, получившие свои знаки отличия. Например, на основе царских телохранителей создан укрупнённый отряд, в состав которого вошли ветераны фаланги, отличившиеся в кампании против Спитамена. Заклёпки их щитов и нагрудников сделаны из чистого серебра и стоят полугодового жалованья, хотя разговоры о том, что люди выдирают их и продают на вес, лживы.
Новые подразделения. Местные командиры. Всё это ставит перед командующим задачу «прокорма чудовища», то есть утоления вечной, неизбывной тяги к признанию, чести и новизне. При этом войска не должны расслабляться: по вечерам мои командиры обдумывают планы ложных высадок с реки и других проверок, которые должны держать в напряжении часовых.
Фессал, знаменитый актёр, прибывший из Афин, очарован армейской жизнью. Он находит всё увиденное очень похожим на театр.
– Александр, совершая обманные манёвры, не позволяющие противнику разгадать твои истинные намерения, ты поступаешь так же, как драматург. Например, в начале пьесы он изображает ужасный кризис в жизни царя, заставляя нас поверить в то, что мы имеем дело с историей о честолюбии, алчности или попранной чести. Зритель ждёт развития этой темы и, только когда представление достигает кульминации, неожиданно осознает, что всё это было лишь маскировкой, тогда как в действительности пьеса посвящена тому, как человек собственноручно определяет свою судьбу. И когда в финале все прозревают истину, то по силе эмоционального воздействия это сопоставимо с одной из твоих неудержимых кавалерийских атак. Драматург мог оживить пьесу, вставив в неё знамения, предсказания оракулов, чудеса, прямое вмешательство высших сил, и всё же мы, зрители, прозрев, начинаем понимать, что только собственный выбор главного героя сделал его тем, кто он есть, и определил его конец. Это трагедия, ибо кто из нас способен подняться над собой? Суть трагедии как раз в том, что человек есть узник собственной натуры, но слеп к этому. Он не осознает своей неволи и не в состоянии преступить её пределы. Будь у него такие внутренние силы, это уже не была бы трагедия. Сила трагедии в том, что она правдиво отражает сознание и царя, и простого человека и отображает жизнь. Мы собственными руками неосознанно готовим свою погибель. Все мы, кроме, возможно, этих гимнософистов. Они, похоже, сознательно стремятся к разрушению, полагая, будто в сердце небытия обретут процветание.
Собравшиеся смеются и аплодируют. Все, кроме Гефестиона, который привязался к этим индийским мудрецам и расстроен оттого, что к ним отнеслись с высокомерной снисходительностью.
Он выступает в их защиту.
– Они не варвары, Фессал. Они чужды рабского начала, свойственного вавилонянам, и в отличие от египтян не являются идолопоклонниками. Их древняя философия отличается глубиной и утончённостью. Это философия воинов. В своих попытках ознакомиться с ней я лишь слегка коснулся её поверхности, но даже это произвело на меня сильное впечатление. Вопреки твоему утверждению, мой друг, я заявляю, что эти аскеты действительно поднялись над собой, ибо очевидно, что они не родились в том состоянии, в каком мы видим их ныне, но пришли к нему в результате долгих трудов и немалых усилий.
В ответ слышатся смех и невежественные шутки, но Гефестион выслушивает их добродушно, без обиды. Мне радостно видеть, что он воспрял духом; теперь, когда армия ушла из Афганистана, я вижу это в его глазах, в глазах многих товарищей, да и в своих собственных. Теламон взирает на него с таким же удовольствием, как и я.
– К чему стремятся эти йоги, добровольно обрекая себя на бедность и отрекаясь от житейских благ? – продолжает Гефестион. – По моему разумению, они стремятся к слиянию своей личности с Божественной Сущностью, то есть желают увидеть мир таким, каким видит его Бог, и действовать по отношению к нему так, как действует Он. И побуждает их к этому не высокомерие, но смирение. Не смейтесь, друзья мои. Подумайте об аналогии, которую только что привёл наш друг Фессал, об аналогии с автором пьес. Для собственной пьесы драматург есть Бог, ибо это творение его воображения. И хотя представление об этих персонажах ограничено его замыслом и возможностями, драматург может и должен «видеть всё поле». И он испытывает сочувствие ко всем своим героям, иначе ему не удалось бы сделать их образы живыми и убедительными. Вот так взирает на нас и наш мир Всемогущий. Полагаю, это и есть то состояние, к которому стремятся гимнософисты. Не чёрствое безразличие, но благожелательное бесстрастие. Йог стремится любить злых, так же как и справедливых, признавая в каждом братскую душу и видя в нём спутника в путешествии по стезе жизни.
На сей раз смешков меньше: многие одобрительно постукивают по столу костяшками пальцев. Птолемей просит высказаться Теламона, заметив, что он видел, как наёмник увлечённо беседовал с несколькими из этих аскетов.
– По правде, – говорит он, – наш аркадец больше похож на этих нищенствующих философов, нежели на кого-либо из нас. Ибо хотя он принимает плату за свои ратные труды и без устали повторяет, что стезя наёмника достойна и почтенна, он ведёт скромную жизнь и почти всё полученное тут же раздаёт.
Птолемей призывает Теламона произнести речь.
– На какую тему?
– О Кодексе наёмника.
Все смеются: такого рода разглагольствования мы слышали часто. Когда Теламон отказывается, вместо него поднимается Любовный Локон. Приняв позу, безупречно копирующую аркадца, он пародирует речи наёмника столь точно, что вызывает общий восторг. Его осыпают монетами, а слова тонут во взрывах хохота.
– Я не служу деньгам; я заставляю деньги служить мне. В конце похода меня не волнует ни похвала, ни осуждение. Мне нужны деньги. Я хочу, чтобы мне платили. Таким образом, война для меня – это всего лишь работа. Не я её затевал, не мне её заканчивать. У меня и у моего командующего разные цели. Я служу только ради службы, сражаясь только ради сражений, совершаю утомительные пешие переходы лишь ради самих этих переходов.
Когда смех утихает, призывы товарищей вынуждают Теламона выйти вперёд.
– И впрямь, друзья, – признает он, – я беседовал с этими йогами, интересуясь их учением. Как оказалось, по их представлениям, все люди делятся на три типа: человек невежественный, tamas, человек действия, rajas, человек мудрый, sattwa. Мы, собравшиеся за этим столом, люди действия.
Таковы наши характеры и наши стремления. Но хотя я и прожил всю жизнь (а если принять доктрину Пифагора о переселении душ, то и предыдущие жизни) в таком качестве, мне всегда хотелось стать человеком мудрости. Вот почему я сражаюсь и вот почему избрал ратное призвание. Жизнь есть борьба, не правда ли? А раз так, то что может подготовить к ней лучше, чем военная служба? Разве вы не заметили, друзья мои, что эти мудрецы обладают достоинствами непревзойдённых солдат? Они привычны к боли, равнодушны к невзгодам, и каждый, заняв на рассвете свой пост, не покинет его, невзирая на жажду, жару, голод, холод или усталость. Он рад любой погоде, не нуждается в понуканиях и черпает силы из недр собственного сердца. Хотел бы ты, Александр, иметь армию с такой волей к битве? Мы бы сумели переправиться через эту реку быстрее, чем на счёт триста.
– Ты хочешь сказать, Теламон, – спрашиваю я, – что твоя солдатская служба есть подготовка к соответствующей твоему истинному призванию стезе мудреца?
Собравшихся это забавляет, но я говорю вполне серьёзно. Теламон отвечает, что мечтал бы обладать стойкостью и упорством гимнософистов.
– Мне, друг мой, далеко до этих людей, и я гожусь им только в ученики. Причём учиться придётся не одну жизнь.
Заодно наёмник заявляет, что нужными качествами в немалой степени обладаю и я.
– Надо отдать тебе должное, Александр, ты тоже не привязан к удобствам и не страшишься за свою жизнь. Тебя не интересуют земли, которые ты завоевал, а сокровища привлекают лишь постольку, поскольку могут служить для продолжения твоих походов. Но есть одно, к чему ты действительно привязан и что пагубно для твоей души.
– И что это, друг мой?
– Твои победы. Ты гордишься ими, а гордыня – это слабость.
Теламон указывает на террасу, лагерь, армию.
– Хорошо, если бы ты мог уйти отсюда сейчас, сегодня ночью. Встать и уйти! Не взять ничего! Способен ли ты на такое?
Все смеются.
– А ты думаешь, что я бы не смог?
– Ты не сможешь отказаться от своих побед и великого имени, как не сможешь и покинуть своих товарищей, которых ты любишь и которые, в свою очередь, любят тебя и полагаются на тебя. Кто настоящий владыка? Ты властвуешь над державой или она над тобой?
Смех звучит ещё громче.
– Ты знаешь, Теламон, что ты единственный, от кого я могу это стерпеть. Никому другому такое не сошло бы с рук!
– Но, мой дорогой друг, – очень серьёзно отвечает аркадец, – ты должен иметь в себе силы, чтобы встать и уйти. Быть солдатом – это далеко не всё. Кодекс воина не даёт ответов на все вопросы. Я это понял. Я прожил много жизней. Я устал. Я готов отбросить всё это, как изношенный плащ.
Все встречают его слова добродушным смехом и шутками.
– Не покидай нас! – восклицает Птолемей.
Остальные вторят ему, отпуская реплики в том же роде.
Теламон обращается ко мне.
– Александр, в детстве я учил тебя не поддаваться страху и гневу. Ты охотно учился. Ты победил лишения, голод, холод и усталость. Но властвовать над своими победами ты так и не научился. Они властвуют над тобой. Ты их раб.
Я чувствую, как подступает гнев. Теламон видит это, но продолжает:
– Замечание йога о том, что он «победил желание завоевать мир», как нельзя более уместно. Мудрец имел в виду, что он укротил своего даймона. Ибо что есть даймон, если не стремление к превосходству, которое присутствует не только во всех людях, но и во всех животных и даже растениях, обращая жизнь в непрерывную взаимную агрессию?
Этот удар попадает в цель.
– Даймон имеет нечеловеческую природу, – заявляет Теламон. – Этой сущности чуждо понятие о каких-либо ограничениях, и, неподконтрольная ничему, она пожирает всё, включая самое себя. Следует ли отсюда, что это зло? Но является ли злом стремление жёлудя стать дубом? Или тяга молоди лосося к морю? В природе желание доминировать удерживается в естественных пределах, ибо возможности животных ограниченны, и только в человеке это стремление выходит за разумные рамки. Что же говорить, друг мой, – он озабоченно смотрит на меня, – о таком человеке, как ты, чьи исключительные дарования позволяют с лёгкостью одолевать все преграды на пути осуществления твоих желаний? Нам всем известны случаи, когда люди кончали жизнь самоубийством, – завершает Теламон свою речь, – осознав, что могут убить своего даймона, лишь убив себя.
Веселье в зале сменилось напряжённостью: все держатся скованно, опасаясь вспышки гнева с моей стороны. Я же, напротив, воспринимаю слова Теламона доброжелательно. Мне хочется услышать больше, ибо им затронуты вопросы, поиски ответов на которые занимают меня днями и ночами. Мой наставник читает это на моём лице.
– Хотя ты, Александр, и посмеиваешься надо мной из-за моего желания стать когда-нибудь мудрецом, ты и сам не чужд подобному стремлению, проявлявшемуся у тебя с детских лет. Как раз поэтому я и обратил на тебя внимание, когда ты мальчонкой таскался за мной по пятам, словно тень, не отставая ни на шаг.
Это воспоминание разряжает обстановку: все облегчённо смеются. Но Теламон серьёзен.
– Кроме того, я заявляю, что именно благодаря этому ты превосходишь своего отца. Заметь, я не говорю «превосходишь как военачальник», хотя так оно и есть. И не говорю, что ты отважнее как солдат, хотя так оно и есть. Главное твоё преимущество перед отцом не в этом, а в наличии нравственной цели. Ты всегда внутренне стремился стать человеком мудрости, тогда как Филипп вполне довольствовался возможностью сражаться да барахтаться в постели с любовницами и любовниками. Когда тебе не удаётся то, на что ты, как сам осознаешь, способен, ты испытываешь страдания. Твой отец понимал это. Он понимал, что, даже будучи ребёнком, ты превосходил его. Вот почему Филипп не только любил тебя, но и боялся. И вот почему, Александр, тебя, так же как меня и Гефестиона, тянет к этим индийским мудрецам. В их исканиях ты угадываешь нечто если не совпадающее с твоей сутью, то созвучное ей.
Глава 34
«Я СТАЛ НЕНАВИДЕТЬ ВОЙНУ»

В пенджабской армии, как называется теперь наше войско, ныне имеется ряд индийских формирований, включая царскую конную стражу Таксилы, лучников и пехоту под командованием раджи Сасигупты и отрядов других союзных царьков. У этих воинов есть древний обычай вплоть до начала боевых действий лично посещать вражеский стан (в котором в этой стране, где так распространены межплеменные браки, у них много родственников, наставников и товарищей) и по-братски общаться с представителями противника. Ночью многие наши индийские союзники переправляются на лодках за реку, к позициям Пора, а немало солдат Пора каждый вечер наведываются к нашим.
Македонцам этого не понять. Когда они в первый раз замечают высаживающихся на нашем берегу вражеских бойцов, их тут же захватывают в плен и тащат (порой не слишком деликатно) к своим командирам для допроса. Воины Пора недоумевают, наши индийские союзники негодуют. Они обращаются ко мне, и я, прослышав об этом обычае, приказываю немедленно отпустить пленных, вернуть им оружие и более не препятствовать таким встречам. Благородные традиции заслуживают уважения: все прибывшие к нам командиры Пора приглашаются за мой стол и отбывают назад с богатыми дарами.
Но такой подход чреват и нежелательными последствиями: знакомясь с воинами противника, македонцы проникаются к ним такой симпатией, что у них пропадает желание сражаться. Нельзя не восхититься этими стройными бойцами, дружелюбно прогуливающимися по нашему лагерю со своими зонтами и луками из рога и слоновой кости. Беседуя, они непринуждённо, словно журавли или цапли, стоят на одной ноге, прижав стопу другой к внутренней стороне бедра. Их чёрные волосы собраны в узлы, яркие красные или оранжевые штаны подвязаны над коленями. В ушах у них золотые серьги, а с лиц почти не сходят ослепительные улыбки. Настроить себя против врага легче, если ты видишь в нём разбойника или варвара, но кшатрии Пора явно не относятся ни к тем, ни к другим. Не говоря уж о том, что ни они, ни их царь никогда не делали македонцам ничего дурного.
Готовясь к нападению, я посылал за реку многочисленных разведчиков, и все они в один голос докладывали, что на том берегу раскинулась изобильная и прекрасно управляемая страна, хозяйство которой основано не на рабстве, а на свободном труде владельцев самостоятельных наделов, своим положением похожих на вольных держателей участков из нашей родной Македонии. Разведчики утверждают, что местные жители преданы своему царю и чтут его не из страха, а из великой любви. Земля в этом царстве ухоженная и плодородная, жёны работящие и верные, детишки смышлёные и весёлые. По всему выходит, что македонцам предстоит принести войну в земной рай, и их это вовсе не радует.
Кроме того, наступает сезон дождей. Река злорадно играет с нами, как с несмышлёнышами. С гор нежданно-негаданно сбегают стремительные потоки, результат дождей и гроз, отбушевавших слишком далеко, чтобы мы могли что-то увидеть, услышать и предусмотреть. В считанные минуты всё, что мы неделями не покладая рук возводили на берегу, сплетено ли это из тростника, сложено ли из брёвен или возведено из камня, оказывается смытым в реку. Любое судёнышко, застигнутое на реке бурным потоком, сносится вниз по течению с такой быстротой, что спасатели теряют его из виду, даже если галопом скачут по берегу в ту же сторону.
Солдаты пока не ропщут, но их лица выдают недовольство. Я продолжаю готовиться к наступлению. Девятнадцать сотен лодок и плотов строятся на месте или в разобранном виде доставляются с Инда и собираются заново. Под прикрытием предмуссонных ливней я перебрасываю их к намеченным для переправы точкам, выше и ниже по течению.
Армия готовится к форсированию водной преграды и обучается действиям против боевых слонов. Для конских копыт шьют чехлы вроде сапог, облегчающие передвижение по болотистой местности. Чтобы приободрить войско, я посылаю в тыл за деньгами и оружием. Два конвоя, из Амбхи и Регала, находятся в пути, но из-за размывших речные броды дождей до нас ещё не добрались. Мысленно наметив дату наступления и сохраняя её в секрете, я из-за названных задержек вынужден был переносить её дважды, а теперь уже и трижды. Между тем бездействие деморализует любую армию; оно чревато брожением и подталкивает к мятежу.
Однажды вечером у моей палатки появляется депутация недовольных командиров. Гефестион просит их прийти попозже, под тем предлогом, что должен подготовить меня к встрече с ними, дабы их просьба не навлекла на них мой гнев. Потом, прогуливаясь вдоль реки с ним и Кратером, мы обсуждаем их приход.
– У этих негодяев яйца распухли, вот и чешутся, – бросает Кратер в своей обычной бесцеремонной манере. – Клянусь богами, они вечно заводят одну и ту же песню.
И он, чтобы придать своему утверждению весомость, громоподобно испускает газы.
– Так-то оно так, – говорю я. – Но депутация – это что-то новое.
– Вышвырни эту депутацию, вот и всё.
– Но это не какие-то молокососы, а серьёзные, заслуженные командиры.
Я называю несколько уважаемых имён.
Кратер указывает на реку.
– Если они такие серьёзные, пусть серьёзно подумают, как лучше её форсировать.
По возвращении в лагерь мы допоздна занимаемся делами, и лишь спустя несколько часов после полуночи в моём шатре не остаётся никого, кроме Гефестиона и зевающих дежурных из свиты.
Я спрашиваю его, почему он в этот вечер почти не подавал голоса.
– Правда? Я и не заметил.
Это не срабатывает; мы слишком хорошо и долго знаем друг друга.
– Ну давай, говори.
Он бросает взгляд на мальчишек дежурных.
Я делаю им знак:
– Оставьте нас.
После их ухода Гефестион садится. Я вижу, что он выпил бы вина, но не позволяет себе этого.
– Я, – говорит наконец мой ближайший друг, – возненавидел войну.
На этом мне следовало бы его остановить. Зачем выслушивать остальное?
– Ты спросил меня, я ответил, – говорит он. – Продолжать?
Я хватаюсь за опорный шест шатра и сжимаю его, чтобы унять дрожь в руке.
– Дело не в усталости, – поясняет Гефестион, – и не в желании вернуться домой. Всё дело в самой войне.
Он поднимает глаза и встречается со мной взглядом.
– Сейчас ты чувствуешь гнев, – замечает Гефестион. – Твой даймон овладевает тобой.
– Нет, – возражаю я.
Но на самом деле он прав.
– Говори, – настаиваю я, – я хочу услышать всё.
– Раньше я осуждал кампанию, проводившуюся в Афганистане, но не только не возражал против великого похода далее на восток, но и приветствовал эту идею со страстью, равной, если не превышающей, твою собственную. Но теперь всё видится мне иначе. То, что мы делаем, Александр, нельзя назвать иначе как преступлением. В конечном счёте, это та же «бойня». Как бы ни воспевали войну поэты, какие бы гимны ни слагались в её честь, по существу, она не более благородна, чем грабёж и разбой. Только совершается этот разбой не отдельными людьми, а одними народами по отношению к другим. Ремесло солдата состоит в том, чтобы убивать людей. Мы можем называть их врагами, но они такие же люди, как и мы. Они любят своих жён и детей не меньше нас, не уступают нам в отваге и благородстве и служат своей отчизне с ничуть не меньшей преданностью. Что касается тех, кого я убил своей рукой или кого убили по моим приказам, то, будь у меня возможность воскресить их, всех до единого, я поступил бы так, чем бы это ни обернулось и для меня самого, и для нашего похода. Прости...
Он хочет прекратить этот разговор, но я требую продолжения.
– До Персеполя, Александр, я был всецело на твоей стороне, ибо считал, что преступления, совершенные персами на земле Эллады, вопиют об отмщении. Но вот отмщение свершилось. Мы убили персидского царя. Мы сожгли столицу Персии и сами стали властителями всех её земель. Что же теперь?
Жестом он указывает на восток, за реку.
– Теперь мы вознамерились обрушиться на этих достойных, счастливых земледельцев. Зачем? Что худого они нам сделали? По какому праву мы развязываем против них войну? В погоне за славой? Но подлинной славы, славы освободителей, наша армия лишилась давным-давно. Или нам стоит вспомнить слова Ахилла и заявить, что мы стремимся превзойти всех в «добродетелях войны»? Чушь! Любая добродетель, доведённая до крайности, становится пороком. Зачем нам завоевания? Чтобы обращать свободных людей в невольников? Но поверь, каждый из них с радостью променяет богатство, даруемое тобой, господином, на бедность, которую он сможет назвать своей собственной. Раньше мы вели войну, у которой имелись причина и оправдание. Теперь ничего подобного нет.
Он встаёт, расстроенно ероша пятерней волосы.
– Кто может выстоять против тебя, Александр? Ты стал дубом, по сравнению с которым все деревья в лесу кажутся травинками. Армия бурлит от отчуждения и недовольства, но ты одним словом способен принудить её к повиновению. Кто может сказать тебе «нет»? Я не смогу. Они тоже.
Мой товарищ смотрит на меня.
– Сначала я держал рот на замке, потому что боялся потерять твою любовь. То есть мне казалось, что я боюсь именно этого, хотя такое поведение отдаёт тщеславием и эгоизмом. Но потом стало ясно, что боюсь я совсем другого. Того, что ты потеряешь себя! Что твой даймон пожрёт тебя заживо! Он уже пожирает нашу армию! Я люблю Александра, но страшусь «Александра». Который из них ты?
Гефестион смотрит на меня с отчаянием.
– Мы переправимся через реку ради тебя. Мы добудем тебе твою победу. Что потом?
Он умолкает. Его обвинения не содержат ничего нового в сравнении с тем, что я сам говорил себе десять тысяч раз. Но произнести это вслух, мне в лицо...
– Ты самый смелый человек из всех, кого я знаю, Гефестион.
– Лишь самый отчаявшийся.
Он прячет лицо и плачет.
На его плаще застёжка, золотой лев Македонии. Он мой заместитель, второй по рангу человек в армии.
– Если меня убьют в этом бою, – спрашиваю я, – ты отведёшь армию домой?
– Тебе следует заменить меня, – говорит Гефестион вместо прямого ответа.
Я лишь улыбаюсь.
– На кого?
Следующий день можно было бы назвать «днём слоновьего дерьма». Наш прыткий десятник Дерюжная Торба, ходивший за реку в разведку, приволок в лагерь высохшую слоновью лепёшку, этакий блин цвета мастики, в полтора локтя высотой и с купальную лохань в окружности. Мы все видели помёт рабочих слонов, но боевой, судя по отходам, является настоящим гигантом. Неудивительно, что эта находка вызывает в лагере возбуждение. Каждый считает необходимым взглянуть на лепёшку, и все наперебой гадают, какого размера должен быть зверь, способный её уронить.
– Клянусь богами, – заявляет Дерюжная Торба, – если этакое страшилище на тебя наступит, то раздавит, как гнилую луковицу.