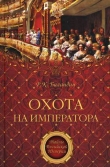Текст книги "Династия Ямато"
Автор книги: Стерлинг Сигрейв
Соавторы: Пегги Сигрейв
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц)
Во Вторую мировую войну японский милитаризм подпитывал себя гремучей смесью, настоянной на крови солдат и гражданского населения оккупированных территорий. Японская армия и флот в первые годы войны представали перед японской общественностью в лучах ратной славы. Из истории нам известно о ходе боевых операций и тому подобном, однако ничтожно мало знаем мы о ратных подвигах иного рода. Одной из величайших загадок Второй мировой войны остается вопрос о судьбе колоссальных материальных ценностей, вывезенных японской армией и флотом с оккупированных территорий в ходе колониального разграбления азиатских государств. Японскими захватчиками убито несколько миллионов мирных граждан. Награбленное оценивается миллиардами долларов. В этом вопросе оказалась замешана японская императорская семья, поэтому ниже мы еще вернемся к нему и попытаемся дать на него аргументированный ответ.
После поражения японского флота в Мидуэй-Алеутской операции в июне 1942 г., переломившего ход войны на Тихом океане в пользу США, кое-кто из членов императорской семьи посвятил оставшееся до полного разгрома Японии время сокрытию награбленных ценностей. Операция по сокрытию вывезенных ценностей получила кодовое название «Золотая лилия», руководил ею брат Хирохито, принц Титибу. Приняв негласное руководство операцией, Титибу (якобы по причине плохого здоровья) порвал с армией и отправился в находящееся близ Фудзиямы поместье – лечиться от туберкулеза под присмотром верной супруги. В действительности Титибу отправился в вояж по территории оккупированного Китая и государств Юго-Восточной Азии, где лично координировал деятельность армейских команд по сбору, складированию и вывозу в Японию через Манилу ценностей в трюмах якобы судов-госпиталей. С начала 1943 г. до середины 1945 г. принц находился на территории Филиппин. Награбленное свозилось в секретные бункеры, в подвалы построенных еще при испанцах церквей, в штольни. Свозили все, что можно было вывезти: деньги, золото, платину, серебро, бриллианты, ювелирные изделия, произведения искусства, религиозные святыни (в том числе несколько золотых статуй Будды, каждая весом более тонны). Нехватка транспортных средств не позволила Японии завершить операцию. Согласно свидетельствам японских солдат, участвовавших в операции «Золотая лилия», на территории Филиппин к концу войны находилось более двухсот секретных хранилищ, куда свезли золота и драгоценностей на общую сумму около 100 миллиардов долларов США. Имеются подтвержденные свидетельские показания участников тех событий, включая членов свиты самого принца Титибу.
Оказавшись лицом к лицу с угрозой полномасштабной десантной операции союзников на Японские острова, императору Хирохито в конце концов пришлось принять решение о полной и безоговорочной капитуляции. Несмотря на горечь поражения, Японии тем не менее удалось сохранить в неприкосновенности награбленное ею в ходе войны. Секретные хранилища, оставленные на Филиппинах, впоследствии обнаружили поисковые группы из Японии и других стран. В 1997 г. решением швейцарского суда обнародовали сведения о местонахождении золотой статуи Будды. Эта статуя сейчас размещена в подземном хранилище цюрихского аэропорта Клотен. Там же сложены золотые слитки, принадлежавшие семье экс-президента Филиппин Фердинанда Маркоса. В 1997 г. группа японской телекомпании «Асахи» обнаружила на острове Лусон подземное хранилище, где находилось 1800 золотых слитков на сумму 150 миллионов долларов США. Это золото Япония вывезла из оккупированных Суматры, Камбоджи и Бирмы, в слитки его переплавили в оккупированной Малайе, на слитках проставили кодовую маркировку «Золотой лилии». Из Малайи слитки перевезли в Манилу на борту замаскированных под госпитали транспортных судов. Китайское золото переправлялось в Японию через Корею. В Японии его складировали в штольнях близ Нагано. На дне Токийского залива по сей день находят обломки потопленных союзниками в 1945 г. японских судов с грузом золота на борту.
Благодаря принцу Титибу и операции «Золотая лилия» «обанкротившаяся» Япония смогла после ухода в 1952 г. американских оккупационных войск «удивительным» образом быстро восстановить национальную промышленность и стать второй экономически развитой страной в мире. Японии удалось уклониться от выплаты репараций в полном объеме, императорская семья избежала ответственности за военные преступления, японская финансовая элита осталась при власти и при деньгах. Утверждения о том, что после капитуляции Япония и императорская семья оказались без средств, выглядят крайне сомнительными. Военная добыча перетекла в так называемые «черные кассы» некоторых политических партий, в карманы коррумпированного чиновничьего аппарата.
Япония, в отличие от своего союзника во Второй мировой войне – нацистской Германии, не повинилась перед мировым сообществом за разграбление оккупированных стран. Правда об истинных масштабах учиненного японскими мародерами в Азии грабежа остается за семью печатями и по сей день.
Современная японская элита отгородилась от так называемых «рядовых» японцев (90 процентов населения страны) невидимой, непреодолимой стеной. Пережившая ужасы войны, лишений, разрухи нация начинает осознавать истинные масштабы коррумпированности власти. В стране назревают глубокие социальные перемены. Индекс потребительского спроса продолжает падать. При росте инвестиций в зарубежные активы и ценные бумаги объем денежных средств на депозитах физических лиц в национальных банках неуклонно сокращается. Это очень опасная тенденция.
Детство правящего императора Акихито прошло в военные годы. Возмужав, Акихито настойчиво следует по пути большей открытости императорской семьи перед японским обществом. Император, если можно так выразиться, решительно перерезал пуповину, связывающую его с Небом. Но он, равно как и члены его семьи, остается заложником мифа, созданного еще во времена Мэйдзи. Хотя императорская семья освободилась из-под влияния олигархических группировок (пришедших к власти в 1868 г.), от власти военных (правивших при Хирохито), реальная власть в современной Японии находится в руках финансовых клик, «влиятельных лиц» из высшего чиновничества и лидеров криминальных структур. Люди власти в Японии традиционно предпочитают не афишировать себя. Их девиз – «Действуй негласно – побеждай незаметно» и «Первый шаг к поражению – выход из тени».
Императорскую семью в этом смысле можно сравнить с труппой традиционного японского театра Кабуки, где церемониально одетые актеры с масками на лицах разыгрывают драматические сценки и «не замечают» присутствия на сцене одинокой фигуры, облаченной в черное с головы до пят. Фигура в черном (куромаку) остается и без внимания публики в зрительном зале. Такова древняя традиция. Куромаку – помощник режиссера, ответственный за смену декораций. Куромаку олицетворяет невидимое. Его история восходит к временам зарождения более древнего, чем Кабуки, японского театра марионеток – кукловод и его помощники там также работают на виду, не замечаемые зрительным залом. Реальную подоплеку действий императорской семьи мы сможем разглядеть, лишь поняв действия «куромаку». Жизнь в японском императорском дворце проходит в присутствии множества задрапированных в черное фигур. Император и его семья находятся в их окружении.
Глава 1
НОВООБРЕТЕННЫЙ ИМПЕРАТОР
В июле 1853 г. (тогда будущему императору Мэйдзи исполнилось всего восемь месяцев) у входа в залив, называемый ныне Токийским, замаячила эскадра военного флота США. Эскадра состояла из тяжелых боевых кораблей с черными как смоль корпусами. В ее составе находились два парохода, изрыгавшие из труб, к ужасу японцев, высокие столбы дыма. Командовал эскадрой коммодор Мэтью Перри. Перри имел поручение передать сёгуну Токугаве послание президента США с инициативой об установлении двусторонних торговых и дипломатических отношений. На протяжении многих веков Япония являлась практически закрытой для иностранцев. Сёгуны не были заинтересованы в торговле с Западом. Христианские миссионеры воспринимались как идеологическая угроза военному режиму. Иностранцам запрещалось находиться на японской земле. Исключение составлял искусственный остров в портовой бухте Нагасаки, где обосновалось небольшое посольство иноземных торговцев. Контакты японцев с внешним миром отсутствовали, в японские порты иноземные корабли не допускались. Коммодор Перри, однако, твердо стоял на своем и настойчиво добивался встречи с официальным представителем сёгуна для передачи через него официального послания американского президента. После шести дней напряженного противостояния японцы наконец согласились с условиями Перри, велевшего на словах передать сёгуну, что ожидает положительного ответа и прибудет в Японию в следующем году, но уже с эскадрой помощнее. Желая придать своим словам больше веса, Перри демонстративно вошел в залив и взял курс по направлению к столице сёгуна. На берегу возникла паника, японцы ожидали обстрела. Удовлетворившись демонстрацией силы, Перри развернул корабли и покинул бухту.
Япония 1853 г. переживала глубокий кризис. По прошествии пятнадцати лет после первого визита Перри будет свергнут правящий сёгун и после восьми веков забвения восстановлена древняя монархия. Несовершеннолетний Мэйдзи взойдет на трон. За Реставрацией Мэйдзи последует ряд глубоких перемен, через несколько десятилетий обеспечивших небывалое экономическое и политическое восхождение Японии в ранг мировых держав. В наши дни Япония является второй по величине вершиной экономики в мире. Однако Япония всегда остается Японией, в ней мифы и реальность как бы взаимодополняют и подменяют друг друга. Реставрация Мэйдзи лишь формально вернула Японии императорское правление, в то же самое время новая политическая элита поставила императора и его семью в условия строгой изоляции, регламентированные ритуалом, протоколом и так далее. По выражению одного из внуков Мэйдзи, императорская семья подобна «птицам в клетке». Япония сбросила с себя многовековой гнет сёгуната, но Сыновья Неба и Дочери Неба так и остались в заложниках у прошлого.
Взятие в заложники – древняя азиатская традиция. Верх совершенства в ней – пленение самих богов! На протяжении восьми столетий японские императоры находились в заложниках у военных режимов, с несговорчивыми расправлялись без церемоний. В 1868 г. ключевым звеном заговора по свержению сёгуна стал захват императорской семьи. Водрузив на трон Мэйдзи (по существу, так и остававшегося политическим узником), пришедшая к власти группировка обезопасила себя от контратаки противников. Но Мэйдзи стал необходим им и по другим причинам.
Со стороны японское общество видится как весьма пассивное в политическом отношении, отдающее приоритет законопослушанию и единомыслию. Именно потому, что на протяжении веков политические оппоненты не стеснялись в средствах, верность и лояльность власти приобрели особую ценность и очарование. Поиск компромисса приобрел идеальные черты, так как двурушничество и тайные сговоры стали чуть ли не правилом. В такой ситуации обладание олицетворением небесной чистоты весьма выгодно для победы над «подковерным» противником. Император, как Сын Неба и прямой потомок мифических богов, как верховный жрец синтоизма, есть воплощение абсолютной чистоты. В прошлом светская власть основывалась именно на авторитете императора. Любой, усомнившийся в полномочиях людей вокруг трона, преследовался как вероотступник, заслуживающий самого сурового наказания. Вот почему даже в наши дни большинство японцев предпочитает смирение и покорность активной гражданской позиции.
Довольно странно узнавать, что династия Ямато, почитавшаяся божественной, на протяжении веков третировалась без оглядки на ее статус: членов династии лишали привилегий, власти, травили ядами, изгоняли, доводили до самоубийства. «Сговорчивых» императоров окружали плотным кольцом гофмейстеров и придворных дам, состоящих на службе у истинных хозяев Японии. В подобных обстоятельствах быть богом куда опаснее, чем обыкновенным смертным. Такое положение дел существует и по сей день.
Детство младенца Мэйдзи прошло под знаком вопроса. Мэйдзи родила не императрица, а наложница императора Комэя Накаяма Есико, дочь придворного аристократа. Мэйдзи появился на свет 3 ноября 1852 г. в аристократическом доме, находившемся неподалеку от императорского дворца в Киото. Здесь же прошли детские годы его матери. Отгоняя злых духов, младенца искупали в Роднике божественной помощи. Мэйдзи нарекли Сатино Мийя. Мийя – одно из трех японских слов, означающих «принц». В возрасте восьми лет его усыновила императрица и провозгласила наследным принцем, дав новое имя – Муцухито Синно («принц Муцухито»). Позже Муцухито получил коронационное имя – Мэйдзи, под ним он и вошел в историю. (Ниже, за исключением особо оговоренных случаев, мы не будем давать коронационных имен императоров, чтобы не вносить путаницу.)
Из шести детей императора Комэя (двух мальчиков и четырех девочек) лишь один Муцухито смог переступить рубеж четырехлетнего возраста: из-за межродственных браков, заключаемых на протяжении не одного столетия (продиктованных соображениями стратегического и политического свойств), детская смертность в семьях аристократии являлась чрезвычайно высокой. Ряды аристократии буквально косили эндемические заболевания (сбои в иммунной системе, менингит и тому подобное). Из четырнадцати братьев и сестер самого Комэя до совершеннолетия удалось дожить лишь двоим.
Жизнь малыша Муцухито в императорском дворце подвергалась слишком большому риску, поэтому первые пять лет маленький принц провел в относительной безопасности во дворце деда по материнской линии лорда Накаямы. За Муцухито денно и нощно присматривали две кормилицы. Дитя императора полагалось кормить грудью каждые два часа. В 1854 г., когда Муцухито исполнилось два года, императорский дворец в Киото пострадал от пожара и император переехал на некоторое время во дворец Накаямы, желая быть поближе к сыну.
Муцухито рос слабым, изнеженным ребенком со своевольным и раздражительным характером. В порыве детского недовольства Муцухито нещадно ломал игрушки и колотил своих благородных товарищей по играм, которым запрещалось давать ему сдачи. Вспышки раздражения преследовали Муцухито и в зрелом возрасте. В подарок от дедушки принц получил деревянного коня и бамбуковый меч. Мальчик любил играть в самураев. В более старшем возрасте он полюбил лошадей и самурайские мечи. Физические упражнения помогли ему несколько укрепить слабое здоровье и приобрести более «крепкий» внешний вид. Из дневников Накаямы нам известно, насколько дед беспокоился о здоровье внука и оберегал его. В возрасте пяти лет наследный принц вернулся к родителям в перестроенный дворец в Киото. Ему отвели новый павильон с белыми стенами и черной черепичной крышей. Неподалеку находился пруд с карпами и сад с вечнозелеными растениями, сливовыми деревьями и черным бамбуком. В Киото Муцухито посещали учителя, император лично давал сыну первые наставления в искусстве поэзии. Из предметов принцу более всего по душе пришлись история и география. После визита коммодора Перри в Японию стали чаще заходить иностранные торговые суда. Иногда Муцухито удавалось самому посмотреть на таинственных иностранцев на улицах Киото, когда ему разрешалось выезжать за пределы дворца, дабы полюбоваться осенними красками леса или цветущими вишнями. Эти редкие поездки за пределы дворцовых стен совершались в черной лакированной повозке, запряженной двумя белыми волами. В повозке принца надежно укрывали от посторонних глаз бамбуковые шторки.
Во дворце Муцухито окружали забота и внимание трехсот фрейлин двора, подчинивших его жизнь строжайшему регламенту. Фрейлины (дочери придворных аристократов) контролировали все: распорядок дня, посетителей, диету… Фрейлины попадали во дворец в девичестве и оставались в нем навсегда. Отдавая дочь во фрейлины, аристократ усиливал свое влияние при дворе. Фрейлины говорили на особой архаичной форме японского языка «госё котоба», или «дворцовом языке», абсолютно непонятном большинству японцев. Жесткая иерархия наделяла фрейлин высшего ранга огромной властью. К примеру, они могли сделать так, чтобы неугодный им министр никогда не попал на аудиенцию к императору. В среде фрейлин встречались такие исключительно образованные и талантливые женщины, как жившая в XI веке Мурасаки Сикубу, вошедшая в историю японской литературы написанной ею «Повестью о Гэндзи». И все же высокое образование фрейлинам не требовалось, в основном они прислуживали и развлекали императора. Если супруга императора не могла родить императору наследника, в обязанности фрейлин вменялось «разрешение» данной проблемы. Мать Муцухито стала счастливицей, подарившей императору наследника. Фрейлины имели осведомителей во всех уголках Японии, и зачастую именно от них император получал известия о событиях за пределами Киотского дворца.
Кушанья наследнику подавали фрейлины, надевавшие при этом хлопчатобумажные гигиенические маски и касавшиеся циновки при ритуальном поклоне только тыльной стороной ладони (чтобы не допустить даже малейшего загрязнения). Фрейлине, занятой вышиванием, ни в коем случае не позволялось слюнявить нитку, продевая ее в иголку, и тому подобное. Наследный принц пользовался особыми палочками для еды, по длине их превосходили только палочки императора (9 дюймов [6]6
22,5 см.
[Закрыть]). Сервировке стола также уделялось особое внимание. Иногда Муцухито предлагались блюда западной кухни. Из мясных блюд принц предпочитал курятину.
Император Комэй не разделял увлечения сына «заморскими штучками». Он не скрывал неприязни к инородцам. Одна из его поэм начинается такими словами: «Пусть меня навеки поглотят холодные воды глубокого прозрачного родника моей родины, но пята иноземца да не осквернит его вовеки». Императору было немногим за двадцать, когда в Японию прибыл посланник американского президента Перри, и Комэй подверг резкой критике сёгунат за его позицию в отношении Запада, как он считал, слишком нерешительную. Но он заблуждался: уже на протяжении многих лет европейские торговые суда, пытавшиеся приблизиться к японским берегам, встречали противодействие японского флота. Известны инциденты с применением корабельной артиллерии. Несколько экипажей русских судов были брошены в японские тюрьмы. В 1864 г. японский флот остановил у берегов Японии и отбуксировал в открытое море два американских парусных судна коммодора Джеймса Биддла. Но, как правило, к иноземным морякам относились уважительно, снабжали их едой и питьем и лишь затем объявляли о запрете на вход в японские порты, ссылаясь на японский закон о запрещении въезда иностранцев в страну. С появлением пароходов Японские острова приобрели для европейцев и американцев еще большую привлекательность с точки зрения организации портового снабжения углем, укрытия китобойных судов от непогоды и как большой потенциальный рынок (оставшийся в стороне от промышленной революции). США все громче заявляли о собственных интересах в Тихоокеанском регионе. Коммодору Перри было поручено «открыть» Японию для США, не стесняясь в средствах. Силой, если угодно.
Многие в Японии ратовали за установление торговых связей с заграницей и знакомство с новыми идеями и технологиями. В условиях самоизоляции Япония не могла импортировать даже продукты питания в неурожайные для страны годы. Открытие Японии для мира явилось бы открытием мира для Японии: его промышленных технологий, системы образования, науки и медицины, сырьевых ресурсов для национальной промышленности. Однако многие упорно цеплялись за прошлое, поэтому в стране росло противостояние между приверженцами и противниками изоляционизма. Назревала буря.
Армия сёгуна под предводительством потомственных самураев не отвечала требованиям нового времени. Поражение Китая в Первой опиумной войне с Великобританией в 1842 г. не сулило Японии ничего хорошего. Сёгунат в конце концов был вынужден пойти на уступки, чтобы избежать войны. Поэтому коммодор Перри, вернувшись на Японские острова через несколько месяцев после своего первого визита, получил от сёгуна положительный ответ. Сёгун принял решение единолично, без консультаций с императором Комэй. Сёгунат подписал договоры с США, позже с Великобританией, Россией, Германией, Голландией и Францией. Эти страны получили право на экспорт товаров в Японию на взаимовыгодных условиях, японский закон о запрещении въезда иностранцев в страну на членов их судовых команд не распространялся. После многовекового изоляционизма японцев буквально шокировал наплыв иностранцев, одетых в необычные одежды и ведущих себя, по их мнению, неподобающим образом. Сохранилось высказывание японского чиновника о тех временах: «На протяжении более десяти лет наша страна находилась в не поддающемся описанию состоянии полного замешательства».
Правительство сёгуна теряло контроль над происходящим. Во многом неравноправные договора с заморскими державами окончательно пошатнули его авторитет в глазах японского общества. Сёгунат, некогда мощный, к началу XIX века представлял сёгун Иэнари. Иэнари, «изнуренный сластолюбец», имел гарем из девяти сотен наложниц и не менее пятидесяти пяти официально признанных детей. Министры правительства, занятые лишь им понятными склоками и борьбой за влияние через придворных фрейлин, поставляли сёгуну несовершеннолетних детей. Страну наводнили бумажные деньги, в городах пышным цветом расцвели увеселительные заведения и бордели.
Рядовые японцы в середине XIX века оказались у опасной черты. Вопрос выживания стал для них главным. Япония являлась аграрной страной, земли находились во владении феодальных семейств. Эффективно хозяйствующих феодалов оставалось немного, в основном их земли располагались вдали от столицы, подальше от внимания центрального правительства. Собственников крупных земельных угодий обязывали (приказ сёгуна) строить роскошные дома в столице и не скупиться на их содержание. Феодалы помельче также были в долгах как в шелках. В стране свирепствовала инфляция, богатства уходили от земледельцев в кассы ростовщиков. Торговцы и банкиры быстро богатели, но жили в постоянном страхе перед хищным сёгуном. В их среде часто распространялись слухи, подобные следующему: «Богатый коммерсант умер в тюрьме, его сыновья и управляющий убиты, а имущество конфисковано!»
В 1832–1837 гг. Япония пережила Великий голод, когда съели всех лошадей, собак, кошек. В небольших деревнях, насчитывающих 40–50 дворов, не выжил ни один человек; некому было хоронить умерших. Отмечались и случаи каннибализма. За голодом пришла чума. Вспыхнули крестьянские и городские бунты, оппозиция взялась за оружие. Только в одной японской провинции 50 тысяч доведенных до отчаяния крестьян пошли на штурм складов местного землевладельца, заплатив за это 562 жизнями. В городах без устали шныряли агенты тайной полиции. Аресты «заговорщиков» проводились даже в общественных банях. После смерти в 1841 г. шестидесятидевятилетнего сёгуна Иэнари министры-реформаторы без промедления изгнали из дворца около тысячи придворных и слуг. Реформы запрещали роскошь, в стране официально объявили режим жесткой экономии.
Оппозиционные сёгунату силы не смогли выработать скоординированный план действий. Наиболее рьяными противниками нового сёгуна стали наследственные самурайские кланы, стремившиеся взять реванш за прежние поражения в борьбе за высшую власть. В интересы кланов не входил подрыв института сёгуната. Основным являлся вопрос о том, какой из кланов станет лидирующим. Более радикально настроенные реформаторы ратовали за конец военного режима и за «модернизацию» Японии посредством вывода на политическую авансцену императора и формирования нового кабинета министров, составленного из коалиции ведущих кланов. Идея коалиции и сплочения ее вокруг фигуры императора приобретала все большую популярность. В дальнейшем к ней присоединились феодалы и их вассалы, выдвинувшие лозунг «Сонно Дзои» – «Преклонение перед императором, изгнание варваров». Император Комэй неожиданно для самого себя оказался крупной политической фигурой, священным знаменем коалиции. Подрыв национальной экономики и политической стабильности сводил на нет попытки сёгуната восстановить контроль над страной. Атмосфера социального кризиса накалялась преднамеренными поджогами складов и дипмиссий иностранных государств. За причиненные убытки Запад требовал от сёгуна выплат громадных денежных компенсаций, непосильных для его казны.
Предводительствовали в антитокугавской коалиции сильнейшие кланы: Тёсю и Сацума. Тёсю обращал взоры на север – Корею, Маньчжурию и Сибирь. Сацума – на юг, по направлению к Тайваню, южному Китаю, Ост-Индии и Юго-Восточной Азии.
Княжество Сацума, второе по размерам территории в Японии, находилось на южном гористом острове Кюсю. Его столицей был крупный портовый город Кагосима. Воины Сацума прославились как одни из самых свирепых и жестоких. Клан активно торговал с Китаем и Западом, не считаясь с запретами Эдо. Сацума действовали как самостоятельно, так и в контакте с китайскими пиратами, а также через своего вассала – правителя островов Рюкю. Главной «доходной статьей» нелегального бизнеса Сацума был тростниковый сахар. Глава клана Симадзу содержал сильную армию и импортировал современное оружие через обосновавшихся в Китае британцев и американцев. Симадзу залез в долги. Однако, когда пришло время возвращать их, отказался платить по счетам. Предъявить повторный счет не решился никто из кредиторов. Долги списали, а клан продолжал вооружаться.
Западную оконечность острова Хонсю, отделенного от Кюсю проливом Симоносеки, занимало княжество Тёсю со столицей Хаги. Тёсю, вдвое меньшее Сацума, обладало, однако, плодородными землями и потому не уступало ему ни в богатстве, ни в военной мощи. В XVI веке именно с территории Тёсю осуществлялась грабительская самурайская экспансия в Корею. Тёсю контролировал пролив, обложив данью проход торговых судов в Осаку через Внутреннее Японское море. Князь Мори ссужал деньги торговым гильдиям, крестьянским хозяйствам, самураям-вассалам. Клан Тёсю не торговал с заграницей, как Сацума, наоборот, он выступал за политику изоляционизма и выдворения с территории островов иноземцев, что послужило причиной постоянных конфликтов двух кланов.
В марте 1860 г. убили главного советника сёгуна. У ворот Сакурада, сёгунского дворца в Эдо (позже переименованного в Токио), двадцать самураев устроили засаду. Дождавшись выезда повозки главного советника из ворот, нападающие разоружили охрану, выволокли советника из повозки на снег и снесли несчастному голову. Убийство второго по значению после сёгуна человека явилось частью заговора клана Сацума по дестабилизации японской верхушки. Однако сёгун, подросток шестнадцати лет, сделал ответный ход, совершенно неожиданный для его противников. Сёгун отправился в Киото на встречу с императором Комэем, где выразил намерение изгнать иностранцев с Японских островов, согласовывать свои действия по реорганизации правительства с лидерами ведущих самурайских кланов и феодалами. Комэй, весьма пораженный и польщенный неожиданным визитом, в качестве ответного жеста предложил сёгуну в жены одну из своих сестер, дабы связать их семьи кровными узами. Альянс слабого императора и сёгуна, ненавидимого заговорщиками, застал последних врасплох. Император Комэй, сам того не сознавая, обрек себя на погибель. Комэя решили «пустить в расход», а трон предоставить его наследнику. Пришло время решительных действий.
В августе 1864 г. Тёсю ввел войска в Киото и встал лагерем у ворот Хамагури, императорского дворца, намереваясь «вызволить» императора Комэя «из рук коррупционеров» и «взять его под свою защиту», таким образом вынудив сёгуна пойти на уступки и «избавить» страну от иноземцев. Войска Тёсю пошли на приступ. Одиннадцатилетний наследный принц Муцухито впервые в жизни стал свидетелем настоящего боя, так отличавшегося от его игр с деревянными мечами. Пули с пронзительным свистом носились под низкими сводами дворца, тонкие стены павильонов не были для них преградой. В разгар боя наследный принц лишился чувств, но скорее от крайнего перевозбуждения, чем от страха. Восемнадцать дворцовых построек знатных аристократов, окружавших императорский сад, и 44 павильона провинциальных феодалов выгорели дотла. За дворцовой стеной в Киото разрушили огромное количество зданий, синтоистских и буддийских храмов, театров, не говоря уже о лачугах городской бедноты.
После провала операции Тёсю по захвату императора Сацума без промедления перешли на сторону альянса сёгун – император, вынудив тем самым клан Тёсю отойти к границам своего княжества. Сацума и Тёсю являлись смертельными врагами, поэтому Сацума пришлось временно отказаться от своих планов по свержению сёгуна. Сёгун, в качестве победителя, потребовал от князя Мори лично предстать пред его очи и покориться его воле, но Мори уклонился от такой незавидной для себя встречи. Юный сёгун стал готовиться к наступлению на владения Тёсю. Подготовка заняла несколько месяцев, в течение которых оба противника лихорадочно закупали вооружения западного образца.
Помимо немногочисленной гильдии иностранных торговцев, обосновавшихся в Нагасаки и находившихся под неусыпным наблюдением шпионов сёгуна, крупнейшим нелегальным поставщиком оружия в Японию был клан Сацума. Через посредников Тёсю удалось договориться с Сацума о поставке оружия (главным образом новейших скорострельных орудий) в обмен на рис и деньги. Западные торговцы в Шанхае поставляли Сацума оружие большими партиями. Более того, иностранцы также обучали самураев Тёсю правильному обращению с ним. В конце концов Тёсю и Сацума заключили временное перемирие и объединились против сёгуна. Придворная знать присоединилась к заговорщикам, рассчитывая на посты в будущем правительстве. К антисёгунской коалиции постепенно присоединялись все новые и новые силы. В конечном счете она объединила 23 клана, ведомые Сацума, Тёсю, Хидзэн и Тоса. После победы над сёгуном коалиция проживет очень недолго, но главная цель будет достигнута.
Вот выдержка из записки некоего самурая, участника заговора по свержению молодого сёгуна, британскому поверенному в делах, где говорится о происходивших тогда в стране событиях: «В наших провинциях до сих пор полным-полно глупцов и недоучек, в своем слабоумии продолжающих цепляться за отжившее. Они ничего не смыслят в современном западном мире с его прогрессом… они подобны лягушкам на колодезном дне. Но теперь даже они наконец начинают понимать… Глаза и уши этих глупцов наконец обращаются к окружающему их миру. Вопрос об открытии страны для иноземцев… назрел… и разногласий во взглядах по этому вопросу ничтожно мало».