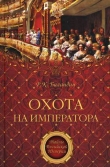Текст книги "Династия Ямато"
Автор книги: Стерлинг Сигрейв
Соавторы: Пегги Сигрейв
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
Через пять месяцев после бомбежки Перл-Харбора Япония контролировала большую часть Восточной Азии. Несмотря на тактические успехи, сама оккупация обернулась катастрофой. Японии не удалось добиться регулярных поставок нефтепродуктов и иных сырьевых ресурсов из Юго-Восточной Азии. Японская армия аргументировала этот неуспех контролем «искусных интриганов китайцев» над природными ресурсами. Имея многовековой опыт «улаживания проблем» с бюрократами всех мастей, иноземными завоевателями и местными «князьками», китайцы вставляли палки в колеса японской военной машины, тогда как войска западных союзников, не теряя времени, собирались с силами для нанесения сокрушительного удара.
Японские промышленные гиганты, прибрав к рукам теперь уже бывшие китайские, голландские, британские и американские владения, пытались самостоятельно начать эксплуатацию «стратегических ресурсов», основать национальные монополии в сфере аграрно-сырьевого производства. «Мицуи» монополизировала рынок соли и сахара, «Мицубиси» – риса. Китайских торговцев выживали с рынка. Прекращалась промышленная добыча олова в Малайе, резко сократилась площадь чайных плантаций в Индонезии. В регионе расцвел «черный рынок», оживились рэкетиры. В «сухом остатке» – беспрецедентный рост безработицы и инфляции, голод и тезаврация. [56]56
Накопление частными лицами золота.
[Закрыть]Цены взмыли ввысь. В Восточной и Юго-Восточной Азии рис ценился дороже золота. Японским захватчикам в конце концов пришлось пойти на сотрудничество с китайскими синдикатами, контролирующими контрабанду риса. Японские банки подключились к спасению (или эксплуатации – для кого как) голодающих. Теневой капитал прокручивался в различных лотереях, борделях и игорных клубах. Японские военные шли на личные контакты с местными гангстерами, спекулянтами, наркобаронами.
Японская «экономическая стратегия» в поверженных ею государствах Азии кончилась полнейшим фиаско, выродившись в отчаянную «финансовую резню». Колониальное разграбление превратилось в самоцель, грабеж «оправдывал» новые завоевания. Банки в Китае, а позже в Юго-Восточной Азии и на малайском архипелаге попросту разграбили, их управляющих и бухгалтеров принуждали к раскрытию данных о своих клиентах; клиенты банков арестовывались и обирались до нитки; промышленные предприятия подвергались хищнической эксплуатации; церкви, мечети, храмы, пагоды лишались бесценных реликвий; золотую фольгу срывали даже с пагод; из музеев и домов зажиточных людей выносили все ценное. «Золотая лилия» богатела, отправляя в переплавку награбленное золото (за исключением некоторых бесценных предметов искусства и золотых статуй Будды, представляющих многотысячелетнюю историю накопления богатства ведущими сектами во Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, Сиаме и Бирме). Ювелирные украшения конфисковали, драгоценные камни из них вынули, золото и серебро переплавили в слитки. Золото из Бирмы, Камбоджи и Суматры свозилось в Ипох [57]57
Город в Малайзии, на полуострове Малакка.
[Закрыть](центр добычи оловянной руды), где оно переплавлялось на некогда принадлежавшем китайцам заводе. Проживавший на Хоккайдо этнический китаец по имени By Чжу-син руководил этой фабрикой в обмен на «проценты с переработанного материала». В Куала-Лумпуре и Сингапуре имелись заводы со схожим производственным профилем. Золото переплавлялось в типовые слитки, маркировалось китайским иероглифом «золото», страна происхождения проставлялась латинским шрифтом, пятиконечные звезды указывали на его количественное содержание. Подобная «инвентаризация» требовалась бухгалтерам «Золотой лилии» для статистики и учета…
До конца 1942 г. награбленное свозилось в Рангун, Пенанг, Сингапур и Джакарту, откуда морем переправлялось в Манилу и далее в Японию. Китайская территория для транспортировки не задействовалась, за исключением единичной успешной операции «Итиго» в конце 1944 г. Транспортные суда, перевозящие золото, камуфлировались под плавучие госпитали; одно из судов – «Ава Мару» – отправила ко дну американская подводная лодка близ китайской береговой линии, несмотря на свой предполагаемый «иммунитет». (В соответствии с международными нормами, плавучие госпитали атаковать запрещалось.) На побережье Манильского залива имелось множество складов, куда японцы свозили золото, драгоценные камни, золотые и серебряные монеты. Оттуда, через 35-мильный тоннель шириной в полтора армейских грузовика, имущество «Золотой лилии» вывозилось с побережья в катакомбы под заброшенными испанскими крепостями. Тоннель, вырытый военнопленными, сохранился до наших дней; большинство филиппинцев даже не знают о нем.
Согласно многочисленным японским источникам, увольнение Титибу из армии в 1940 г. было фикцией, прикрытием. Они же утверждают, что Хирохито в 1940 г. поручил Титибу возглавить руководство «Золотой лилией»; князь Такэда будто бы являлся заместителем Титибу. В 1941–1945 гг. Титибу и Такэда выезжали на оккупированные территории в Китай, Бангкок, Вьетнам, Лаос, Камбоджу, Бирму, Малайю, Сингапур, Суматру, Яву, Борнео и Филиппины, наблюдали за ходом работ по сбору и отправке в Японию награбленного имущества. Принц Микаса якобы также совершил ряд визитов к брату на Филиппины, и, хотя никто не обвиняет Микасу в прямой причастности к деятельности «Золотой лилии», предположительно Микаса все же о ней знал. Принц Такамацу, утверждают те же источники, к «Золотой лилии» непричастен.
В начале 1943 г. американские подводные лодки добились значительных успехов в блокировании японских морских коммуникаций. Японский военный флот утерял инициативу. Япония оказалась неспособной осуществлять доставку преступной добычи с Филиппин. Согласно японским источникам, тогда же принц Титибу перенес свою ставку из Сингапура на остров Лусон, посвятив два с половиной года инвентаризации и сокрытию богатств в подземных хранилищах – тоннелях, бункерах и пещерах – всего 172 «объекта».

На карте захоронения на Филиппинах японской «военной добычи», некогда принадлежавшей принцу Титибу, схема подземных тоннелей похожа на фигурку рисованного «человечка». Тоннели прорыли военнопленные под армейской базой «Тереза» на Ризале (расположен к юго-востоку от Манилы). Всего на территории Филиппин в годы Второй мировой войны японцы оборудовали 172 «объекта», куда в строжайшей тайне свозилось награбленное (золото, платина, бриллианты, золотые статуи Будды) из материковой Азии. Американская морская блокада Филиппин не позволила японцам вывезти содержимое «объектов» собственно в Японию. Груженные драгоценностями грузовики своим ходом въезжали в подземные тоннели, выходы замуровывались. Военнопленных, дабы не «раскрывать дислокацию секретных объектов», замуровывали в тех же тоннелях заживо… Карты захоронений, выполненные на вощеной бумаге, «оставили для хранения на острове» одному из камердинеров принца Титибу, тайно стерегущему их до 1974 г. В 1974 г. карты попали в руки президента Филиппин Маркоса, совместно с «японскими партнерами» приступившего к «специальной операции». Маркос «пригласил к сотрудничеству» американского горного инженера из Невады Роберта Куртиса, при содействии японцев «расшифровавшего карты».
Флажок влево/вправо – означает обратное/прямое изображение на карте. Три кружка слева от флажка обозначают вентиляционные шахты. Для усложнения дешифровки японское иероглифическое письмо исполнено в двух стилях – древнем и современном. Иероглифы над тремя кружками означают «Тереса». Иероглифы в «основании» флага – «проект № 5». Под крестом в левой половине карты – фонетическое написание слова «тракторы» (то-ра-ку-та-а). Иероглифы у квадратов с крестиками под «часами» – «грузовики» [58]58
Trucks (англ.).
[Закрыть](то-ра-ку). Ниже – квадраты с точкой в центре – бриллианты. Иероглифы по центру карты – «золотые Будды в грузовиках». Спираль слева обозначает винтовую лестницу. Круг справа – огромный мельничный жернов, действительно обнаруженный Куртисом в 1975 г. при раскопках «объекта Тереса». Под схемой Титибу обозначил общую стоимость «объекта» – 777 миллиардов иен (в ценах 1944 г.). Куртис утверждает следующее: его команда подняла для Маркоса на поверхность золото на сумму 8 миллиардов долларов США (в ценах 1975 г.), – и это из «половины содержимого Тересы», не считая статуй Будды и россыпей бриллиантов в порожних баках для нефтепродуктов.
Впоследствии Маркос перенес свое внимание на другие «объекты», а значит, «вторая половина Тересы» находится под землей и по сей день. Маркос приказал своим людям убить Куртиса. Куртису удалось переснять на фотопленку 172 карты, выслать копии супруге Иоланде в Неваду, а сами оригиналы надежно спрятать. Поэтому, убив Куртиса, Маркос остался бы ни с чем. Ночью Куртис сжег оригиналы на балконе гостиничного номера, а на следующий день покинул Филиппины на борту самолета.
Многие «объекты» сейчас опустошены, однако большинство охотников за сокровищами остается ни с чем – не удается расшифровать значение «часов» на картах, указывающих на компасный пеленг, глубины и тому подобное.
(Существовали и другие секретные спецобъекты, «ответственность» за них возлагалась исключительно на армию.) По свидетельствам японцев, принимавших непосредственное участие в сокрытии богатств, вторая «инвентаризационная группа» на Лусоне возглавлялась сыном князя Асаки – Асакой Такахито. Токио тешил себя надеждой на заключение с Вашингтоном перемирия, позволяющего сохранить Филиппины, а позже тайно вывезти награбленное с вышеупомянутых спецобъектов. В случае «потери Филиппин» добычу планировалось вывозить иначе, но вывозить – после войны так и случилось. Начав и проиграв войну, Япония изо всех сил стремилась сохранить награбленное – для восстановления национальной экономики в кратчайшие сроки.
В 1944–1945 гг. Япония укрыла на морском дне тонны «трофейного» золота. В Манильском заливе японская подводная лодка потопила свои же суда, включая крейсер «Нати». Их экипажи, пытавшиеся спастись, всплывшая подлодка расстреляла из пулемета. В конце 1970-х гг. поисковая экспедиция президента Филиппин Маркоса обнаружила остатки «Нати» и подняла на поверхность оказавшиеся в его трюмах золотые слитки.
Японскую грузовую подлодку «1-51», пытавшуюся тайно вывезти 2 тонны золота на тогда еще германскую базу подводного флота в Лорьяне (Франция), потопила американская морская авиация в Атлантике. Недавно удалось обнаружить место ее гибели, и в настоящее время идут работы по подъему груза. А ведь Япония для перевозки золота задействовала не только одну вышеупомянутую субмарину. Золото доставлялось под водой в Европу и Южную Америку, где поступало на хранение в заграничные филиалы швейцарских банков.
Сейчас, спустя десятилетия после войны, наличие подобных сокровищ в сейфах швейцарских банков многими рассматривается как беспочвенная фантазия. Японии это на руку. Тем не менее в 1990-х гг. суды в США и Швейцарии вынесли вердикты на основании реальных свидетельств сокрытия награбленного Японией в ходе Второй мировой войны на территории Филиппин. В 1997 г. японская телевещательная компания «Асахи» сняла на Филиппинах репортаж об истории со случайной находкой в одной из местных пещер 1800 слитков золота общей стоимостью 150 миллионов американских долларов: слитки имели маркировку «Золотой лилии» и были отлиты в Ипохе. В удивительную пещеру первыми проникли представители босоного горного народа игорот, [59]59
Народность игорот – 1,1 млн. человек, или около 2 процентов населения Филиппин. Проживает преимущественно на острове Лусон. Язык – илокано.
[Закрыть]якобы побоявшиеся продавать найденное золото, страшась расправы. Некто в Маниле информировал «Асахи» о находке, надеясь в обход филиппинского золотовалютного рынка выйти непосредственно на «нужных» людей в Японии. «Асахи» не решилась на полномасштабное репортерское расследование, как она утверждала, «из страха перед японскими экстремистами».
Судя по всему, принц Титибу все же действительно находился на Филиппинах в тот период и действительно возглавлял «Золотую лилию». Полагаем, полномасштабное и обстоятельное расследование деятельности «Золотой лилии» на территории государств, оккупированных Японией во Вторую мировую войну, обязательно будет предпринято в ближайшем будущем. Такое расследование само по себе могло бы составить тему для отдельной книги. В 1950-х гг. в Токио (после скоропостижной смерти Титибу от туберкулеза) некий член императорской семьи в разговоре с иноземцем [60]60
Неким полковником Вилакрузисом.
[Закрыть]признал следующее: японская армия в годы войны накопила трофеев на общую сумму свыше 100 миллиардов долларов США. Большую часть сокрыли на Филиппинах, и «потребуется столетие для обнаружения их местонахождения». Тот же источник подтвердил, что Титибу провел на Лусоне два с половиной года и вернулся в Японию в начале 1945 г. на борту японской подводной лодки. В современной Японии причастность членов императорской семьи к деятельности подобного рода официально не признается (и не признавалась никогда), тем не менее в последние годы проблема затрагивается, пусть и в частном порядке.
Таким образом, в отличие от своего «азиатского эквивалента» вопрос о возврате нацистской Германией «военной добычи» был не только поставлен, но и получил несоизмеримо более значимый международный резонанс (во многом благодаря влиятельному еврейскому лобби, организовавшему эффективную скоординированную кампанию). Конечно, Вторая мировая война стала страшным бедствием для народов Европы и Азии. Да, нацисты лишили жизни шесть миллионов евреев, но в результате японской агрессии в Азии погибло 30 миллионов человек (в одном Китае – 23 миллиона)! Япония превзошла фашистскую Германию и по масштабам разграбления оккупированных государств (в том числе в стоимостном выражении)! Официальный Токио продолжает играть в молчанку…
Внимание Запада странным образом сосредоточилось на вопросе о роли Хирохито в развязывании войны, но разве его следует задавать в первую очередь? Многие исследователи утверждают: император ратовал за скорейшее заключение мира и без обиняков заявил об этом Тодзё в феврале 1942 г.: «Полагаю, Вы всесторонне рассмотрели вопрос об окончании конфликта при представившемся благоприятном случае. Нежелательно затягивать его понапрасну… Опасаюсь [к тому же] ухудшения качества наших войск в случае затягивания войны». Но Хирохито, как бы он ни высказывался, не требовал быстрого мира. Победы возбуждали аппетит к новым победам, неудачи толкали к погоне за военной инициативой – переговоры подождут! Следовательно, и победы, и неудачи требовали все более «славных» побед!
Первое крупное поражение Япония потерпела в июне 1942 г. в сражении у атолла Мидуэй. Принц Такамацу пришел к заключению о необходимости скорейшего заключения мира с США. Хирохито не согласился и объявил ему об этом. Но когда «приливная волна сменилась сильным обратным течением от берега», Хирохито в срочном порядке подыскал новую точку опоры – направил усиленную авиагруппу для поддержки гарнизона на острове Гуадалканал, отдал приказ о возобновлении наступательных действий в Новой Гвинее. Чем хуже становилась обстановка на фронтах, тем более утверждался Хирохито в решимости переломить обстановку. После войны Хирохито в одном из своих дневников признал: «Я хотел нанести по врагу единичный удар, где бы он ни находился, и получить немедленную возможность добиться мира». «Возможность» ему не представилась!
В кругу вдовствующей императрицы Садако имелась тайная фракция приверженцев мира, куда входили некоторые бывшие премьеры, дипломаты, придворные сановники и члены императорской семьи. Фракция планировала направить князя Коноэ в Швейцарию (с помощниками вроде Тэрасаки Таро) на секретные переговоры с союзниками. Коноэ отнесся к идее без энтузиазма, но согласился попробовать. Ёсида представил некий план лорду – хранителю печати Кидо, – Кидо отнесся к предложению с прохладцей, и дело заглохло…
Во фракцию приверженцев мира входили члены японской потомственной финансовой аристократии, не желавшие лишних проблем. Мир необходим для сохранения того малого, что осталось от «традиционной Японии» (естественно, с их статусом в ней). Решительно покончить с премьер-министром Тодзё и иными противниками компромисса было бы для них слишком радикально. Погорев на «дипломатическом зондировании» на земле швейцарских банкиров, они сосредоточились на уговорах Хирохито заменить Тодзё на «популярного в войсках и народе человека», способного провести чистку в рядах «Группы контроля», и Япония бы затребовала мира! Никому из них не удалось переубедить Хирохито, считавшего вооруженные силы способными добиться превосходства над противником раньше, чем дипломаты сядут за стол переговоров. Тодзё на своем месте! В ноябре 1943 г. Хирохито заявил принцу Такамацу следующее: от Тодзё нет проку, как говорят, но кого ж тогда? Здесь лучше его не сыскать!
В апреле 1944 г., с ухудшением обстановки на фронтах, князь Коноэ переменил мнение о Тодзё, о чем и объявил князю Хигасикуни. Ведь Тодзё останется на посту премьера не далее чем до поражения Японии в войне, и посему вся ответственность за оное ляжет целиком на него. Коноэ стало известно о тайных переговорах Джо Грю с японским послом в Швейцарии Касэ Сунити. Грю заверил Касэ в понимании Америкой важности сохранения японского императора на престоле, являющегося единственной гарантией неприхода к власти коммунистов после войны. Ради спасения императорской семьи Тодзё нужно принять на себя ответственность, признав себя виновным в развязывании войны.
Коноэ заявил Хигасикуни: «Американцы [обладают] скудными сведениями об императорской семье и об особенностях функционирования института императорской власти в Японии». К сожалению, после их беседы война затянулась еще на год… Причиной тому послужили две навязчивые идеи: «необходимость» в военном успехе до начала переговоров о мире и «нужда» в Тодзё на посту премьера и по совместительству на посту козла отпущения, когда виктория отвернется от Токио.
В июне 1944 г. американские войска заняли исключительно важный в стратегическом отношении атолл Сайпан – командование США получило возможность размещения на аэродроме Сайпана бомбардировочной авиации, способной наносить удары по японским городам. Слово помощнику императора генералу Хондзё: «Принца Такамацу вовлекли в план по отстранению Тодзё с поста и окончанию войны. Принц будоражит императорский двор россказнями о „тревожных сигналах“, против воли лорда – хранителя печати Кидо и императора. Между Такамацу и Хирохито то и дело вспыхивают ссоры. После их очередного, но особенно горячего спора относительно Тодзё Такамацу объявил Его Величеству, что не принимает во внимание информацию, идущую мимо правительственных каналов. Император же не верит ему в этом. Кажется, император не желает решать вопросы политического свойства с членами императорской семьи. Вдовствующая императрица Садако – всегда ратовавшая за мир – со своей стороны пыталась склонить Хирохито к принятию решения об окончании войны. Князь Хигасикуни даже подумывал „задействовать“ императрицу Нагако, однако принц Такамацу выступил против этого, аргументируя свое несогласие так: „Если повести дело коряво, все может кончиться серьезными [внутренними] проблемами“».
Поскольку Хирохито продолжал упорствовать в своем милитаризме, двор полагал себя вправе предпринять «радикальные шаги». Принц Такамацу, князь Хигасикуни, принц Микаса и князь Коноэ – движущие силы. Возможно, принца Титибу также вовлекли в интригу, так как он несколько раз прилетал в Токио из Филиппин. 8 июля 1944 г. члены императорской семьи пришли к секретному соглашению «принудить» Хирохито к отречению от престола в пользу своего десятилетнего сына наследного принца Акихито. Принц Такамацу стал бы регентом, князь Хигасикуни получил бы портфель премьер-министра. Без промедления начались бы мирные переговоры с США… Когда лорд – хранитель печати Кидо донес «слух» до Хирохито, Хирохито немедля отправил Тодзё в отставку (14 июля).
Война закончилась через тринадцать месяцев после отставки кабинета министров, ведь преемник Тодзё, генерал Койсо Куниаки, не получил ни от Хирохито, ни от Кидо письменного указания начать мирные переговоры. Устранив угрозу личной власти, Хирохито ждал «великой победы» («тэннозан»), ждал благоприятного для Токио момента. В октябре 1944 г. такой «тэннозан» могла стать битва за остров Лейте [61]61
Филиппинский архипелаг.
[Закрыть]– и действительно, она явилась крупнейшим морским сражением в истории. Спустя годы Хирохито писал: «Если бы нам удалось первыми нанести удар по Америке у Лейте и вынудить ее отступить, тогда мы, вероятно, смогли бы начать поиски компромисса». Как бы вторя Хирохито, премьер Койсо однажды заявил в своем радиообращении: «Если бы Япония одержала победу у Лейте, она бы выиграла эту войну». Япония проиграла, японский адмирал, командовавший флотом близ Лейте, руководил сражением по радио, укрывшись в одном из подвальных помещений в Токио!
В феврале 1945 г. аналитики японского Генштаба предсказывали высадку десанта союзников на южный японский остров Кюсю (не позднее июля) и на Хонсю (не позднее сентября). Принц Такамацу, наиболее пессимистически настроенный и трезвомыслящий из братьев, опасался более скорой развязки.
Выступавшие за скорейшее начало мирных переговоров японские политики и дипломаты (во главе с Ёсидой) обратились к Коноэ с просьбой организовать аудиенцию у Хирохито и передали через него свой меморандум. Поражение в Новой Гвинее представляло им случай – аудиенцию назначили на 14 февраля 1945 г. Князь Коноэ – одержим страхом перед угрозой коммунистической революции в Японии. При встрече с императором Кидо зачитал ему меморандум «миротворцев» и пытался убедить его в необходимости остановить войну, иначе коммунистическая революция сметет императорскую семью. Капиталистическая система, классовое общество, императорская семья в опасности! Коноэ развивал тему: «Подавляющее большинство наших солдат являются выходцами из бедных семей, материальное положение делает их восприимчивыми к лозунгам коммунистической доктрины. Коммунистические элементы завлекают солдат на свою сторону утверждениями, будто [императорская семья] и коммунисты могут мирно сосуществовать. Полагаю, теперь стало абсолютно очевидно: маньчжурский инцидент и китайская война, переросшие в Великую Восточно-Азиатскую войну, – звенья заговора [коммунистической] группировки в армейских рядах». Коноэ бросил камень в огород «Группы контроля». Забавно видеть, как на твердолобых фашистствующих функционеров из «Группы контроля» Коноэ навесил ярлык коммунистов, но если вспомнить о злодеяниях Сталина… (Генерал Ямагата в свое время использовал схожие аргументы: если не крайне правый, значит, коммунист; демократия и коммунизм – двуглавая змея: потакая одной голове, потакаешь змее!)
В самом деле, война высвободила дотоле сдерживаемые в Азии революционные настроения. Коммунисты и иные радикалы делали успехи в Корее, Китае, Индокитае, Бирме, Малайе и Индонезии. Князь Коноэ утверждал: если «Группу контроля» не отстранить от управления армией, то после поражения (уже неизбежного) Японию захлестнет волна социальных потрясений, которые в конечном счете приведут к падению династии Ямато и краху всего, во что они верят. Единственный выход из создавшегося положения – назначить премьером популярного в армии служаку, желательно из рядов приснопамятного «Пути императора». (По иронии судьбы такое назначение и являлось одним из главных требований подавленного Хирохито в 1936 г. восстания молодых офицеров.) «Авторитетный военный» во главе правительства сможет совладать с «Группой контроля». Выбор пал на отставного генерала Угаки, но Угаки запросил самоотвод, поэтому в итоге «миротворцы» сошлись на кандидатуре генерала Мадзаки, поборника молодых офицеров в 1936 г.
Хирохито пришел в ужас: он презирал Мадзаки в 1936 г., презирает и теперь, и ничто не сможет убедить его изменить отношение к Мадзаки! Остается загадкой, почему Хирохито настолько страшился наивного, абсолютно неуместного идеализма молодых реформаторов – даже теперь, в 1945 г., после всех тех бедствий, обрушившихся на Японию по вине «Группы контроля». Реставрация Мэйдзи возвела императора на недосягаемую для простых смертных высоту, опутав его в то же время по рукам и ногам догматами мудреной мифологии и шаманскими мистификациями. Пылкая влюбленность в императора членов «Пути императора», таким образом, свидетельствовала о «дурной одержимости», и, возможно, Хирохито всерьез напугала чрезмерная вера в него. Привечать фанатичных поклонников во дворце крайне рискованно, ведь религиозные фанатики непредсказуемы!
Князь Коноэ полагал Вашингтон способным пойти на «крайние меры» в отношении японского императорского двора в случае «мирной инициативы» со стороны Токио. Гарантией послужит «влияние Джорджа Грю и прочих американских антикоммунистов».
Тут бы Коноэ и закруглить свою речь, пока теплится надежда… Но нет, Коноэ неразумно «проговаривается»: возможно, Хирохито придется отречься от престола в пользу сына и переехать в буддийский монастырь в Киото (где в прошлом последнее пристанище нашли многие его «предшественники»). Удивительно, почему Коноэ (один из умнейших сановников того времени) оказался столь невосприимчив к тогдашнему настрою Хирохито! Император впал в глубокую задумчивость… Коноэ не получил ответа. Время аудиенции истекло.
Принц Такамацу, узнав о «провале» Коноэ у императора, обвинил Коноэ, Ёсиду и «миротворцев» в «некомпетентном представлении» сути дела Хирохито, в отсутствии «конкретной стратегии».
Одиннадцатью днями позже – Хирохито продолжал колебаться – ВВС США приступили к массированным бомбежкам японских городов. Только в одном Токио погибло 200 тысяч человек. К 10 марта около двух миллионов токийцев остались без крова; бомбовые удары с воздуха наносились по городам Осака, Нагоя, Корияма, Сидзуока и Коидзуми. Хирохито продолжал хранить молчание…
В конце марта Хирохито принял решение: «Поскольку армия и военный флот ведут подготовку к решительному сражению за Окинаву, полагаю в настоящий момент несвоевременным прекращать войну». Трехмесячная оборона Окинавы стоила жизни 110 тысячам японских военных, 150 тысячам мирных жителей. Американские потери составили 12 тысяч убитыми и 36 тысяч ранеными. Завершить Окинавскую операцию суждено было Гарри Трумэну, после внезапной кончины Рузвельта, [62]62
12 апреля 1945 г.
[Закрыть]согласно конституции, занявшему пост президента. 7 мая 1945 г. Германия безоговорочно капитулировала. [63]63
После взятия советскими войсками Берлина преемник Гитлера К. Дениц пытался заключить одностороннее перемирие с командованием английских и американских войск. По его поручению А. Йодль вылетел в ставку Д. Эйзенхауэра в Реймс (Франция) и 7 мая 1945 г. подписал условия капитуляции. Советское руководство выразило решительное несогласие с таким оформлением акта о капитуляции Германии. Такой акт должен быть подписан в Берлине представителями немецкого главнокомандования в присутствии представителей Верховного командования союзных войск. Акт о безоговорочной капитуляции Германии подписали 8 мая в Карлхорсте (предместье Берлина). В соответствии с ним 8 мая 1945 г. с 23 часов 01 минуты по среднеевропейскому времени прекращались все военные действия. По московскому времени это соответствовало 1 часу 01 минуте 9 мая.
[Закрыть]Хирохито представилась очередная возможность остановить войну, однако он не счел возможным отказаться от обязательств перед германскими союзниками, пойдя на сепаратный мир. «Взяв на себя перед Германией твердое обязательство не искать одностороннего мира, я не намеревался, исходя из соображений международного доверия, обсуждать условия мира впереди Германии. Поэтому я желал наискорейшего поражения Германии». И все-таки Хирохито протянул с решением еще три месяца после безоговорочной капитуляции Германии…
Спустя немногим более двух недель после капитуляции Германии загорелся дворец императора в Токио (в ходе очередного авианалета американской авиации на город с применением напалма). Огонь уничтожили около двух десятков дворцовых построек, включая главный дворец и дворцы вдовствующей императрицы Садако и наследного принца Акихито. Императрица Нагако пребывала в истерическом состоянии – хотя во время налета вместе с другими членами императорской семьи находилась в бункере под зданием императорской библиотеки. Утверждали, будто Хирохито теперь разделяет страдания народа… В этих бомбежках погибло еще более полумиллиона мирных японских граждан, 13 миллионов человек потеряли свои жилища.
26 июля союзники опубликовали Потсдамскую декларацию [64]64
В Потсдаме от имени правительств Великобритании, США и Китая. Потсдамская декларация требовала безоговорочной капитуляции Японии во Второй мировой войне и формулировала основные принципы мирного урегулирования. Японское правительство отклонило (28 июля) ее требования. 8 августа к Потсдамской декларации присоединился СССР и объявил Японии войну. 14 августа Япония приняла условия Потсдамской декларации. 2 сентября 1945 г. был подписан акт о капитуляции Японии.
[Закрыть]с требованием о безоговорочной капитуляции Японии. Грю к этому времени уже находился в Вашингтоне, работал заместителем госсекретаря США. Грю советовал Белому дому разъяснить японцам значение «безоговорочной» капитуляции: «Величайшим препятствием к безоговорочной капитуляции… является их вера в то, что таковая повлечет за собой уничтожение или перманентное устранение императора и института его власти». Грю советовал разубедить в этом японскую элиту, чье привилегированное положение в обществе всецело зависело от сохранения императорской династии и самого императора.
После изрядных препирательств с Токио в ультиматум союзников внесли нижеследующую гарантию: [65]65
Пункт 12 Потсдамской декларации.
[Закрыть]«Оккупационные войска союзников будут отведены из Японии, как только будут достигнуты эти цели и как только будет учреждено мирно настроенное и ответственное правительство в соответствии со свободно выраженной волей японского народа» (курсив С. и П. Сигрейв). Четко сформулированной гарантии сохранения верховной власти Хирохито и императорской династии в тексте декларации не имелось. Поэтому ответа на требования Потсдамской декларации от Хирохито не последовало, и это окончательно убедило союзников в неизбежности вторжения на Японские острова.
6 августа на Хиросиму сбросили первую в истории Второй мировой войны атомную бомбу. Погибло еще 140 тысяч японцев. Хирохито с советниками продолжал упорствовать. Через три дня по Нагасаки нанесли удар второй атомной бомбой. Погибло еще 80 тысяч человек. За день до ядерного удара по Нагасаки Советский Союз объявил о вступлении в войну против Японии. Сталин и его западные союзники заключили секретное соглашение о вступлении Москвы в войну через три месяца после разгрома нацистской Германии. Группа миротворцев из Токио ничего о нем не знала и в последний момент предприняла отчаянные шаги по вовлечению Москвы в мирные переговоры в качестве посредника. Сталин, надеявшийся захватить северные Японские острова в качестве приза за вступление в войну против Японии, заблокировал ее инициативу. Президент США Трумэн, генерал Маршалл и генерал Макартур не верили в то, что ядерные бомбежки Японии склонят последнюю к капитуляции. Все трое выступили за советское участие в операции по захвату островной Японии: почему американские войска должны нести тяжелые потери в одиночку? Япония безумно боялась России, ведь в перспективе советские оккупанты несомненно будут воевать в связке с монгольскими частями, как и у Номонхана, и, вероятно, под командованием того же генерала Жукова. Перспектива коммунистической революции в Японии, опирающейся на штыки советских войск, вызвала в Токио полнейшую панику.
Поздно ночью 9 августа на совещании в императорском дворце Хирохито заявил следующее: «Всесторонне проанализировав складывающуюся обстановку внутри страны и за ее пределами, прихожу к заключению о нецелесообразности дальнейшего продолжения военных действий, так как оно будет означать единственно неисчислимые бедствия для народа и пролонгацию кровопролития и жестокости в мире».