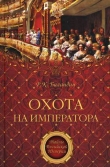Текст книги "Династия Ямато"
Автор книги: Стерлинг Сигрейв
Соавторы: Пегги Сигрейв
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 27 страниц)
Принц Микаса, самый младший и самый оригинальный из четырех сыновей императора Тайсё, после войны продолжил образование и поступил в Токийский университет, где изучал археологию, Ближний Восток и семитские языки. Многие годы преподавал в Токийском женском христианском колледже, в Лондонском университете в качестве приглашенного профессора. У него пять детей, восемь внуков. Время от времени принц Микаса выступал с комментариями, проливая свет на некоторые темные страницы в истории Второй мировой войны; вспоминал о своем запрещенном эссе, еще в годы войны сообщавшем о совершенных японской армией преступлениях против человечества.
В 1987 г. у Хирохито выявили рак двенадцатиперстной кишки, но правду императору о неизлечимости его болезни не сообщили. Менее чем через два года, 7 января 1989 г., Хирохито умер.
«Старые порядки» сохранились в современной Японии. Еще и теперь можно заплатить жизнью за право говорить в полный голос. Даже выпивохи, перебрав, боятся сболтнуть лишнее. Прошло больше четырех десятилетий после войны, когда мэр Нагасаки Мотосима Хитоси позволил себе в мягкой форме публично поставить под сомнение официальную роль Хирохито в войне. Хитоси заявил: император (тогда Хирохито исполнилось восемьдесят семь лет) несет некоторую ответственность за Вторую мировую войну, «как и все, жившие в тот период». И продолжил: «В те годы я учил новобранцев отдавать жизнь за императора». Мэр тут же стал получать угрозы физической расправы, в его адрес по почте прислали пули, окна муниципалитета обстреляли.
«Если бы я высказался до войны, – предположил позже Хитоси, – полагаю, я бы заплатил за свои слова жизнью. Так что сейчас мы наблюдаем некоторый прогресс».
Мэр Нагасаки поспешил. 18 января 1990 г., то есть через год после кончины Хирохито, некий член экстремистской японской группировки «Академия правоверных» убил Хитоси выстрелом в сердце. Мэр стал первым политиком, убитым в Японии после Второй мировой войны…
Какая-то часть Японии уже сейчас живет в высокотехнологическом будущем, но другая ее часть продолжает цепляться за самурайское прошлое. Переход к более современной Японии, к более современному императору не сможет осуществиться без конфликта – ведь здесь есть кому об этом позаботиться.
Глава 12
ЛЮДИ-НЕВИДИМКИ
В последние несколько десятилетий XX столетия Япония многим представлялась процветающим, здоровым индустриальным обществом, управляемым мудрым императором-синтоистом. Но это лишь фасад здания. Император Хирохито старел, наследный принц Акихито терпеливо ожидал своего часа, финансовые олигархи Японии использовали правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП) для подрыва конституции и окончательного коррумпирования правительственных чинов. Взяточничество в Японии превратилось в банальность. Без мошенничества и мзды невозможно ничего добиться. Послевоенный экономический бум разросся в громадный абсцесс, питаемый теневой экономикой, проворачивающей колоссальные средства, «нажитые» разграблением оккупированных Японией азиатских государств во Второй мировой войне. Цены на недвижимость в Японии возросли многократно – неутомимые мздоимцы активно пристраивали теневые капиталы. Пускай в этот период Хирохито и играл роль конституционного монарха по типу Виндзоров, не участвуя в коррупции, и все же без него, вернее, без его молчаливого согласия дело, как показало время, не обошлось.
Хирохито комфортно сосуществовал с партбоссами из ЛДП – так же комфортно, как в свое время с милитаристами, – ведь и милитаристы, и партбоссы служили подручным инструментарием финансовой элиты, реально контролирующей трон, составляющей с ним единый или по крайней мере родственный (в буквальном смысле) организм, над которым не властен закон, писанный для простонародья… Пускай Хирохито и претендовал на некое «отчуждение», всерьез занимаясь изучением морской фауны в компании микроскопов и чашек Петри, многие и многие нити все же связывали трон с ЛДП и олигархами. К примеру, главный финансовый бастион императорской семьи после войны – сказочно богатый клан Цуцуми – являлся в то же время и главным финансовым бастионом ЛДП и ее главного босса Такэситы Нобуру. Цуцуми Ёсиаки однажды заметил (поскромничав, как выяснится позже): «Когда командую я – около сотни политиков подпрыгивают».
После войны Хирохито восседал на троне еще сорок четыре года. Поставить под вопрос его традиционный статус небожителя все еще означало сурово караемое святотатство. Осмелившийся высказаться против коррупции и тайного сговора получал ярлык коммуниста и попадал в тюрьму. Со временем оппозиция поутихла, приняв плату за молчание от ЛДП и привязавшись к ней. После смерти Хирохито в 1989 г. с него наконец сняли маску бога, скрывавшую, как оказалось, насквозь коррумпированный режим, открыто заявляющий о своих возросших аппетитах.
Токио в очередной раз оказался на перепутье. Трижды за последние сто пятьдесят лет Япония переживала катаклизмы, пытаясь встать вровень с ведущими мировыми державами, но каждый раз дело кончалось пшиком: при Мэйдзи, при Тодзё и под вывеской «Япония корпорейшн». В чем тут причина?
В основе, как всегда, власть, означающая в конечном счете благосостояние. Копнув глубже, можно увидеть финансовые интересы ведущих кланов в Японии, еще со времен Сога (V век нашей эры), рода, поднявшегося над конкурентами благодаря удержанию монополии на поставки с территорий материковой Азии. Со времен Сога до Реставрации Мэйдзи мало кто из императоров или сёгунов реально правил Японией – настоящая власть находилась у их родни и советников, использующих богатства для расправы над соперниками, для управления ходом событий из-за кулис. Современные японские милитаристы – последователи генерала Ямагаты – играют по тем же правилам, заключая тайные альянсы с финансовыми группировками. Сейчас, когда «Япония корп.» обзавелась высокими технологиями, власть в ней действует также из-за кулис, принадлежит подобным же финансовым кликам, с теми же скрытыми мотивами личной власти и наживы, с теми же закулисными сделками и навязыванием «общественного» мнения. Вышеперечисленное коррумпирует и деморализует всю систему, нанося ущерб стране в целом, – так инцест сказывается на генах всего рода, приводя к врожденным уродствам.
В современном внутриполитическом раскладе Японии единственным отличием, по сравнению с прошлым, является то, что послевоенные финансовые клики не делят власть ни с кем – ни с сёгунами, ни с самураями, ни с милитаристами, ни с императором (магическим посохом), ни с избранными политиками (куклами-марионетками). Финансовые клики стали самыми влиятельными силами в современной Японии. У них теперь практически нет ни серьезных противников, ни тем более кровных врагов. Не будем забывать: их представляют не только финансисты, банкиры да директора корпораций, но и криминальные «авторитеты». Так что «невидимость» – их императив. Член одной клики вполне может участвовать и в паре-тройке других, почему нет? Вычленять, кто куда вхож, – занятие неблагодарное, даже для хорошо осведомленных японцев. Положим, некая группировка банкиров, финансистов и гангстеров собирается по вторникам в приватных апартаментах какого-то токийского ресторана и величает себя «Четыре небесных короля», разве это возбраняется? Некоторые ее члены по четвергам собираются в одном из чайных домиков с иными людьми и называют себя «Двенадцать божественных генералов» или какими-то иными причудливыми образами, выбранными из синтоистского пантеона бессмертных. Что с того? Так их сеть контролирует события в Японии на всех уровнях экономической деятельности и общественных институтов. Браки их представителей друг с дружкой еще больше укрепляют те же альянсы.
Японскую финансовую элиту и ее карманную армию приверженцев-активистов от остальных 90 процентов японского народа ограждает ее эксклюзивное право играть в бесчестные игры с национальным богатством. После Второй мировой войны Гувер, Макартур и другие позволили Японии уклониться от наказания; деньги заменили пули. До сих пор в Японии взятки и стоимость предвыборных кампаний деноминируют в «пулях» («пуля» равняется 100 миллионам иен, то есть около 800 тысяч долларов США). В наши дни в Японии уже не подкупают милитаристов; финансовые клики задействуют ЛДП для «поощрения» правительственной бюрократии.
Позитивным моментом является снижение вероятности ультранационалистического реванша в Японии практически до нуля. Страх поплатиться жизнью за критику в адрес императора или правительства присутствует, но и он теряет силу. Претензии Японии на расовое превосходство и национальный консенсус порядком пообтрепались. С крушением коммунизма японские ультраправые не могут, как встарь, спекулировать на страхе перед ультралевыми – никто теперь не воспримет этого всерьез, всерьез как раз воспримут аргументы сторонников социальных перемен.
С другой стороны, коррупция в Японии стала универсальной, дерзкой и неуправляемой – настолько дерзкой, что олигархи «запачкали собственное гнездо». В результате японская экономика переживает глубокий системный кризис, падают прибыли. Никогда ранее ничего не реформировав, олигархи толком не знают, как это делается. Реформы для них – как красная тряпка для быка, поэтому есть серьезные сомнения в том, смогут ли они наладить банковскую систему и спасти Японию от экономического коллапса а-ля Россия. Олигархи не желают признавать необходимость реформ, страшась их. В Японии, как говорит пословица, лучше вообще ничего не допускать и не признавать. Последнее, чего желали бы влиятельные лица в Японии, – открыто признать собственную власть, ведь подобное признание сделает их более уязвимыми для критики. Как только они забывали этот урок, у них начинались серьезные проблемы.
Неприметность японских «людей-невидимок» основывается на старинной аксиоме ростовщиков: «Язык мой – враг мой». В 1930-х гг. японист Джон Гюнтер попытался пролить свет на загадку невидимок: «Я не пробыл в Японии и 20 минут, как впервые обратил внимание на довольно странное употребление японцами слова „они“. Они, объяснили мне, определили… последние передвижки в политике; онирешили, в каком направлении должна развиваться страна. Ониустроили назначение… премьер-министра».
Жажда обогащения всегда являлась базисной движущей силой в Японии (впрочем, как и везде), тем не менее признавать ее здесь не принято, наоборот, ее будут всячески отрицать, замалчивать, маскировать. Ключом к успеху в Японии стало незаметноеследование узкокорыстному интересу, будь ты финансист, политик, уголовник или чиновник-бюрократ. Генерал Ямагата – паучище, в свое время свивший грандиозную сеть, – всегда осторожно величал себя «всего лишь простым солдатом». Такова японская метода!
И в наши дни японское правительство продолжает активно упражняться в поддержке «невидимого» осуществления полномочий. Подотчетности власти перед собственным народом в действительности почти не существует. Послевоенное политическое устройство предполагалось сделать прозрачным, подотчетным и служащим интересам всего японского общества. Японская бюрократия должна была стать меритократией с иммунитетом к льстивым речам и мзде. Судебная власть должна была вершить справедливый закон, со всей суровостью карая политиков, бюрократов или бизнесменов за малейшую попытку подрыва новой системы.
Подобные соображения предполагали рациональное устройство Японии, наподобие отлаженного городского движения: каждый участник, не создавая опасных помех для других, использует пересечения, перекрестки, кольцевые развязки; то есть не создает аварийных ситуаций. Приняв определенные правила «дорожного движения», различные группы интересов в новой Японии сменяли бы друг дружку, как это происходит в Европе и Северной Америке. Каждая группа отдавала бы власть лишь на определенное время, так что оппозиционные группы по собственной воле согласились бы с общественным контролем бюрократии, законодателей и средств масс-медиа.
В такой рационально выстроенной системе каждый подчиняется правилам игры, ведь правила относятся ко всембез исключения, даже к тем, кто на время при власти или на время без нее. Игровое поле, таким образом, давало бы всем возможность проявить себя. Однако в период американской оккупации японские олигархи с успехом уклонились от постройки подобной политической системы, сохранив за собой всю полноту власти в стране по однопартийной модели «ЛДП – остальные».
ЛДП, задействовав теневые фонды олигархов, искусно внесла разброд в ряды мелких партий крупными денежными вливаниями, выборочно «подсадив» их членов на взятки. ЛДП, вместо того чтобы разумно передавать власть другим, пользовалась на протяжении десятилетий неограниченной властью. В этот период тем не менее финансовое влияние на ЛДП переходило от одной теневой группировки к другой. ЛДП раскололась на фракции – каждая со своей штаб-квартирой, источниками финансирования, кандидатом в премьеры, теневым кабинетом и так далее и тому подобное; но с единой приверженностью к тем же ультраконсервативным воззрениям в политике, типичным для Японии до начала Второй мировой войны. В нижней палате парламента все эти фракции ЛДП выступали единым фронтом, обеспечивая себе эксклюзивный контроль над всей Японией. В суперлигу попадают только с большими деньгами! Японский народ оказался без политического противовеса, без какой-либо возможности дать суперлиге хороший нагоняй.
Подноготная ЛДП на многое открывает глаза. Партию основали после войны посредством громадных денежных вливаний, осуществленных ультраконсервативным теневым миром, нажившимся на войне. С тех самых пор, действуя в интересах олигархов, ЛДП поглотила колоссальные теневые средства – большая часть которых выплачивалась преступным миром, – «покупая» бюрократов, судей, конкурентов по бизнесу. В японской прессе на протяжении десятилетий периодически всплывали эффектные скандалы, потрясшие ЛДП до основания и приведшие к глубокому упадку в середине 1990-х гг. И все же ЛДП столь глубоко пронизала органическую ткань японской жизни, в ее рядах состояли и состоят столь влиятельные люди, что ее регенеративная способность наводит на мысль о монстре из кинофильма «Чужой». [85]85
«Alien».
[Закрыть]Отсеки ему все его головы и щупальца, облей кислотой, жги, взрывай, облучай радиацией – через час он вернется в новой ипостаси.
Один из исследователей определил японскую правовую систему как «господство на основе права» вместо господства права. То есть закон используют для отстранения рядовых людей от принятия решений по какому-то ни было ключевому вопросу, а элита, поставленная над законом, не соблюдает никаких правил, обязательных для остальных. Элита загодя уходит от «неприятностей», верша судьбы страны на основе закулисного замирения или вне правового поля. Бюрократия, политики, толстосумы и криминалитет разрешают свои споры загодя и вне поля зрения общественности, прежде чемони возникнут на поверхности. Так что в Японии редко когда реальные разногласия в стане элиты обнаруживают себя в явной форме, видимость консенсуса отработана до мелочей. Потому-то на внутриполитической сцене Японии в течение трех последних десятилетий правления императора Хирохито все выглядело столь умиротворяюще спокойным. Хирохито сохранял маску невозмутимости на лице; чиновники-бюрократы, политики, финансовые клики и криминалитет действовали в счастливом сговоре «по-японски».
Если что-то и всплывало на поверхность, то немедля находился и козел отпущения (избранный на тайном совете), который заливался горючими слезами перед объективами телекамер, громогласно подавал в отставку и уходил наслаждаться пенсионным покоем, гарантированным ему за согласие публично и за всех посыпать голову пеплом. Японские министры финансов «окунаются в гущу событий» несколько раз в течение своей карьеры. Подобные периодические «выходы на публику» с демонстрацией «вскрытых пороков системы» выполняют функцию чистильщика – так уклоняются от реальных реформ. Сама система не меняется, публичный скандал не означает утраты неким политическим воротилой рычагов влияния. Его короткий выход на свет рампы может лишь на какое-то время уменьшить его влияние – как вампир слабеет от света факела, прежде чем ушмыгнет обратно в склеп. Ярким примером подобного метода стал партбосс ЛДП Такэсита Нобуру, из-за тщеславия перебравшийся из своего схрона в кресло премьер-министра – желая лично поучаствовать в оглушительном скандале по делу «Рекрут» и подать в отставку в 1989 г. Сыр-бор тогда разгорелся вокруг некой строительной фирмы «Рекрут», снабжавшей не допущенными к биржевому обороту акциями ряд политиков и чиновников, включая премьера Такэситу, а уже те, в свою очередь, перепродавали их с жирным наваром на открытом рынке. Скандал привел к временному падению акций ЛДП. Однако после трех лет конфуза, в течение которых другие политические группировки пытались без особых результатов отыскать осиновый кол (достаточно большой для того, чтобы всадить его в сердце ЛДП), ЛДП выжила, а Такэсита вернулся к своим политическим игрищам за темными, светонепроницаемыми кулисами. Он и сейчас там, спустя десять лет.
Недостаток солнечного света вызывает к жизни гнилостную среду, как нельзя лучше подходящую для процветания коррупции, столь обожаемой теневыми японскими функционерами. Коррупция – столь привычная часть японской системы, что лишь изредка (скандальными разоблачениями по делам «Рекрут» или «Локхид») общественное мнение выплескивает свое возмущение. Японские пропагандисты уверяют: подобные скандалы – исключение из правил, их нация спаяна воедино древними традициями, национальной однородностью, имперским наследием и благородным чиновничеством… На самом деле скандалы изобличили строго контролируемую, исключительно изощренную систему коррупции, единственной значимой своей целью ставящей утаивание национального богатства внутри очень узкого круга в ущерб всем прочим гражданам.
Хотя большинство японцев считают: их политики никоим образом реально не представляют их интересы, – члены ЛДП взяли на себя, в обмен на щедрые подношения на выборах, роль посредников между финансовыми группировками и правительственными чиновниками. Таким образом они создают иллюзию демократии. В Японии «демократия» значит буквально следующее: взятки передаются через избранных политиков, а не выплачиваются напрямую, как во времена «до демократии».
Каково значение Хирохито во всем этом? В ходе первых всенародных выборов, состоявшихся после капитуляции Японии, в 1946 г., лидер Либеральной партии Хатояма Исиро дал понять: любой голос против Либеральной партии (предшественница ЛДП) есть голос против императора – намек на смертную казнь. Хотя (официально) императора уже не почитали божественным, Хатояма довел до сознания избирателей, что тем не менее Хирохито остается главой японской нации. У большинства японцев еще были свежи воспоминания о том, как в 1925 г. Хатояма, занимавший пост министра образования, высказывался в поддержку смертной казни в отношении допустивших малейшую критику в адрес императора. Поэтому в 1946 г. они поняли его предельно четко.
Либеральная партия Хатоямы («либеральная» лишь в отношении мзды) как раз получила крупную сумму денег от заправилы подпольного бизнеса Кодамы Ёсио (прежде чем его отправили в тюрьму Сугамо по подозрению в военных преступлениях). Используя шантаж и неограниченные теневые финансовые ресурсы, Либеральная партия легко победила на выборах. Вот тогда-то враги Хатоямы разъяснили американцам, кто такой Хатояма на самом деле, и генералу Макартуру волей-неволей пришлось взять его под стражу на неопределенное время. Хатояма, таким манером, лишился исторического шанса стать первым в истории Японии «избранным» премьер-министром. Прежде чем отправиться на нары, Хатояма успел уговорить старого друга Джо Грю, министра иностранных дел Ёсиду, возглавить Либеральную партию и послужить вместо него премьером.
В 1952 г. американцы ушли из Японии – Хатояма вернулся в большую политику. Вместе с союзниками-теневиками он основывал Демократическую партию – для подрыва некогда возглавляемой им Либеральной партии и смещения с поста ее руководителя Ёсиды. В 1954 г. Хатояма стал премьер-министром. Заручившись финансовой поддержкой Кодамы, Хатояма объединил Демократическую и Либеральную партии (с некоторыми мелкими фракциями) в единую Либерально-демократическую партию (ЛДП). Японцы любят подчеркивать: ЛДП не является ни либеральной, ни демократической, ни партией. С тех самых пор ЛДП не отдавала бразды правления страной никому на протяжении четырех десятилетий, с одним коротким перерывом (связанным со скандалом по делу «Рекрут»).
В 1954 г. премьер-министр Хатояма и его ближайшие соратники из ЛДП приступили к «совращению» послевоенного японского правительства. Американская оккупационная администрация в Японии нуждалась в помощи со стороны японцев в решении рутинных вопросов управления страной, поэтому правительственной бюрократии позволили продолжать функционировать без каких-либо особых помех и после капитуляции. Бюрократию не реструктурировали – по существу, она оказалась единственной довоенной деталью японской государственной машины, сохранившей первозданность и после войны, смоделировав под себя многие властные полномочия СКАП. С концом американской оккупации бюрократы в Токио оказались единственной сильной рукой японского правительства, стали королевством в королевстве. Только в теории это королевство являлось меритократическим. Бюрократы искусно расширили полномочия, создали некое подобие византийского правления, полностью парализовав общество. В Японии стало невозможно ничего добиться, не уплатив сперва мзду бюрократам для разрешения обойти византийские законы. Многочисленные наслаивающиеся друг на друга правила и ограничения в жизни Японии существуют не просто так: только самые состоятельные и влиятельные могут творить что угодно, уплачивая мзду. Занявшие выгодные должности чинуши дают добро определенным лицам, компаниям, политикам, гангстерам и финансистам на обход закона – получая взамен продвижение по службе, взятки и гарантии устройства на посты топ-менеджеров в зажиточных компаниях после своего ухода из правительства.
Слово японскому кинорежиссеру Итами Дзудзо: «В отличие от политического деятеля бюрократа практически невозможно публично отозвать с должности. Мы можем сетовать по поводу действий бюрократа… но мы не в силах повлиять [на институт бюрократии], как бы он ни пренебрегал интересами общества».
Утверждение о совращении олигархами и ЛДП бюрократии не совсем правильно. Бюрократия не смогла бы быстро раздеться, не будучи страстной и энергичной в постели. Она сама установила основополагающие принципы, по которым ее следовало коррумпировать. Остальное сделала ЛДП.
Чтобы разобраться, как все устроено, достаточно всего-навсего проанализировать «удивительные» карьерные достижения трех партбоссов из ЛДП. Все они начинали карьеру как «невидимки». Затем каждый «материализовался» перед нашими глазами, принеся себя в жертву – как Такэсита, раздувшееся эго которого решило покончить с пребыванием в тени. Речь идет о Киси Нобусукэ, Танаке Какуэе и Канэмару Сине. Эти трое, конечно, не единственные «проказники» в рядах ЛДП, просто их истории достаточно показательны. В компании с заправилой теневого бизнеса Кодамой и основателем партии Хатоямой они являлись великими политическими вампирами в истории послевоенной Японии. Именно они (не император) обладали решающим правом голоса при назначении премьер-министров и распределении министерских портфелей. С 1946-го по 1993 г. ни один японский премьер не обходился без благословения кого-то из них.
Именно Киси навел мосты между до– и послевоенной эпохами, начиная со сделок в интересах Квантунской армии в Маньчжурии и кончая сделками для «Япония корп.», причем ни разу не сбился с пути! Его история – наглядный пример актерского мастерства в причудливых постановках финансовой олигархии. Киси Нобусукэ напоминал саламандру. Он родился в 1896 г. в семействе Сато из клана Тёсю (сейчас префектура Ямагути). Смышленого и живого Сато усыновил дядя по отцовской линии из семейства Киси, дав ему фамилию Киси (родные братья Нобусукэ сохранили фамилию Сато и остались жить с отцом). Один из братьев – Сато Эйсаку – после войны стал министром финансов Японии и премьер-министром ЛДП, старший брат – Сато Итиро – адмиралом.
По окончании Токийского университета Киси Нобусукэ устроился в министерство торговли и промышленности, подшивал служебные документы и сортировал корреспонденцию, то есть находился в курсе многих дел. Звезда Киси взошла во время Великой депрессии, когда он смог убедить богатых инвесторов скупать мелкие разорившиеся фирмы. Киси стал авторитетом в области создания картелей и трестов. Захват Японией Маньчжурии в 1931 г. предоставил Киси уникальную возможность карьерного взлета. Киси направили в Маньчжурию – прорабатывать вопросы развития промышленности. Там он подружился с генералом Тодзё – главой тайной полиции Маньчжурии – и показал ему, как армия может выдавить частных акционеров из контролируемой государством Южно-Маньчжурской железнодорожной компании (ЮМЖК). ЮМЖК получила эксклюзивное право на эксплуатацию маньчжурских железных дорог, портов, пристаней, шахт, нефтедобычи, отелей, транспорта и коммуникаций, став крупнейшим в мире по объему основного капитала конгломератом. Волею случая на посту президента ЮМЖК оказался дядя жены Киси… Киси объяснил дяде: ЮМЖК может заметно увеличить прибыль, если Квантунская армия и японский теневой бизнес прибегнут к террору, дабы «покорить Маньчжурию». (Другими словами, Киси ратовал за политику государственного террора и вымогательства ради приумножения благосостояния японской армии в Маньчжурии.) На территории Маньчжурии, контролируемой японской армией, Киси задействовал и наисовременнейшие административные таланты управленцев одной из самых успешных «новых» дзайбацу «Ниссан», возглавляемой еще одним дядей Киси… Сведя обоих дядьев с генералом Тодзё, Киси сплел воедино интересы политики, армии, бизнеса и криминалитета, чему вполне могли бы позавидовать Гитлер и Сталин. Маньчжурия при Киси стала ко всему прочему главным поставщиком героина в Азии. Киси настолько укрепил финансы Квантунской армии, что она смогла действовать независимо от Токио: развязала войну с Китаем, опираясь на собственные ресурсы в Маньчжурии. В значительной степени благодаря Киси генерал Тодзё приобрел репутацию видного военачальника, занял пост начальника Генштаба Квантунской армии и в конечном счете военного диктатора всеяпонского масштаба. Мы должны быть «благодарны» Киси за многое!
В годы войны Киси работал министром торговли и промышленности, заместителем министра военной промышленности при Тодзё. После капитуляции Японии он оказался в тюрьме Сугамо по обвинению в разграблении Китая и Маньчжурии, краже банковских вкладов и порабощении многих тысяч заводских рабочих и шахтеров. Накануне ареста Киси получил телеграмму от одного из своих друзей: «Маловероятно что американцы осудят и казнят Вас не советую совершать опрометчивых действий». (То есть не сознавайтесь ни в чем!)
В тюрьме Сугамо Киси вращался в обществе видных японских политиков, бизнесменов, бюрократов и уголовников. Среди его сокамерников оказались в том числе крестный отец Кодама и будущий основатель ЛДП Хатояма, приверженец беспощадной расправы с политическими оппонентами. Тюрьма Сугамо стала чуть ли не пансионом благородных политических мерзавцев. Во время войны Кодама – крупнейший авторитет в среде якудза – нажил миллиарды на разграблении оккупированных Японией государств. В 1945 г. по богатству Кодама не имел себе равных в Японии, кроме императора. Еще до того как оказаться в Сугамо, Кодама раскошелился на создание Либеральной партии. В Сугамо Кодама предложил Хатояме еще денег на создание новой партии. С одним условием – Киси будет контролировать ее финансы; Хатояма станет лидером новой Демократической партии, а Киси – ее финансовым директором и теневым дельцом! Хатояма ответил согласием. Кодама выделил несколько миллионов долларов в «смазочный фонд». Капля в море! По оценкам СКАП, личное состояние Кодамы в 1945 г. равнялось 13,5 миллиарда долларов США (возможно, в действительности оно было еще значительнее). Публично Кодама признал за собой 200 миллионов и из щедрот своих предложил всю сумму СКАП – дабы СКАП поделил их между другом Америки генералом Чан Кайши и Службой контрразведки США (предшественник ЦРУ). Вашингтон ответил согласием, а Кодаму в компании с Киси без излишней шумихи выпустили из Сугамо, обвинения против них сняли. Служба контрразведки США, исполненная благодарности за двухсотмиллионную «сделку», впоследствии наняла Кодама в качестве «эксперта» по Корейской войне. Имя Кодамы числилось в платежных ведомостях ЦРУ вплоть до скандала по делу «Локхид» в 1970-х гг.
Выйдя из Сугамо, Киси – при поддержке теневых финансов Кодамы и «подмазанных» политических функционеров из команды Хатоямы – утвердил себя в качестве одного из величайших японских послевоенных политических воротил. В это же время брат Киси, Сато Эйсаку, вырос до главного секретаря при кабинете премьер-министра Ёсиды. С появлением на свет Либерально-демократической партии Японии стало возможным «купить» подавляющее большинство в парламенте, поэтому ее соперникам дорога во власть была заказана. Получив контроль над парламентом, ЛДП без ложной скромности объявила себя высшим моральным авторитетом в Японии после императора!
Пока Киси оставался в закулисье, его власти ничто не угрожало; но когда друзья (или враги?) уговорили его выдвинуться в премьер-министры, он сразу оказался под ударом. Высказывания Киси по поводу назревшей-де необходимости провести перевооружение японской армии привели к уличным демонстрациям протеста в Токио. Почувствовав себя «неловко», Киси подал в отставку. Уйдя за кулисы, он продолжал оставаться ведущим посредником между государственными и мафиозными структурами на протяжении многих лет, но с тенденцией к упадку личного влияния. Стало ли случившееся с Киси уроком для ему подобных? И да и нет.
Танака Какуэй – протеже Киси, проявивший готовность занять его место, – был крепко сбит, обладал харизмой. Он родился в 1918 г. с «грязью под ногтями» (то есть в бедной семье), среднюю школу не закончил. Его отцом был разорившийся торговец скотом. Без гроша за душой, Танака тем не менее обладал личным обаянием и способностями к математике… Ему удалось выучиться черчению в вечерней школе и устроиться на работу в одну из токийских строительных фирм: он служил чертежником, «мальчиком на посылках» и даже бухгалтером на неполный рабочий день. Здесь Танака познакомился с виконтом Окоти Масатоси – боссом конгломерата «Рикэн труп», занимавшегося высокодоходными военными контрактами. (Во время войны на Тихом океане виконт Окоти служил советником по вопросам артиллерийско-технического снабжения армии и флота, Киси – заместителем министра военной промышленности; уже тогда они тесно общались.)