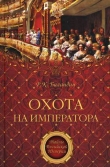Текст книги "Династия Ямато"
Автор книги: Стерлинг Сигрейв
Соавторы: Пегги Сигрейв
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
Князя Такэду Цунеёси назначили главным финансовым резидентом «Золотой лилии» в Квантунской армии. Любимый племянник князей Асака и Хигасикуни, Такэда слыл «симпатичным молодым человеком». Следует упомянуть и о князе Асаке Такахико (сыне князя Асаки), и о сыне князя Китасиракава (погибшем в автокатастрофе во Франции). Сложно сказать, почему столько принцев и князей оказалось вовлечено в «экономический аспект» японского завоевания, возможно, он представлялся им чем-то более «элегантным» – не таким жестоким и опасным, а требующим большего интеллекта и «воображения». Высокообразованные принцы и князья, вероятно, убеждали друг друга в благородных целях своей деятельности: они служат процветанию Японии, безотносительно к исходу завоевания; приумножая и собственное благосостояние, особо не запачкавшись в крови. Кроме того, «увлекательнее» «выбивать» деньги из коварных китайских банкиров, бизнесменов и «плутов», чем бомбить, стрелять, резать, избивать, насиловать…
В 1937 г. Япония развязала очередную войну с Китаем, на этот раз на его южных границах. «Золотая лилия» тем временем вела параллельную финансовую кампанию: награбленное в Китае вывозилось в Маньчжурию и Корею, оттуда морем направлялось на Японские острова.
Принц Титибу подключился к руководству «Золотой лилии» фактически с момента ее основания. В декабре 1937 г. Титибу направили в Нанкин с князем Такэдой, вероятно, для «наблюдения» за действиями военных. Официальных свидетельств о въезде Титибу в Нанкин нами не обнаружено, но, насколько известно, в последующие годы Титибу преследовали ночные кошмары, объясняемые им увиденными в Нанкине бесчинствами японских военных. Около 6 тысяч тонн золота вывезли из Нанкина, – золота, принадлежащего китайскому правительству, Центральному банку, а также золотые слитки и ювелирные украшения частных лиц. В начале 1939 г. принц Титибу был направлен в Южно-Китайское море для «надзора» за ходом японской оккупации острова Хайнань и островов Спрэтли близ вьетнамской береговой линии. До Сингапура оставалось 700 миль…
В середине лета 1939 г. Титибу отправился на «спорную» маньчжурско-сибирскую границу. Удар на север – по советской Сибири – в то время не сбрасывался со счетов японским Генштабом. К границе подтянули мощную армейскую группировку. Вспыхивали многочисленные пограничные перестрелки с частями Красной Армии. На одном из участков спор шел за контроль над безымянной сопкой. Советские ВВС задали японцам взбучку, уже через две недели боев «урегулировавшую» спор. Другой пограничный конфликт возник близ сопки Номонхан на границе Внешней Монголии. Конфликт быстро перерос в полномасштабные боевые действия с применением крупных танковых соединений. Битва у Номонхана [46]46
Монголия (имевшая союзный договор с СССР) объявила о прохождении линии границы близ Номон-Хан-Бурд-Обо, а Маньчжоу-Го (при поддержке Японии) – по реке Халхин-Гол. В западной историографии последующая локальная война получила название «инцидент у Номонхана», а в советской и российской – «война на Халхин-Голе».
[Закрыть]– одно из первых крупных танковых сражений в военной истории. Одно дело убивать угнетенных и беззащитных китайцев, брошенных националистическим правительством на произвол судьбы, и совсем другое – воевать с регулярными частями Красной Армии: советские комиссары-политруки расстреливали солдат при попытке отступления. На протяжении восьми месяцев (с мая по декабрь 1939 г.) Япония и Советский Союз вели друг с другом необъявленную войну среди пустынных монгольских степей. На первых порах командование Квантунской армии недооценило масштабов конфликта, надеясь на быстрое его завершение. Принц Титибу не разделял оптимизма военных. Он провел в Монголии две недели в июне, убеждая Генштаб не втягиваться в бои у Номонхана. Американский консул в Харбине утверждал: Титибу пытался удержать японцев «от преследования [русских] в глубь монгольской территории».
Рекомендации Титибу оставили без внимания. В Генштабе Квантунской армии царила уверенность, что Советы и дальше будут придерживаться оборонительных действий. По сведениям японской военной разведки, Москва слала на свои погранзаставы в Монголии шифровки с указаниями держать оборону, не переходя к контратакам. Японскую разведку дезинформировали: на самом деле Сталин тайно перебросил в Монголию Первую армейскую группу под командованием своего лучшего генерала Георгия Жукова (35 пехотных батальонов, 20 кавалерийских эскадронов, 500 самолетов и 500 [47]47
Опытный образец среднего советского танка Т-34 создали в 1939 г. Серийное производство – с июня 1940 г. До конца 1940 г. их выпустили 115 единиц.
[Закрыть]быстроходных легких танков Т-34), по своей мощи далеко превосходившую Квантунскую армию. Памятуя Нанкин, Сталин приказал Жукову преподать японцам «урок, который они никогда не забудут».
К концу августа 1939 г. советско-монгольские войска под командованием Жукова окружили и полностью уничтожили 23 Квантунскую дивизию. Японцы потеряли более 50 тысяч убитыми, понеся самое тяжелое поражение в японской военной истории, полностью отбившее у японцев охоту продолжать «прощупывать оборону» советской границы. Квантунская армия изменила стратегию, теперь ее главной целью стал юг Китая…
Ученые до сих пор спорят, применяла ли Япония биологическое оружие у Номонхана. Историк Элвин Д. Кукс называет это «вымыслами левой пропаганды», и все же один японский эксперт по химическому оружию в интервью газете «Асахи» в 1989 г. заявил: «…можно утверждать с полной определенностью, что у Номонхана японская армия впервые применила биологическое оружие». Согласно японским источникам, когда неминуемое поражение японской армии у Номонхана стало очевидным, решили заразить источники питьевой воды, используемые советскими войсками, тифозной бактерией. Японский отряд из тридцати человек («отряд № 731») за трое суток скрытно проник на советскую территорию и вылил в местную реку более 225 литров студенистой культуры тифозного патогена. Кукс предполагает: даже если подобное и имело место, изначально саму операцию спланировали неверно, так как тифозные бактерии, попав в воду, не могут вызвать вспышки эпидемии из-за ничтожно малой концентрации бактерий, диспергированных в таком большом водном бассейне, как река. Действительно, данных об эпидемии у Номонхана нет. Однако история биологического и химического оружия полна сведениями о неудачных попытках применения подобного рода оружия. Другие операции отряда № 731 оказались более успешными…
Отряд № 731 был детищем Исии Сиро, в 1920 г. окончившего Киотский университет по специальности «бактериологические исследования». Исии Сиро профессионально изучал методы применения химического оружия в Европе в Первую мировую войну. Исии убедил генерала Араки начать работы по программе создания и производства химического и бактериологического оружия в Японии. Официально, как и в других странах, подобные программы считались сугубо оборонительными. Отряд № 731 сформировали в 1933 г. в Маньчжурии. Его главная база располагалась в Пинг Фане (близ Харбина), в Чунцине расквартировали некоторые из его подразделений. (Позже, когда Япония установит контроль почти над всей территорией Восточной Азии, центры «проведения биологических экспериментов» будут оборудованы в Пекине, Гуанчжоу и Сингапуре.)
Августейшие принцы знали о проводившихся биологических экспериментах. Князь Такэда, как главный казначей Квантунской армии, неоднократно выезжал в Пинг Фан, где свита представляла его под псевдонимом «полковник Мията Цунэёси». Для того чтобы въехать в Пинг Фан и его окрестности, требовалось получить персональное разрешение «полковника»… Князь Хигасикуни посещал Пинг Фан в сопровождении Такэды. (Вернувшись в 1926 г. из Парижа, князь Хигасикуни служил командиром дивизии и позже начальником штаба ВВС. В 1937 г., вскоре после начала японо-китайской войны, занял пост главнокомандующего ВВС Японии. В 1938 г. Хигасикуни отправился в Северный Китай в должности командующего Второй армией.)
Титибу лично посещал лекции Исии в Токио; полковника представили Хирохито. Одно из своих изобретений – аппарат по возгонке урины до чистоты питьевой воды – Исии продемонстрировал императору и даже предложил продегустировать стакан с «окончательным продуктом». Реакция императора неизвестна. Насколько осведомлены были Хирохито и его братья о проведении биологических опытов над военнопленными, также неизвестно – большинство архивов отряда № 731 уничтожили японцы после Второй мировой войны, что-то вывезли американские спецслужбы и задействовали в контексте собственных исследований по тематике биологического и химического оружия… По приказу генерала Макартура информацию о деятельности отряда № 731 засекретили и не представляли на рассмотрение международного трибунала над японскими военными преступниками.
Младший брат Хирохито, принц Микаса, имел сведения об «экспериментах» в Пинг Фане. Хотя ему лишь недавно исполнилось двадцать лет, он часто выезжал на фронт. Микаса (1915 г. рождения) по характеру разительно отличался от своих старших братьев. В 1941 г. он окончил военный университет, [48]48
Military Staff College.
[Закрыть]позже служил в штабе армии в Нанкине в чине майора, затем – в штабе ВВС. Как Хирохито и Титибу, Микаса страдал близорукостью, носил очки. В отличие от Хирохито и Титибу Микаса позволял себе открыто критиковать действия военных. В 1943 г. он написал пространную секретную записку, где осуждал поведение японских солдат. Эта записка ходила в высших эшелонах власти, пока ее наконец не уничтожили. Волею случая (счастливого или злого – зависит от точки зрения) один экземпляр обнаружили в архивах японского парламента в 1994 г. В послевоенных интервью принц Микаса вспоминал, как он узнавал из кадров документальной военной хроники об отправке «колонн китайских военнопленных в маньчжурскую степь, где их травили ядовитыми газами и расстреливали. Ужасные сцены, свидетельствующие о военных преступлениях».
Несмотря на бесчинства, творимые Японией в Китае, и аннексию Маньчжурии, реакция Соединенных Штатов отличалась сдержанностью. С точки зрения крупного американского бизнеса, в конце 1930-х гг. Америка слишком много потеряла бы, ввяжись она тогда в войну. Ведущие американские корпорации («Дженерал электрик» и другие) имели в Японии далеко идущие бизнес-проекты с вложенными в них громадными денежными средствами. «Личные связи» также не следовало сбрасывать со счетов. Военный министр Генри Л. Стимсон находился в тесном взаимодействии с «Морган бэнк», посол Джозеф Грю являлся родственником и близким другом Джека Моргана.
После поражения у Номонхана в 1939 г. стратеги из японского Генштаба пришли к следующему неутешительному выводу: если в течение года Японии не удастся одержать полную победу в Китае, ей придется пойти на массированную переброску войск с юга Китая на север – укреплять «щит против русских и китайских коммунистов». Однако, после того как весной 1940 г. Гитлер напал на Нидерланды и Францию, планы Токио в очередной раз подверглись коррективам. Стратеги из «Группы контроля» (к примеру, полковник Цудзи Масанобу) выступили за нанесение массированного удара по региону «Южных морей» и захват всей Юго-Восточной Азии, и уже потом за мирные переговоры с Западом «с позиции силы». Идея «переговоров с позиции силы» выглядела для Токио чертовски привлекательно. В последующие полтора года Япония, США, Великобритания, Италия, Германия, Россия и Франция заключали друг с дружкой секретные сделки, альянсы, подписывали договоры, ставя своей целью не предотвращение мировой войны, а стремясь занять «позицию силы». Токио подписал двусторонний договор с Бангкоком, в соответствии с буквой которого послал войска в Сиам. [49]49
Сиам – официальное название Таиланда до 1939 г. и в 1945–1948 гг.
[Закрыть]Россия, Великобритания, Китай и США могли ополчиться против Японии в любой момент – Япония пошла на союз с Германией и Италией, подписала соглашение о нейтралитете с Москвой (полагая таким шагом обезопасить себя от самого злейшего врага). К этому времени подобного рода пакт существовал и между СССР и Германией, однако совсем скоро от него не осталось и следа…
В апреле 1941 г. президент Рузвельт подписал секретное исполнительное соглашение [50]50
Заключается президентом США с иностранным государством без одобрения Сената.
[Закрыть]с Великобританией и Нидерландами. США обязались участвовать в обороне английских и голландских колоний в Азии в случае нападения Японии. Белый дом пошел на этот шаг втайне от Конгресса. Заручившись поддержкой Америки, Черчилль (стремившийся втянуть ее в войну) не спешил направлять британские подкрепления в Сингапур и Малайю, [51]51
Западная часть Малайзии.
[Закрыть]игнорируя неоднократные обращения командования британских колониальных сил. Он ограничился отправкой, по сути, чисто символического отряда военных кораблей, и Сингапур стал легкой добычей для врага. В Малайе командование британского гарнизона информировало Лондон об активной подготовке японцев к нападению – Лондон хранил молчание.
В июле 1941 г. Токио подписал договор с правительством Виши [52]52
Общепринятое название коллаборационистского режима во Франции в июле 1940 – апреле 1944 г., в период ее оккупации германскими войсками. Названо по имени города Виши, где обосновалось правительство А.Ф. Петена, управлявшее не оккупированной частью Франции.
[Закрыть]и получил карт-бланш на оккупацию северного Индокитая. Очевидно, имея войска в Сиаме и в Индокитае, Япония готовилась к полномасштабной войне. Рузвельт на деле, а не на словах ввел «экономический карантин» Японии (грозя им с 1937 г.): были заморожены японские банковские счета в США и торговые отношения с Японией. Великобритания и Нидерланды предприняли (со своей стороны) аналогичные меры, включая эмбарго на поставку нефти в Японию из голландской Вест-Индии. Вашингтон обещал снять нефтяное эмбарго при условии ухода Японии из Индокитая, Китая и расторжения пакта [53]53
Тройственный пакт с гитлеровской Германией и фашистской Италией о координации военных действий и разделе сфер влияния. Подписан в Токио 27 сентября 1940 г.
[Закрыть]с Германией и Италией. (На уходе из Маньчжурии и Кореи Вашингтон не настаивал, однако Токио ошибочно посчитал уход из вышеупомянутых стран «подразумевающимся условием». Госдепартамент США не удосужился убедить Токио в обратном, допустив тем самым непростительную глупость со своей стороны.)
Премьер-министр Японии князь Коноэ, не оставляя надежды на мирное решение «проблемы», предложил Рузвельту обсудить возникшие разногласия с глазу на глаз за столом переговоров – «где-нибудь посредине Тихого океана». Рузвельт выразил заинтересованность, однако госсекретарь Хэлл стал «третьим лишним», заявив о «подозрительности» инициативы Коноэ. Коноэ, сдав последний козырь, ушел в отставку в середине октября 1941 г. Приверженцы переговоров с США в знак солидарности покинули правительство вместе с ним. Вопрос о новом премьере решался очень непросто. Коноэ предлагал в качестве своего преемника князя Хигасикуни, однако Хирохито в неофициальном порядке дал понять, что Хигасикуни «продемонстрировал шаткость рассуждений с начала и до конца [беседы]». Вдобавок ситуация развивалась в опасном для императорской семьи ключе: «Если родственник императора будет принимать решения касательно войны и мира, то в будущем подобное действо может навлечь „народный гнев“ на всю императорскую семью». Поэтому Хирохито назначил на пост главы правительства военного министра Тодзё (экс-руководителя тайной полиции в Маньчжурии). Хигасикуни назначили руководить обороной островной Японии.
Незадолго до атаки на Перл-Харбор принц Титибу, как принято считать, ушел из Генштаба по причине болезни. В 1940 г., в возрасте тридцати шести лет, у него нашли туберкулез. В те времена заболеваемость туберкулезом (чахоткой) в мире оставалась очень высокой, будучи распространенной так же, как, к примеру, микоз. [54]54
Грибковое заболевание ног.
[Закрыть]Многие офицеры японской армии болели туберкулезом, но продолжали служить в боевых частях. Согласно опубликованным воспоминаниям супруги Титибу, ее муж после увольнения из армии переехал поближе к природе, где на вилле у подножия Фудзиямы в сельской тиши и в одиночестве коротал последующие три с половиной года… Под предлогом опасности заражения Титибу не посещал Хирохито до конца 1945 г.
Пока Титибу (предположительно) выздоравливал на лоне природы, принц Такамацу играл роль «адвоката дьявола». Такамацу уже давно решил для себя, что его венценосный брат предается самообману, и пытался по мере сил открыть ему глаза на реальное положение дел в стране и в мире. Генерал Хондзё записал в дневнике: «Такамацу, по-видимому, не так близок к императору, как принц Титибу в свое время… Вплоть до начала войны на Тихом океане, [Такамацу] разделял опасения, превалировавшие среди морских офицеров среднего звена относительно готовящегося нападения на Перл-Харбор. Очевидно, он информировал императора о подобных умонастроениях при разговоре с ним 30 ноября 1941 г.».
Что бы там ни утверждала послевоенная пропаганда, о готовящемся нападении на Перл-Харбор знали многие. Почти за год, в январе 1941 г., посол Грю сообщал в Вашингтон о тревожных слухах в Токио: «По имеющейся информации из Токио, Япония планирует нанести массированный внезапный удар по Перл-Харбору в случае дальнейшего ухудшения отношений с Соединенными Штатами». Более того, Грю телеграфировал и о готовящемся нападении на Сингапур. Если об этом знал Грю, значит, знали и многие другие. Тем временем американским спецслужбам удалось взломать секретный код японского МИДа (при помощи декодирующего устройства «Мэджик»). Следовательно, Вашингтон еще до Перл-Харбора имел достоверную информацию о содержании шифр-переписки Токио со своими посольствами за рубежом. Несколько «Мэджик» работало в Лондоне, Сингапуре и Филиппинах. В Гонолулу – базе сухопутных сил и ВМС США на Тихом океане – не было ни одной! В ноябре 1941 г. на базах США на Филиппинах и Панаме был принят приказ о повышении боевой готовности в связи с возможным японским нападением. На Гавайях не проинформировали ни генерала Уолтера Шорта, ни адмирала Хасбэнда Киммела.
В Вашингтоне некоторые японские дипломаты в последнюю минуту отчаянно пытались остановить угрозу «уже неизбежного». Среди них особенно выделялся Тэрасаки Хидэнари – первый секретарь посольства Японии в США, офицер японской внешней разведки. Джо Грю считал «Тэрри» (Тэрасаки) здравомыслящим человеком. Тэрри окончил университет Брауна, свободно говорил по-английски; супруга – американка Гвен Хэрольд из штата Теннесси, дочь – девятилетняя Марико – хоть и выглядела японкой, по натуре являлась настоящей американкой! У Тэрри имелись обширные связи; его старший брат Таро – директор Американского бюро японского МИДа, часто встречался с Грю (вплоть до своей добровольной отставки в середине 1941 г. после ухода Коноэ с поста премьера).
Тэрри – классический пацифист, всеми силами стремившийся предотвратить войну, которая станет для Японии катастрофой. Его личная миссия оказалась безнадежной, и не только потому, что Токио уже нельзя было ни остановить, ни убедить пойти на взаимные уступки в отношениях с США – во многом «благодаря» «принципиальному противодействию» госсекретаря Хэлла. Ведь, как мы помним, тайно от Конгресса Рузвельт уже дал согласие на вступление Америки в войну на стороне Великобритании и Нидерландов, пусть и в Азиатском регионе. А пока Рузвельт (на публике) играл роль миротворца, Хэлл в кабинетной тиши не шел «ни на какие компромиссы».
Тэрри, лояльный японец, любивший Америку, оказался меж двух огней. Об этом свидетельствуют записи в его дневнике накануне Перл-Харбора. 26 ноября посольство Японии получило от Хэлла очередной ультиматум. Америка требовала немедленного вывода японских войск с территорий, оккупированных Японией с 1935 г. (Таким образом, Маньчжурия, Корея и Тайвань находились «вне опасности».) Японию вынуждали не только уйти из Китая и Индокитая, но и поддержать режим генералиссимуса Чан Кайши, денонсировать Тройственный пакт с Германией и Италией. В обмен США обещали отменить нефтяное эмбарго, разморозить японские банковские вклады и начать работать над проектом нового торгового соглашения с Японией. Хэлл отверг японское контрпредложение о поэтапном выводе японских войск из Китая и Индокитая, растянутом на двадцатипятилетний срок. Посол Номура получил из Токио инструкции найти «более приемлемое решение» не позднее 30 ноября. (30 ноября, разъясняли послу, должно фигурировать в ответе Хэллу – к этому времени японский флот выполнит свою задачу в Перл-Харборе.) Тэрри, как офицер разведки, по своим каналам также знал о вышеупомянутой подоплеке японского ответа Хэллу…
Вечером 26 ноября Тэрри записал: «Спецпосланник Курусу вызвал меня к себе для разговора с глазу на глаз… „Мы находимся в отчаянном положении. У нас нет иного выхода… Как бы организовать сигнал Рузвельту, чтобы он направил телеграмму Императору? Верю, подобный шаг с его стороны остановит войну“. Курусу обратился ко мне: „Не могли бы вы как-то поспособствовать этому?“» (Курусу, как и Тэрасаки, женат на американке, отец троих детей. Его сын – летчик японских ВВС, в войну погиб в воздушном бою над Тихим океаном.)
Курусу направил министру иностранных дел Того телеграмму следующего содержания: «Провожу активные мероприятия по проработке вопроса о телеграмме Рузвельт – Императору. Следует ли продолжать, как Вы полагаете? Эта война может представлять угрозу для самой жизни императора. Следовательно, наш долг – предотвратить ее». Одновременно Курусу телеграфировал лорду – хранителю печати Кидо: «Направил телеграмму особой важности [министру иностранных дел). Не оставьте ее без внимания». Курусу и Тэрри искренне верили: император в силах вмешаться и остановить войну.
Тэрри вышел на президента США через Стэнли Джоунса – миссионера-методиста, имевшего «персональный доступ» к Рузвельту. Джоунс встретился с президентом 3 декабря; Рузвельт заявил: «Я размышлял над тем же, имею в виду отправку телеграммы императору. Консультировался с советниками – все „за“. Поэтому я телеграфирую императору, значит, по своей инициативе… передайте японскому патриоту, пусть не волнуется». Плохим известием для «японского патриота», однако, стало то, что Госдепартаменту потребовалось трое суток на составление коротенького послания, отправленного в 7 часов 40 минут вечером 6 декабря, причем (как ни странно) – по обычному коммерческому телеграфу! Американские радиостанции получили известие об отправке телеграммы Рузвельта до полуночи 6 декабря с формулировкой «смелый жест примирения». Посол Грю узнал о телеграмме не от Госдепартамента, а из новостной программы американской коротковолновой коммерческой радиостанции! В Токио телеграмму Рузвельта получили в полдень (США и Японию, как известно, разделяет демаркационная линия суточного времени) – но уже 7 декабря. Ее доставили Грю в 10.30 вечера того же дня, и он незамедлительно выехал к министру Того просить срочной аудиенции у императора. Того заявил: «Передайте телеграмму мне. Для аудиенции у императора сегодня слишком неурочный час». Того позвонил Мацудайре – отцу принцессы Титибу (занимающему на тот момент пост главы императорского двора). Мацудайра ответствовал: «Это политический вопрос, не касающийся придворного церемониала» и посоветовал Того связаться с лордом – хранителем печати Кидо. В дневнике Кидо есть соответствующая запись: «В 12.40 пополудни… позвонил Того и сообщил о получении личной телеграммы императору от президента Рузвельта… Советовал ему обратиться к премьеру [генералу Тодзё], исходя из соображений содержания телеграммы и связанных с ним процедурных вопросов дипломатического характера». Еще через четыре часа Кидо и Того наконец прибыли в императорский дворец. В это время нападение на Перл-Харбор уже велось полным ходом. Японская авиация, поднятая с японских авианосцев к северо-западу от Перл-Харбора, на рассвете внезапно появилась в небе над Гонолулу.
Американское командование сухопутных войск и ВМС оказалось абсолютно не готово к отражению японской атаки. Волею случая японские авианалеты не выполнили главной задачи – уничтожения американского авианосного соединения в Перл-Харборе. Американские авианосцы вывели в открытое море, и, таким образом, они оказались вне досягаемости японской палубной авиации, а всего через несколько месяцев сыграли решающую роль в битве у Мидуэй, переломившей ход войны на Тихом океане и принудившей Японию перейти к оборонительным действиям. И все же Перл-Харбор положил конец интригам с обеих сторон, став переходом к прямому военному столкновению. Перл-Харбор ознаменовал начало беспрецедентного в истории человечества массированного, высокоскоординированного разграбления Японией государств Юго-Восточной Азии, педантичного вывоза и инвентаризации награбленного. В хаосе войны лишь немногие избранные могли видеть истинную картину происходящего – изуверские жестокости японцев затмили, загородили их сугубо экономические цели.
Когда Кидо подъезжал к императорскому дворцу на холме, первые золотые лучи солнца пронизали тьму на востоке: «Тогда это выглядело как знак свыше, возвещающий о великой судьбе страны, вступившей в войну против США и Англии… В 7.30 я встретился с премьером, начальником Генерального штаба сухопутных сил и начальником Генерального штаба флота. От них я узнал великое известие об успехе внезапной атаки на Гавайи. В 11.40 меня принял император, и наша беседа с ним длилась до полудня. На меня произвело громадное впечатление хладнокровие императора в тот день. Император распорядился обнародовать Высочайший манифест об объявлении войны».
В 1946 г. Хирохито сообщил Тэрри о получении обращения Рузвельта и заявил – если бы оно пришло на день раньше, «он бы остановил нападение». Хирохито, таким образом, признал перед своим доверенным лицом, что он мог не допустить войны…
Другой принципиальный вопрос, остающийся без ответа по сей день, таков: действительно ли японское нападение на Перл-Харбор явилось такой уж неожиданностью для США? Политическое и военное руководство Великобритании и США информировали о готовящемся нападении заблаговременно и исчерпывающе – об этом свидетельствуют факты, ставшие достоянием исследователей лишь относительно недавно. По мнению Ёсиды, Черчилль вел активную закулисную игру с целью спровоцировать Японию на войну с США. 10 ноября 1941 г. Черчилль в одной из своих речей заявил, что, если между США и Японией вспыхнет война, Британия объявит войну Японии «в течение ближайшего часа». Ёсида отмечал: «Для разгрома нацистской Германии… Великобритания могла пойти на любые действия, лишь бы втянуть Соединенные Штаты в войну».
Вашингтон, как мы помним, читал японскую дипломатическую переписку. Более того, до Перл-Харбора британским спецслужбам удалось расшифровать код «JN-25», используемый японским военным флотом. Согласно британским источникам, Черчилля заблаговременно информировали о дате нападения на Перл-Харбор. Военный атташе США в Египте полковник Боннэр Феллерс получил от главнокомандующего британскими ВВС сэра Артура Теддера устное сообщение о принятой в декабре британской службой радиоперехвата и прочитанной японской шифрограмме, свидетельствующей о нанесении Японией массированного удара по США в течение ближайших 24 часов…
Рузвельт также знал о коварных планах японцев, многие источники свидетельствуют об этом, но президент США предпочел не информировать командование в Гонолулу. Следовательно, «внезапное нападение» и «день позора» требовались Рузвельту для того, чтобы спровоцировать изоляционистский Конгресс на заявление о вступлении США во Вторую мировую войну. У Черчилля мы находим следующие строки: «…признать… благословением свыше нападение Японии на Соединенные Штаты и вовлечение [их] в войну. В истории Британской империи немного встретишь примеров подобного счастливого стечения обстоятельств».
Среди сторонников так называемой «теории заговора» бытует следующее мнение: Рузвельт якобы спровоцировал Японию атаковать американскую базу в Перл-Харборе, а Черчилль будто бы подталкивал ее по направлению к Сингапуру… В Лондон из зарубежных резидентур широким потоком стекались шифровки о готовящемся японском вторжении в британские владения в Малайе. Черчилль отмалчивался, когда японцы наконец высадили десант в Малайе – оказалось, им противостоят малочисленные и слабо вооруженные гарнизоны. Японское наступление с успехом развивалось в южном направлении – Сингапур, Бирма, Суматра, Гонконг, Филиппины… Сингапур пал в феврале, 9 марта 1942 г. – Ява. Гарнизон на островах Батан капитулировал 9 апреля, гарнизоны на остальных островах в составе Филиппин – 6 мая. За два месяца до капитуляции Филиппин генерал Макартур бежал от японцев с острова Коррехидор на подводной лодке. «Я еще сюда вернусь», – пообещал Макартур своим подчиненным.
Рузвельт впоследствии сожалел о том, что Макартура тогда забыли, предоставив самому выворачиваться из передряги. Начальник штаба сухопутных войск США при президенте Гувере, Макартур слыл воинствующим республиканцем с монументальным эгоизмом и собственными президентскими амбициями… В 1930-х гг. Рузвельт обрадовался представившейся возможности под благовидным предлогом избавиться от него, сослав на Филиппины в чине фельдмаршала – командовать двадцатидвухтысячной американской группировкой и восемью тысячами вооруженных филиппинцев.
22 декабря 1941 г., через две недели после нападения на Перл-Харбор, Япония вторглась на Филиппины. Американская группировка оказалась абсолютно не готовой к войне – несмотря на шифровки из Вашингтона. Макартур ни разу не выехал на линию фронта, всецело полагаясь на офицеров штаба. Лишь единожды он побывал на одном из островов архипелага Батан, держась как можно дальше от театра военных действий. Дуайт Эйзенхауэр, работавший в непосредственном контакте с Макартуром на Филиппинах в 1930-е гг., в январе 1942 г. записал в своем дневнике следующее: «Макартур ребячится, как обычно. Пускай теперь повоюет». 3 февраля 1942 г. Эйзенхауэр отметил: «Макартур, судя по всему, заробел». Тут как раз Макартур получил от президента Кессона [55]55
Кессон-и-Молина, Мануэль Луис, президент Филиппин (1878–1944).
[Закрыть]500 тысяч американских долларов в качестве «награды за великолепную оборону» островов. Многие исследователи трактуют «награду» как тривиальную взятку Макартуру; по крайней мере тот нарушил воинский устав, приняв ее. Президенту Рузвельту стало «известно о награде Макартура» – на том дело и кончилось.
Историк Рональд Спектор отмечает: «Тут Макартура и следовало бы на совершенно оправданных основаниях освободить от его высоких обязанностей», а австрийский историк Гэвин Лонг высказывает следующую мысль: «Действия Макартура на Филиппинах не оправдали большинства надежд, идя вразрез с его репутацией многоопытного военного».
Макартур в отставку не подал. Более того, Макартур стал героем и легендарной личностью в Америке. С подачи (здесь нужно отдать ей должное) команды Макартура по связям с общественностью американская пресса взахлеб живописала ратные подвиги «Лусонского льва». Уолтер Липпман пишет о «глубоком и разностороннем уме» Макартура; президент Рузвельт наградил его медалью Почета за «героические действия при проведении оборонительно-наступательных операций на островах Батан». В первые пугающие дни войны, знаменующие коренной поворот в американской политике и военной доктрине, Рузвельт крайне нуждался в «геройском генерале», а Макартур и являлся единственным генералом, реально оборонявшим американские территориальные владения в Азии. Генерал Маршалл (председатель Объединенного комитета начальников штабов) и Рузвельт сошлись в таком мнении: у них нет иной альтернативы, чем пожаловать Макартуру медаль Почета и вывезти его на подводной лодке из района боевых действий, бросив вверенные ему войска. Макартур становится командующим американским контингентом в Австралии, награду принимает всерьез, как нечто само собой разумеющееся, и с успехом продолжает манипулировать прессой ради искусственной накачки собственной репутации, фактически до самого конца Второй мировой войны. Нетрудно понять, почему японцы в период послевоенной американской оккупации их родины на поверку не без успеха смогли «подыграть простаку».