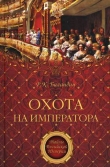Текст книги "Династия Ямато"
Автор книги: Стерлинг Сигрейв
Соавторы: Пегги Сигрейв
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 27 страниц)
Нам известно, что спустя несколько недель по прибытии в Японию Паули проинформировали об обнаружении золотых слитков на дне Токийского залива, оцененных в 2 миллиарда долларов США. Вне всякого сомнения, он знал и о передаче дворцов и иного недвижимого имущества императорской семьи во владение семейству Цуцуми и другим, дабы избежать конфискации.
Тем не менее, находясь в некоем чудесном прозрении, Паули через 48 часов по прибытии в Токио решил: Япония является «поверженной империей». Она будто бы не в состоянии даже оплатить причитающуюся долю на покрытие расходов американских оккупационных сил на ее территории, не говоря уже о контрибуциях в счет восстановления азиатских государств. Паули заявил, что если принудить Японию к выплате крупных репараций по типу германских в конце Первой мировой войны, то страна останется без средств на восстановление разрушенной экономики – и коммунисты «съедят ее на завтрак». Во многом на основании подобных заявлений Паули и приняли решение ограничить общую сумму японских репарационных выплат потолком в 1 миллиард долларов. То есть ближайшие родственники тех 20 миллионов человек, погибших в результате японской агрессии в Азии, могли рассчитывать на сумму немногим больше 30 американских долларов. В действительности многим вообще ничего не выплатили.
Японские дзайбацу также подключились к требованиям о выплате репараций (включая богатейшие японские семейства, вызывавшие благосклонность Паули). Нажившись на войне и с успехом скрыв преступные доходы, они заявили о требованиях… компенсировать причиненный в ходе войны ущерб японским военным заводам. Общая сумма исков составила более 5 миллиардов долларов, многие иски удовлетворили! Сопоставьте эту сумму с 1 миллиардом, выделенным истинным жертвам японской агрессии.
Япония не платила наличностью за причиненный ею ущерб, расчет велся промышленным оборудованием. Но даже эти, по сути, символические репарации Вашингтон остановил, объявив японское промышленное оборудование «дополнительным обеспечением бондов», предоставленных до войны американскими кредиторами (включая «Морган бэнк» и «Диллон Рид», возглавивших длинный список американских корпораций, вложивших в Японию крупные инвестиции). К началу 1950-х гг. Япония задолжала семейству Морганов около 600 миллионов долларов (с учетом неуплаченных процентов, пеней и самой капитальной суммы) по займу 1924 г. И это по одному займу 1924 г., без учета других, предоставленных семейством Морганов по 1940 г. включительно!
В 1951 г. некий чиновник из министерства финансов Японии вошел в штаб-квартиру Морганов на Уолл-стрит, 23, и заявил: «Я прибыл удостоверить свою подпись». В то время ни один японский чиновник не имел полномочий на заявления подобного рода. Япония продолжала оставаться оккупированной страной, и ничего подобного не могло исходить из уст ее гражданина без недвусмысленной санкции генерала Макартура. Так или иначе, японский чиновник заявил, что Япония за всю двухтысячелетнюю историю ни разу не отказывалась от исполнения своих долговых обязательств. Рефинансирование и обслуживание японского госдолга организовали через «Смит Барней» и «Гэранти траст». «Смит Барней» вошла в состав империи Морганов во времена американской депрессии, «Гэранти траст» присоединилась к «протекторату» Морганов в 1920-х гг. Так что Морганы не только с прибылью для себя обставили возмещение японских долгов, но и провели их через свои филиалы, «наварив» по ходу внушительные комиссионные за реструктуризацию этих долгов. В конечном счете исполнение послевоенных японских финансовых обязательств нельзя назвать сколь-нибудь приемлемым. Лиц, ставших жертвами японской военщины на оккупированных территориях, после войны обошли крупные корпорации, реквизировавшие все доступные японские финансы.
Словом, японское правительство и императорская семья поведали миру лишь часть правды о войне, а Америка не настояла на полной правде – скорее наоборот. И в этом суть проблемы, вставшей перед послевоенным поколением в Японии, сознающим, что ему не сказали всей правды, а учили только не задавать лишних вопросов…
Некоторые японцы знают о «Золотой лилии» потому лишь, что либо они сами, или их отцы и близкие родственники принимали во Вторую мировую войну непосредственное участие в мародерстве и сокрытии награбленного. В последние десятилетия кое-кто принял участие в работах по извлечению японской преступной поживы из тайников на Филиппинах и в Индонезии. Большинство же японцев испытывает недоумение, слыша сообщения о неких «гнусных деяниях» Японии в годы войны. Некий токийский бизнесмен в разговоре с авторами этой книги заявил буквально следующее: «Наверное, нечто подобное имело место. Нанкинская резня действительно происходила. Разве такое возможно без мародерства? Мы должны задаться вопросом, куда исчезло преступное имущество».
Самый важный вопрос – о виновности Хирохито – со временем затушевывается; молодое поколение японцев этот вопрос будто бы совсем не интересует. Оно не пережило ужасов войны, но получило в наследство от родителей мрачную память о ней. Позволим себе процитировать здесь еще раз вышеупомянутого токийского собеседника:
«Если сегодня мы попытаемся завести с нашими родителями разговор о страшных событиях прошедшей войны, они попросту выгонят нас из дому. Почему старшее поколение отвергает подобные вещи? Оно хочет предать забвению ужасы войны, преследующие его не одно десятилетие. Старики не хотят ревизии их интерпретации истории, ведь они участвовали в боевых действиях. Жестоко понуждать их признать свою ответственность за варварские действия японской армии. Они бесхитростно отвергают саму мысль о собственном соучастии в военных преступлениях. Их отношение к покойному императору зиждется в большей степени на самооправдании, нежели на благоговении или почитании».
В годы войны, как отметил наш собеседник, японцы находились под влиянием «лукавых СМИ», финансируемых и управляемых олигархами и политиками. Общеобразовательный процесс в Японии выстроили так, чтобы ученики не задавались «крамольными» вопросами.
«Мы, простые люди, все так думаем; но кого интересует наше мнение? Поколения 1950-х и начала 1960-х гг. прошли через эту образовательную систему, внушившую им идею о невозможности и абсурдности войны, но умолчавшую о многом. Учебники истории трактовали мировую войну как военную кампанию в Евразии, закончившуюся неутешительным результатом из-за безответственного осуществления военного плана. Мы не рассказали, как японская армия попирала общечеловеческие ценности, а ее постыдные действия стали причиной страданий многих наций, с которых мы по крайней мере должны брать моральный пример. Нас не учили вырабатывать собственное суждение о войне, о ее последствиях, и в этом суть нашей проблемы. Полагаю, именно по данной причине мы так и не осознали истинных масштабов нашего преступления. В прошлом произошло нечто, что можно назвать ошибкой, деянием неких идиотов. Но теперь-то все в порядке, прошлое не имеет к нам абсолютно никакого отношения! Теперь у нас самая пацифистская конституция в мире, и не нам предаваться размышлениям о прошлом! Раскаяние? Почему мы должны испытывать раскаяние?»
В самом деле, почему? В Германии признание моральной ответственности за Холокост стало решающим условием становления разумной демократии в стране. Берлинский кинофестиваль регулярно представляет ленты, повествующие об отвратительных аспектах Холокоста; берлинская аудитория признает ответственность Германии за кровавые преступления прошлого; осознание собственной вины является необходимым условием для строительства будущего. Япония, отрицая прошлое, отрицает будущее. Отказываясь признать вину и выплатить компенсацию жертвам японской агрессии, японское правительство возводит ложь в институт официальной политики, одна ложь тянет за собой другую. У Токио нет и не может быть морального авторитета на международной арене; принятая им поза – смешна. Официальный Токио загоняет в исторический тупик всю японскую нацию. Не извлекший урока из своего прошлого обречен на его повторение в будущем.
К тому же Япония не одинока в своем нежелании раскаяться в совершенных военных преступлениях и разграблении материковой Азии. Соединенные Штаты, вне всякого сомнения, сыграли крайне неоднозначную роль в послевоенной Японии: по части справедливого возмездия за совершенные военные преступления и мародерство, производство и использование боевых отравляющих веществ; по части выплаты послевоенных репараций. Лишь сравнительно недавно Вашингтон присоединился к хору голосов, выдвинувших в адрес швейцарских банков обвинения в утаивании нацистских вкладов. С другой стороны, Вашингтон продолжает хранить молчание по вопросу о своем тайном сговоре с поверженным Токио, о японских тайных счетах в американских банках. Оба вопроса необходимо рассматривать в комплексе – публичное возмущение поведением нацистов без столь же адекватного возмущения поведением японцев в годы войны неизбежно приведет к длительной консервации лжи в самых высоких политических сферах. Фокус в том, что Токио хорошо известно: подобного рода признания крайне невыгодны для самого Вашингтона; поэтому-то тайный сговор не денонсирован, ворон ворону глаз не выклюет.
Каково в таком случае будущее династии? Император Акихито пытается предстать в образе «монарха с человеческим лицом», но без особого успеха. Если император не желает больше мириться с ролью инструмента в руках олигархов, то зачем он вообще играет на сцене? Какова его роль в будущем Японии? Пусть даже император и изъявляет желание представлять свой народ – вдруг этот народ уже не заинтересован в нем? 75 процентов японцев не испытывают по отношению к собственным политикам ничего, кроме презрения. 80 процентов довольны императором и императрицей (по крайней мере как символическими монархами). В то же время никто всерьез не рассчитывает на реальную власть монарха в государстве. Чем активнее император Акихито и императрица Митико пытаются отождествить себя с переменами, тем больше они оказываются в изоляции от народа благодаря усилиям тех из своего окружения, кто страшится реальных перемен.
Перемены приживаются в Японии со скоростью движения ледника. Еще в конце 1960-х гг., когда Хирохито, посещая провинцию, изъявлял желание принять ванну, местная высшая аристократия выстраивалась неподалеку в торжественных одеяниях – искупаться после в императорской воде… Старшее поколение японцев продолжает считать: взглянувший в лицо императора неминуемо лишается зрения… Синтоистские ритуалы по сей день поощряют веру в сверхъестественную силу императора. Магическое зеркало богини Солнца как будто не потускнело от времени. Кто-то из элиты продолжает искренне верить в подобную «магию», кто-то цинично использует гениально разработанный Ито Хиробуми в XIX веке набор сценических средств…
Наследного принца Нарухито, может статься, не вполне устраивает покрой его августейшей смирительной рубашки, но он и не выказывает стремления выступить в роли главного поборника социальных реформ в Японии. Любое сравнение Нарухито с молодым принцем Титибу следует признать беспочвенным!
Правда, Нарухито начал с чистого листа. Он воспитывался в непосредственной близости к родителям – во дворце Того Госё, специально выстроенном для них. И все же сорокапятикомнатный дворец с многочисленной обслугой имеет мало общего с комнатушками рядовых токийцев, где зачастую ютятся по три поколения одной семьи, с минимумом удобств. Тем не менее детство наследного принца Нарухито следует признать громадным отступлением от древних придворных традиций…
Держа в уме во многом карикатурные заметки сэра Гарри Паркса о внешности Мэйдзи, сэра Клода Макдональда о Тайсё, Томаса Ламонта о Хирохито, следует признать: Нарухито внешне выглядит весьма крепким мужчиной, с правильными чертами лица, а кто-то даже найдет его симпатичным. Нарухито обучался в Оксфорде (как и его младший брат Акисино) – то есть Нарухито с братом стали первыми детьми японского императора, получившими высшее образование за границей со времен принца Титибу, в 1925 г. проучившегося один триместр в том же Оксфорде. Так же, как некогда его двоюродный дедушка, Нарухито отдает предпочтение спорту, вину, музыке и литературе, английскому языку… Современный Токио, с его большей открытостью внешнему миру и технологической изощренностью, ожидает от Нарухито более современных манер и космополитизма – но, как видно, наследный принц больше тяготеет к старинной традиции.
Нарухито получил опыт так называемой «другой жизни», когда учился в Мертон колледже (Оксфорд): сам заклеивал окна на зиму, сам стирал белье… Без проблем пользовался банкоматом, но, как утверждают его критики в Японии, так толком и не научился обращаться со стиральной машиной…
После возвращения в Токио и принятия на себя обязанностей наследного принца Нарухито выступил с осуждением убийства мэра Нагасаки Мотосимы. Для старшего поколения японцев публичное заявление, возможно, и предстало в свете «отважного поступка», но молодое поколение почему-то расценило смелый жест Нарухито как «позавчерашний зеленый чай», который следует слить в канализацию…
Нарухито легко переиграть… В 1990 г. двадцатичетырехлетний принц Акисино «обошел» своего старшего брата, женившись на двадцатитрехлетней Кавасиме Кико, аспирантке, специализирующейся по социальной психологии. (Новоиспеченная принцесса бегло говорила на немецком и английском; шесть лет провела в Филадельфии, ее отец тогда же преподавал экономику в Пенсильванском университете; некоторое время вместе с семьей проживала в Австрии.) Молодые переехали в новый двухэтажный дом в западном стиле, выстроенный на территории императорского дворца, – теперь им можно было не оставлять обувь у входной двери… Императорский двор не изолировал их двух дочерей от родителей. За относительное «послабление в воспитательном процессе» пришлось заплатить дорогую цену. Репортеры японской светской хроники принялись на все лады «дезавуировать слухи» о романе принца Акисино, морского биолога по образованию, с некой тайкой, специалистом по полосатой зубатке… На пресс-конференции, куда он пришел в сопровождении принцессы Кико, Акисино вконец развеял слухи о своей любовной связи, назвав их «абсолютно не соответствующими действительности»!
Не в японской традиции, чтобы младший брат женился и обзаводился детьми раньше старшего. Но выбор наследного принца Нарухито пал на девицу Овада Масако, оказавшуюся крепким орешком. Масако – все признавали ее безусловно красивой – была честолюбивой и наделенной множеством талантов девушкой, обладала ярко выраженной индивидуальностью. Масако – простолюдинка, ее отец – богатый и высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел Японии. Детство Масако провела вместе с родителями в СССР и США, где ее отец работал на дипломатических должностях. В 1985 г. она с отличием окончила Гарвард и продолжила образование в Токийском университете, с прицелом на дальнейшее трудоустройство в японский МИД, в котором, благодаря видному положению ее отца, ей прочили блестящую карьеру. МИД направил Масако в Великобританию, в торговый отдел посольства.
Наследный принц упорно ухаживал за Масако, но и Масако не менее упорно сопротивлялась… Согласие стать наследной принцессой означало для нее отказ от собственной карьеры! Нечто подобное, как мы помним, испытывала Мацудайра Сэцуко в Вашингтоне в конце 1920-х гг., когда за ней ухаживал принц Титибу. Но с тех пор прошло целых семьдесят лет, и в конце XX века молодая японская девушка наконец обрела право на собственную профессиональную карьеру!
Многие японцы утверждают: причиной нерешительности, выказанной Масако, являлось не только и не столько нежелание провести остаток жизни узницей трона. Частью проблемы, по их словам, были личные качества наследного принца Нарухито…
«Может быть, он и в самом деле такой крепыш, – заявил некий крупный японский бизнесмен, – но далеко не красавец, и мы не слышали, чтобы кто-то называл его интеллектуалом. По-английски, при том, что он закончил Оксфорд, изъясняется отвратительно; играет на скрипке тоже абы как. Он бестолков, банален, посредствен, ему недостает светской искушенности. Когда объявили о его с Масако бракосочетании, все симпатизировали исключительно невесте – она не могла отклонить его предложение. Он не заслуживает ее; она не заслуживает своей участи во дворце».
Иностранцы могут наблюдать за японским наследным принцем и принцессой по телевидению, иногда непосредственно; многие находят их «красивой парой», тем более если сравнивать с разношерстными западными отпрысками августейших кровей. Космополитичные японцы воспринимают подобные иноземные оценки как шутку, «особенно плохую шутку». Японцы переросли собственных монархов!
Молодая привлекательная японская девушка не может ответить отказом наследному принцу, выразившему желание повести именно ее к алтарю. Масако смогла добиться от Нарухито только обещания защищать ее от козней императорского двора. Трудная задача; императрица Митико с первых дней во дворце оказалась мишенью для оскорбительных выпадов наследственной аристократии. Масако не избежала той же участи. Масако обвинили в «своенравии» и «индивидуализме». При дворе зашипели, называя ее «бесстыдной, так как она говорила больше Его Императорского Высочества», и, «возможно, ничем не отличается от девиц низкого пошиба и дурного воспитания – вроде тех штучек, что выросли на чужбине». А ведь такая, как говорит пословица, «забывает, как носить кимоно»… Проблемы Масако во дворце – еще никакие не проблемы…
Молодые сочетались браком в июне 1993 г. Их союз оставался бездетным шесть лет. Японская пресса заговорила о «предложении» откорректировать закон о престолонаследии, согласно которому трон наследуется только по мужской линии. Что, если единственными продолжателями императорской фамилии окажутся дочери принца Акисино? Императорский двор с каждым годом все суровее к Масако; вокруг наследной принцессы сгущаются темные тучи. Свобода действий и волеизъявления Масако практически сведены к нулю. Международная пресса пишет о Масако как о «безмолвно страдающей принцессе», осаждаемой «старыми традиционалистами». На смену восхищениям «жизнерадостной принцессой» приходит опасение, что будущая императрица Японии окажется очередной «раскрашенной и разодетой в шелка куклой». Императорскому двору волей-неволей пришлось созвать специальную пресс-конференцию, где Масако «свободно высказывалась по всем вопросам». Заявления Масако на пресс-конференции выглядели осторожными, сдержанными и обезличенными: «Мне кажется, тот живой интерес, с которым иностранные средства массовой информации подходят к освещению происходящих в японском обществе процессов, является в то же время ярким показателем истинной заинтересованности европейцев и американцев в Японии, особенно принимая во внимание растущий авторитет Японии в мире и происходящие здесь общественные процессы». Может быть, Масако и пользовалась свободой слова, но только после соответствующего согласования с императорским двором… Даже и в этом случае сама по себе пресс-конференция наследной принцессы создала прецедент, стала первым признаком перемен в запротоколированном императорском дворце. При определенном везении Масако сможет со временем доказать, что действительно обладает той же настойчивостью и силой характера, какой некогда обладала вдовствующая императрица Садако, победившая злопыхателей при дворе и заставившая многих считаться с ее мнением.
В японской повестке дня обсуждение перемен в императорской семье – далеко не самое главное. В 1999 г. одно из самых богатых и лживых правительств мира, так и не отучившееся от дурной привычки залезать в общественный карман, оказалось в глухом тупике – как тот заплутавший наемный работник, который в крайнем подпитии извергает наружу свое недавнее пиршество. Такому правительству необходимо нечто большее, чем желудочный зонд… Здоровье даже таких матерых хищников подрывают безудержный кутеж, инцест, мошенничество и коррупция.
До последнего времени Японию в мире уважали за экономическую мощь; сегодня ее боятся за экономическую слабость. Отличие – в растущем осознании мировой общественностью масштабов состоявшегося в стране мошенничества. Индустриальное превосходство Японии, как и ее политики, оказалось замешенным на инцесте между банками, частным бизнесом, госаппаратом и криминалитетом. Такие связи могут соответствовать требованиям момента, но одновременно они подразумевают финансовый инбридинг, в конечном счете разлагающий весь национальный организм. Он не является какой-то затейливой новинкой. Современный банковский кризис в Японии аналогичен банковскому кризису 1920-х гг. Тогда банковская реформа даже и не начиналась. Сегодня – та же картина; никаких серьезных мер не предпринято.
Международный валютный фонд ожидает от правительства Японии «определенных шагов» по реформированию банковской системы, в противном случае кризис в Японии может, уже в недалеком будущем, стать толчком к мировой экономической рецессии. Для Японии реформа будет означать отказ от правил игры, сложившихся в ее банковском секторе, от всех «полюбовных сделок», на которых зиждется коррупция. Вплоть до настоящего времени ни одному японскому правительству или политическому деятелю не удалось переломить ситуацию к лучшему. Более того, за экономическую нестабильность в Японии до сих пор из собственного кармана расплачивается главным образом средний класс, новоиспеченные нувориши. Крупный бизнес пребывает в благостной убежденности, что уж он-то кризис переживет. Олигархи знают: они смогут разрешить все свои проблемы. Однажды некий американский «барон-разбойник» [86]86
Robber baron – американский капиталист XIX века.
[Закрыть]заявил: «В условиях экономического кризиса деньги возвращаются к законным владельцам».
Однако сама Япония уже далеко не та, что прежде. Народ Японии самостоятельно выбирается из «темной долины». Мир глобализован, любая информация свободно распространяется по спутниковым телеканалам, Интернету. Японцы вкусили интеллектуальных свобод и познакомились с правами личности; как говорится, джинна не загнать назад в бутылку.
Реорганизация, реструктуризация абсолютно неизбежны – ведь кризис не рассасывается сам по себе! Уровень безработицы среди дееспособного мужского населения в Японии сейчас выше, чем в США. Если бы подсчет производился по британской или американской методике, то число безработных в Японии смело можно умножить на два. К апрелю 1998 г. в Японии 17 500 коммерческих предприятий объявили о банкротстве, число вновь созданных компаний меньше. Пенсионные фонды в Японии оказались под ударом. Пенсионные фонды двадцати шести ведущих японских компаний реально покрывали лишь 60 процентов пенсионных пособий, включая пенсионные фонды таких крупнейших японских корпораций, как «Мицубиси», «Мицуи», «Тошиба» и «Сони». Японский потребитель, обеспокоенный будущим, снижает текущие траты, увеличивая долгосрочные накопления. При этом многие потеряли доверие к национальной почтовой системе жирорасчетов, подорванное скандальными разоблачениями в адрес ЛДП, некогда немало поживившейся за счет почтово-сберегательных счетов. Поэтому японцы предпочитают хранить личные сбережения либо дома (под «татами»), либо инвестировать их в иностранные накопительные фонды. Никто в Японии не хочет, чтобы какой-нибудь Танака, Киси, Канэмару или Такэсита в очередной раз запустил руку в их личные сбережения – для финансирования очередной аферы ЛДП или «вывода из кризиса» коммерческих банков, оказавшихся на грани банкротства из-за полукриминальных связей с якудза.
В 1980-е гг. японские банки активно участвовали в спекуляциях с недвижимостью, взвинтив цены до заоблачных высот. В начале 1990-х гг. спекулятивный пузырь лопнул, фондовый рынок упал на 60 процентов, цены на недвижимость – на 80 процентов. Заемщики оказались не в состоянии погасить долги, а банки – один на один с просроченными кредитами; упавшая в цене залоговая недвижимость не покрывала задолженностей.
В 1998 г., по оценке министерства финансов Японии, просроченные займы составили 548 миллиардов долларов США. Из них по меньшей мере 235 миллиардов – «доля» якудза или организаций, имеющих связи с якудза. Тем не менее сами якудза – лишь малая толика японского криминального мира. Многие японские политические деятели, чиновники и бизнесмены стоят над законом – пускай у них нет ни татуировок, ни обрубленных пальцев…
На деле проблема еще глубже, чем признает японское министерство финансов. Его статистика по безнадежным долгам не основывается на независимой ревизии финансовой отчетности банков-банкротов. Министерство не потребовало провести независимый аудит. Некоторые независимые аналитики полагают: реальный объем просроченных ссуд может составить порядка одного триллиона долларов, не включая иностранные заимствования.
Японские компании уже не могут продолжать получать необеспеченные займы по минимальным процентным ставкам – на дворе как-никак банковский кризис. Они вынуждены обращаться к международному рынку долгосрочного ссудного капитала, где японские и иностранные инвесторы требуют, помимо прочего, от них больших гарантий и большей финансовой прозрачности – то есть чего-то неслыханного для традиционной японской банковской сферы. Многие заемщики в Японии, надо думать, окажутся не готовыми к ставкам международного денежного рынка и кончат банкротством. Новая волна банкротств приведет к очередному витку безработицы. Некоторые японские фирмы уже сейчас идут на слияние с иностранными конкурентами. К примеру, крупный японский автопроизводитель «Мазда» уже поглощен «Фордом», «Ниссан» слился с «Рено». Мелкий японский бизнес лишен подобного финансового левереджа.
По большому счету весь вопрос в том, смогут ли японские олигархи заголить животы, вытянуть короткий меч и отсечь все прогнившее, чтобы сохранить здоровые органы. Пока только один крупный банк – «Хоккайдо Токусёку» – прекратил свое существование плюс еще несколько более мелких банков. Министерство финансов и «Бэнк оф Джэпэн» не хотят верить в угрозу банкротства для какой бы то ни было крупной финансовой структуры Японии. Иностранные наблюдатели считают такую позицию абсурдной. Западные правительства заявляют: Япония не должна препятствовать краху несостоятельных институтов и реформировать те, что имеют право на существование. Вместо этого ЛДП проталкивает схему за схемой, лишь бы уберечь все банки – состоятельные и несостоятельные, – избежав их реформирования, финансового контроля и регулирования. Как попавшая в наркотическую зависимость жертва предпочитает жить, не бросая своего губительного пристрастия… «Инъекции» дополнительных капиталов только укрепляют дурные привычки, обогащая необязательных заемщиков, неэффективных управленцев и криминалитет, чьи просроченные ссуды никогда не будут возмещены. Иностранные инвесторы испытывают серьезную неуверенность в отношении сделок с японскими долгами – даже с теми, «бумажная стоимость» которых упала на «твердое дно» в 10 процентов, потому как почти в 40 процентах случаев долги придется взимать с… якудза. Как известно, якудза славится рассылкой пустых гробов в офисы иностранных финансовых компаний в Японии – в качестве подарка на новоселье…
Соединенным Штатам удалось справиться с национальным ссудосберегательным кризисом 1980-х гг. за три года. ЛДП попыталась управиться с аналогичным кризисом в Японии в те же сжатые сроки: с 1992 по 1995 г. в «экстренные» фонды на общественные работы «вкачали» порядка 75 триллионов иен – естественно, фавориты ЛДП в сфере строительного бизнеса не остались внакладе. Якобы японский потребитель, вдохновленный примером правительства, также начнет вкладывать личные сбережения в дело… Ан нет, оказалось, современного японского потребителя одурачить уже не так просто, как когда-то. Действительно, более половины «экстренных» фондов оказались выброшенными на финансирование тоннелей, ведущих в никуда… Оказалось, в донельзя замощенной Японии просто-напросто негде мостить по раствору…
Япония, словно поврежденный супертанкер, медленно сбрасывает ход.
Современные японские министры финансов и премьеры недолго удерживаются на своих постах. Войти и выйти из правительства – как пройти через турникет… Следующий! В июле 1998 г., когда премьер-министра Хасимото сменил Обути Кэйдзё, стало широко известно о личном одобрении кандидатуры Обути партбоссом ЛДП Такэситой Нобуру, – являвшимся ментором молодого Обути с 1963 г., когда Обути впервые занял кресло депутата парламента. Неутешительная весть, ведь Такэсита («делатель королей» из ЛДП с «лицом простака») как раз и составлял значительную часть японской проблемы! Поэтому Обути не удалось завоевать прочный авторитет среди рядовых японцев на посту премьер-министра, а японские СМИ – те и вовсе обозвали Обути «дерьмом золотой рыбки Такэситы»…
Есть ли шанс на то, что переживаемое Японией «солнечное затмение» – явление временное? Удастся ли народу Японии (голосующему против экономической политики правительства кошельком – национальный потребительский спрос продолжает неуклонно снижаться) переломить ситуацию, развернув страну в сторону давно назревших реформ? Ожидает ли эту страну бархатная социальная революция? Многие хорошо информированные японцы считают: время, увы, упущено. Здесь будет уместно привести мнение одного из японских ученых, видящего проблему Японии в превращении «интересов наиболее влиятельных клик в национальные интересы». Реформы, продолжает он, невозможны в стране, где выстроено лишь «вертикальное» равенство – то есть члены властной элиты «ровни» по отношению исключительно друг к другу. И так далее вниз по социальной лестнице. Вывод – карабкайся наверх, не принижай своего настоящего социального и финансового положения!
Если (в очередной раз) серьезных реформ в Японии провести по той или иной причине не удастся, то ЛДП, надо думать, станет ожидать от Запада и МВФ очередной подпорки для японской коррумпированной системы, как это недавно произошло в Индонезии.
Сможет ли императорская семья, с ее новым «человеческим лицом», выступить в поддержку реформ и открытости трона? Император Акихито демонстрациями «чистосердечия», отказом от традиции в мелких, но значимых деталях старается завоевать доверие общества. Однако никто всерьез не верит, что произносимые от случая к случаю заявления Акихито в поддержку «коренных преобразований» действительно способны изменить ситуацию в стране.