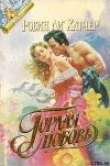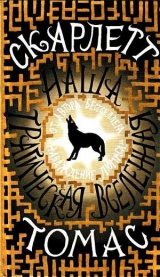
Текст книги "Наша трагическая вселенная"
Автор книги: Скарлетт Томас
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
Примерно через месяц после того, как Куперы поселились в соседнем доме, начало твориться что-то странное. Каждый вечер, часов в девять, сразу после того, как я ложилась спать, раздавался страшный грохот, и за ним следовало несколько глухих ударов, будто кто-то ронял на пол книги. После этого слышались чьи-то шаги, иногда кто-то плакал. Я знала, что это плачет Роза, но никому ничего не говорила. Кошки пронзительно мяукали и вылетали из дома, хлопая кошачьей дверцей: можно было подумать, что за ними гонится свора собак. Шум продолжался примерно до часа ночи, а затем мне наконец удавалось заснуть. Однако спала я недолго, потому что через час или около того просыпался Тоби. И тогда я снова лежала в темноте, слыша, как мать спешит к нему в комнату, а потом берет на руки и ходит с ним взад-вперед по коридору, пытаясь успокоить. Иногда отец выходил из спальни и напоминал матери, что лучший способ успокоить орущего младенца – оставить его одного и дать как следует прокричаться. Выспаться в нашем доме было почти невозможно.
Отец с матерью много говорили о шуме, который доносился от соседей. Поговорить с Куперами об этом или не стоит? Если сказать, соседям, наверное, будет неловко? И не получится ли, что родители лезут не в свое дело? Мать думала, что, возможно, тихий с виду мистер Купер бьет жену. А отец выдвигал предположение, что звуки эти – всего-навсего радио или какие-нибудь подростковые штучки Калеба, а может, никакого шума и нет вовсе, и все это – лишь плод нашего больного воображения. Стоял холодный ноябрь, в воздухе пахло дымом, яблоками и фейерверками. Когда забастовки закончились, я снова пошла в школу, но меня не оставляли воспоминания о летних днях, проведенных в лесу с Робертом и Бетани. Каждую ночь, укладываясь спать, я представляла себе, как ко мне явится чудовище и я не смогу ему противостоять. В какой-то момент я решила, что это чудовище не сможет увидеть меня до тех пор, пока я сама не увижу его, и попыталась уснуть, накрывшись одеялом с головой, хотя от этого стало ужасно жарко и трудно дышать. Шум, доносившийся из соседского дома, только усложнял ситуацию, и скоро я начала засыпать прямо на уроках и плакать во время диктантов.
Нашу учительницу звали мисс Скотт, все ее обожали. Она была молодая и красивая и носила длинные платья в пастельных тонах. В других классных комнатах жили хомяки и морские свинки, а у нас – белоснежная крыса по имени Герман. Другие классы ставили опыты с лакмусовой бумажкой и лимонным соком, а мисс Скотт однажды принесла походную плитку и начала варить на ней яйца, объяснив, что это и есть наука, но мы решили, что стали свидетелями настоящего чуда. Однажды она попросила меня задержаться в классе, когда все остальные ребята убежали на прогулку.
– Мег, – сказала она. – Это мне только кажется или ты в последнее время какая-то несчастная?
Я не смогла сдержаться и снова разрыдалась.
– Да, несчастная, – всхлипнула я.
– Не хочешь рассказать, в чем дело?
Я мотнула головой.
– Кому-нибудь все же надо рассказать, – настаивала она. – Может, родителям?
– Они рассердятся.
– Я не рассержусь. Обещаю.
Что-то во взгляде мисс Скотт навело меня на мысль, что ей, пожалуй, можно было доверять. И я рассказала все: как ходила в лес, как познакомилась с Робертом и Бетани, как побоялась научиться волшебству и как Роберт предсказал мне будущее.
– И теперь я боюсь этого чудовища, – сказала я. – Не знаю, когда оно за мной явится. Если бы я выучилась волшебству, я бы, наверное, смогла ему противостоять, а так – не могу. Я не сплю и всего боюсь. А из соседского дома все время доносится какой-то шум, и мне кажется, что это чудовище идет за мной. Я почти уверена, что так оно и есть!
– Господи боже, – ахнула она. – И в самом деле жутковатая история.
– Вы рассердились? – спросила я.
– На что же тут сердиться?
Она взяла со стола кусок красного мела, а потом положила его обратно.
– Скажи мне, Мег. Ты знаешь, чем ложь отличается от вымысла?
– Я не вру! И это не вымысел!
– Хорошо-хорошо. Я и не говорю, что ты врешь. Но у тебя богатое воображение. Ведь ты выиграла конкурс на лучший рассказ, так? Нет ничего плохого в том, чтобы выдумывать всякие истории, да и в каком-то смысле историями можно назвать все, что мы когда-либо рассказываем. Но все-таки иногда полезно помнить, что в наших историях правда, а что вымысел.
– Вы мне не верите. Но это правда. Все это было на самом деле. Я-то знаю, что это так.
– Я верю тебе. Просто…
Мисс Скотт нахмурилась. И покачала головой.
Я снова расплакалась.
– Я хотела рассказать маме, – сказала я. – Но папа…
– Что папа?
– Ничего. Он из-за такого точно рассердится. Он материалист.
Как-то раз несколько лет назад я сидела у отца на коленях и расспрашивала его о том, чем он занимается целыми днями у себя в университете. Он ответил, что большую часть времени разглядывает цифры и проводит подсчеты с целью узнать, когда зародилась наша вселенная. Сказал, что работа его похожа на работу детектива, который изучает улики и выясняет, из чего сделаны предметы и сколько им лет. Я спросила, зачем ему знать когда зародилась наша вселенная, и он ответил, что это вопрос хороший, но очень сложный. Я тогда вспомнила какие-то слова, прозвучавшие на школьном собрании, и сказала, что, может, ему лучше попытаться узнать побольше о Боге, но тут у него с лица сошла улыбка, он опустил меня на пол и сказал, что мне пора спать.
Мисс Скотт улыбнулась.
– Послушай, – сказала она. – Допустим, все действительно произошло так, как ты описываешь. Роберт был прав, когда сказал, что не всем следует знать свое будущее. Во-первых, будущее твое не высечено в камне. Когда тебе его предсказывают, речь идет не о том, что с тобой случится, а о том, какой ты человек. Я думаю, что Роберт говорил, что ты не из тех, кто может одолеть чудовищ. И это не так уж плохо, правда? Помнишь сказку про Красавицу и Чудовище? Чудовище выглядело настоящим монстром, но ему всего-навсего не хватало любви, и когда Красавица полюбила его, оно превратилось в прекрасного принца. В этой сказке Красавица не стала бороться с чудовищем – она полюбила его, и они жили долго и счастливо. Вот взгляни на Германа.
Я обернулась и посмотрела в дальний угол класса, где Герман бегал в одной из своих картонных трубок.
– Многим он кажется настоящим чудовищем. Они смотрят на него и говорят «ай! крыса!» и, может, с удовольствием «одолели» бы его при помощи крысиного яда. Но разве это было бы хорошо?
Я помотала головой.
– Ты слышала что-нибудь о Вьетнамской войне? – спросила мисс Скотт.
– Не знаю.
Это словосочетание мне встречалось, но я не знала, что оно означало.
– Америка, очень-очень большая страна, решила, что одолеет чудовище под названием «коммунизм», – начала мисс Скотт и вдруг рассмеялась. – Ох, нет, пожалуй, слишком сложный пример. Но до этого момента ты ведь поняла все из того, о чем я говорила?
Я кивнула.
– Если уж начистоту, то я не верю, что на свете бывают чудовища, – сказала она.
– Все взрослые так говорят.
– А… Да, я понимаю. Но я имею в виду другое: если чудовище (или тот, кого ты называешь чудовищем) явится к тебе и вы с ним подружитесь, оно перестанет быть чудовищем – по крайней мере для тебя. Так что в жизни вполне можно обойтись без чудовищ. Чудовищем становится лишь тот, кого мы сами принимаем за чудовище.
– А если чудовище не захочет становиться моим другом?
– Ну, думаю, в идеальном мире вы в таком случае просто пошли бы каждый своей дорогой и оставили друг друга в покое. Самое главное – не стоит проявлять жестокость по отношению к кому-то лишь потому, что он тебе не нравится. Думаю, твой друг Роберт имел в виду именно это. Мне кажется, он лишь пытался сказать, что ты от природы добрый человек. А это очень хорошо.
– Но еще он сказал, что я никогда ни к чему не приду.
– Да, с этим разобраться труднее, – нахмурилась мисс Скотт. – Как он это сказал?
– У него было страшное лицо и страшные глаза.
– А голос?
Я напрягла память.
– Голос был не таким страшным, как все остальное.
– Может, он и под этим подразумевал что-нибудь хорошее?
– Что же тут может быть хорошего?
Мисс Скотт улыбнулась.
– В некоторых религиях считается, будто ничто – это самое лучшее, что только может быть, – сказала она.
– Как это?
– Да, звучит странно, понимаю. Но я думаю, что под этим «ничто» подразумевается не отсутствие чего бы то ни было, а нечто загадочное, отрыв от физического мира и постижение мира духовного. Ты слышала что-нибудь о даосизме?
– Дао… чем? – переспросила я.
– Это не столько религия, сколько «путь». В даосизме именно «ничто» придает смысл всему, что тебя окружает. Например, чашка полезна лишь тем, что в ней есть пустое пространство для чая. Лучшая часть дома – это не стены и не крыша, а пространство, в котором можно жить. В «Дао дэ цзин» – «Книге о Пути и Славе» – есть одно замечательное место о том, что мир возник из пустоты. Все физические вещи, которые тебя окружают, вырезаны из огромного куска материи, и материя эта – ничто, или пустота. Вещами можно пользоваться, говорит Дао, но нельзя забывать о том, что возникли они из ниоткуда. Не знаю, это ли имел в виду твой друг, но вообще слова «ты ни к чему не придешь» могли означать, что ты придешь туда, где царят мир и простота, где тебе будет понятна суть космической материи, а не только предметов, которые из нее вырезают. А может, он хотел сказать, что ты не станешь успешной в общепринятом смысле…
– Вы говорите много непонятных слов, – перебила я ее.
– Извини, – она улыбнулась. – Ты права. У меня есть очень близкий друг, о котором я все время думаю. Однажды ему тоже сказали, что он ни к чему не придет. Он учился в очень строгой школе, где наказывали палкой и заставляли мыться под ледяным душем. Директор школы однажды сказал ему, что он очень ленив и «ничего не добьется в жизни». Тебе доводилось слышать это выражение?
– Кажется, да, – кивнула я.
– Когда взрослые его употребляют, они хотят сказать, что ты не станешь знаменитым или успешным. Не будешь премьер-министром и не займешь уважаемого поста даже в каком-нибудь банке. То есть – по сути – «ни к чему не придешь». В некотором смысле директор был прав. Мой друг живет в автофургоне и целыми днями читает книги. По ночам он работает на фабрике, а утром спит. Однажды он объездил всю Индию на автобусе! В принципе, можно сказать, что он ничего не добился, однако ему очень нравится его простая жизнь. Благодаря прочитанным книгам он многому научился. Как делать вино и заводить машину, когда она глохнет, – все это он узнал из книг.
Я поняла лишь часть из того, что сказала мне мисс Скотт, но после нашего разговора мне полегчало. Прежде чем прозвенел звонок и ребята вернулись с прогулки, она подошла к своему столу и достала из ящика пузырек с какой-то жидкостью и крошечной пипеткой. Она велела мне открыть рот и капнула мне на язык две капли.
– Ты почувствуешь себя намного лучше, – сказала она.
Шум у соседей повторялся каждую ночь, но теперь он тревожил меня гораздо меньше. Я стала лучше спать, чего нельзя было сказать о моих родителях. Иногда я просыпалась среди ночи, и до меня доносились обрывки их разговоров. Однажды я услышала, что мать плачет:
– Я больше не могу, – всхлипывала она. – Как же дети? Что с ними будет?
В другой раз я услышала, как она снова и снова повторяла: «Ты такой чужой». Голос у мамы был какой-то непривычно тонкий, и казалось, будто ей не хватает воздуха. Я старалась обо всем этом не думать. Каждый вечер после чая меня на час отправляли к себе в комнату с указанием читать книгу. Это было чем-то вроде подготовки к выполнению домашней работы, которую нам должны были начать задавать со следующего года. Я решила, что буду посвящать этот час изучению магии. Если мисс Скотт была права и Роберт хотел сказать мне что-то хорошее, значит, нет ничего страшного в том, чтобы немного поупражняться в волшебстве. Я подумала, что если научусь колдовать, то смогу все исправить и сделать так, что родители перестанут ссориться и жизнь их станет легче: например, Тоби будет лучше спать, а у папы пройдут головные боли. У меня был спичечный коробок, который я утащила с кухни. Я клала его на письменный стол и пыталась сосредоточить на нем все свое внимание. Я хотела приподнять его над столом силой мысли, но все время на что-нибудь отвлекалась, и он так ни разу и не сдвинулся с места.
Как-то раз в субботу моя мать повела нас с Розой на благотворительную ярмарку, проходившую в церкви на нашей улице. Я всегда носила одежду, которую мы покупали на таких ярмарках, и тогда мне понадобились джинсы. Тоби сидел в коляске и грыз сухарь, а нам с Розой мама дала по двадцать пенсов, чтобы мы вроде как купили все, что захотим, однако мы были уже научены опытом и в любом случае спрашивали у нее разрешения, прежде чем потратить деньги на понравившуюся вещь. Мы слышали истории о том, как знакомые дети накупали себе на благотворительных ярмарках кучу ненужного барахла – пистолетов с пистонами, бенгальских огней, ароматизированных ластиков, баночек с табаком – и дома им потом за это влетало. Кто-то однажды даже купил у полуслепой старушки книгу «Радость секса». Мы сразу направились к прилавку с книгами и стали выискивать то, что нам покупать не разрешалось. Но мы знали, что до того, как настанет время уходить с ярмарки, нам удастся прочитать много всяких неприличных отрывков. Пока Роза увлеченно изучала «Самоучитель тантрического секса», я увидела нечто в мягком переплете красного цвета под названием «Экстрасенсорика: шестое чувство». Эта книжка входила в образовательную серию «Макдональд Гайдлайнс». Рисунок на обложке у нее был пугающий: огромный глаз, а внутри него – призрачная фигура женщины. Я взяла книгу с прилавка и стала листать. Там была фотография Ури Геллера, [25]25
Ури Геллер (р. 1946) – израильский иллюзионист и мистификатор, возможно, наделенный паранормальными способностями. Прославился своим умением гнуть ложки «силой мысли», а также тем, что однажды сумел якобы таким же образом остановить часы на Биг-Бене.
[Закрыть]сгибающего ложку, а еще – изображения спиритических сеансов, людей, проходящих сквозь огонь, символов сновидений, примеров лозоходства и случаев чудесного исцеления. Хотя картинка на обложке была такой ужасной, что я не могла долго на нее смотреть, сама книга что-то всколыхнула во мне. В последней части рассказывалось о том, как развить в себе экстрасенсорные способности. Мне во что бы то ни стало нужно было эту книгу заполучить. Она стоила пятнадцать пенсов. Я выбрала книжку Энид Блайтон, [26]26
Энид Блайтон (1897–1968) – знаменитая британская детская писательница, автор известной в России серии романов «Великолепная пятерка».
[Закрыть]которой у меня еще не было, и направилась к матери, увлеченной беседой с нашей соседкой.
– Мам, можно я куплю вот это? – спросила я.
Она даже не посмотрела, что за книжка лежала под Энид Блайтон.
– Да, солнышко, – сказала она.
Позже, когда я сидела в постели, погрузившись в чтение новой книги, Роза, дочитав один из романов о «секретной семерке», [27]27
Серия книг о «секретной семерке» также написана Энид Блайтон.
[Закрыть]поднялась с мягкого пуфика, на котором до этого валялась, и, зевая, подошла ко мне. Она забралась на мою кровать и стала прыгать на пружинящем матрасе.
– Перестань, – одернула я ее. – Я читаю!
– И про что там?
– Про экстрасенсорику, – ответила я. – Только это тайна, так что никому не говори.
– А это что такое? – спросила она, заглянув мне через плечо и ткнув пальцем в одну из картинок.
– Тут рассказывается про полтергейст, – пояснила я, слегка запнувшись на новом слове.
– А-а, – протянула она со скучающим видом. – У нас дома его полно.

– Я же тебе говорила, что у нас тут часто беда с паромом. Было утро вторника, и Верхний паром, также известный под названием Понтонный мост, вышел из строя. Все местные повыходили из машин и принялись звонить по телефону, курить или осматривать ту часть парома, которая, по их мнению, не работала. Немногочисленные туристы и приезжие сидели в машинах и наблюдали за работниками парома. Роуэн, который в это время дня паромом никогда не пользовался, стоял у ограждения и смотрел на гребное колесо. Теперь, когда я его окликнула, он смотрел уже не на колесо, а на меня. Я тоже смотрела на него, и вдруг с нашими глазами что-то произошло: они будто соприкоснулись где-то посередине разделявшего нас пространства. Мы словно дотронулись друг до друга, хотя никакого прикосновения в действительности не было. Я не хотела его отпускать, и, наверное, он тоже этого не хотел, потому что мы долго – около десяти секунд – вот так держали друг друга глазами. Казалось, мы сейчас опять поцелуемся.
– Ты мне и на Нижнем пароме советовала никогда не переправляться, – сказал он, наконец отведя глаза.
– На нем ехать менее приятно, – сказала я и тоже бросила взгляд сначала на реку, а потом куда-то вдаль, на море.
Как можно описать такое мгновение? Как понять, произошло между нами что-нибудь или нет?
Роуэн снял очки и потер глаза. Вокруг них, словно стаи недокормленных акул, собрались тонкие складки кожи. Лицо у него было бледно-серого цвета, будто залитое лунным светом море. Можно было подумать, что он не спал целую неделю. На нем, как обычно, были джинсы и шерстяное пальто с капюшоном, а волосы нелепо торчали в разные стороны.
– Зато этот, похоже, все время ломается, – сказал он и снова облокотился на ограждение, помахивая в воздухе очками.
– Это блистательный образец викторианской инженерной мысли, – напомнила я.
– Тут ты права, – кивнул Роуэн. – Год постройки?
– Сдаюсь, – улыбнулась я. – Я только знаю, что какой-то местный инженер украл идею у шотландского студента.
– 1831-й. По крайней мере открыт он был в тот год. Инженера звали Джеймс Рендел, а шотландского студента – Джеймс Нэсмит. Не то чтобы он прямо взял и украл идею. Хотя, может, и украл. Когда они познакомились, Нэсмит уже был инженером и рассказал Ренделу о том, как в университете его посетила безумная мысль – привязывать судна к тросам, и Рендел решил попробовать.
– Ага, – кивнула я. – Вот почему ты – историк, а я – писательница. Я вроде бы все это знала, но забыла. Откуда у тебя столько информации о Верхнем пароме?
– Гринвейский проект, – ответил Роуэн. – До того как там поселились Агата Кристи и ее муж, в Гринвей-Хаус жил Джеймс Марвуд Элтон, шериф графства Девон. Он не хотел строить здесь мост, поэтому люди искали какой-нибудь другой способ переправы через реку. Понтонный мост сначала приводился в движение парой лошадей. На этом пароме, наверное, путешествовала и Агата Кристи.
– Когда ей надо было исчезнуть?
Я уже знала от Роуэна, что Агата Кристи была так зла на мужа за его измену, что инсценировала собственное исчезновение. Она оставила машину в придорожной канаве и уехала на курорт в Харрогейт, где сняла номер, назвавшись чужим именем: если мне не изменяет память, она зарегистрировалась в гостинице под фамилией любовницы мужа. Когда об этом узнали газеты, они подняли такой шум, что Агате Кристи пришлось притвориться, будто у нее был нервный срыв. Примерно через год после этого она развелась с изменщиком и вскоре на археологических раскопках познакомилась с человеком, ставшим ее вторым мужем. Он был моложе Агаты Кристи на четырнадцать лет, и это он катил ее в инвалидном кресле, когда она умерла от старости в возрасте восьмидесяти пяти лет. Я вспомнила, с какой печальной улыбкой рассказывал мне об этой подробности Роуэн.
– Нет, – ответил он. – Она поселилась в Гринвей-Хаус уже после того, как вышла замуж за Макса Маллоуэна, археолога.
Роуэн снова надел очки и, прислонившись к ограждению, повернулся ко мне лицом.
– На электронных навигаторах Верхний паром обозначен как второстепенная дорога.
– Я слышала, что некоторые навигаторы совершенно сбиваются с толку, когда переезжаешь через реку. Не знаю, может, это просто городская легенда. Одна знакомая Либби, она живет где-то за городом, рассказывала, что, когда она заехала на Нижний паром, навигатор стал говорить: «Развернитесь! Вы в опасности! Вы заехали в реку!» Или что-то вроде того.
Я посмотрела на его машину.
– У тебя теперь навигатор? – поинтересовалась я.
– Да, Лиз установила. Но я его не включаю. Обычно я вроде знаю, куда надо ехать.
Он снова повернулся к парому.
– Где у него эти тросы, как думаешь? – спросил он.
Я подошла поближе, и мы оба перегнулись через ограждение. Наши локти разделяло как минимум четыре слоя одежды и два дюйма воздуха.
– Видимо, где-то внизу. Наверное, протянуты под днищем.
– Я слышал, как однажды паром, перевозивший целое стадо коров, пошел ко дну. Так коровы сами поплыли и выбрались на берег. – Он задумался. – Это не ты мне рассказывала?
– Я. А еще однажды в восьмидесятых тросы лопнули, и паром понесло по реке. То же самое произошло в прошлом году, но тогда, в первый раз, все было гораздо хуже. Паром снес штук двенадцать яхт. А еще на нем находилась машина скорой помощи, в которой везли женщину в больницу на другой берег: из-за аварии женщина умерла. Говорят, в грозовые ночи на пароме виднеются едва различимые очертания скорой и слышны слабеющие крики больной.
Роуэн побледнел.
– Боже, – сказал он. – Какой ужас.
– Да. Но я уверена, что тут далеко не все правда. Мне все это рассказывали Либби и Боб, потому что они, всегда здесь жили. Я-то приехала только пять лет назад.
Он отвернулся и посмотрел куда-то вдаль.
– Как продвигается глава? – спросила я.
– Ну… Пожалуй, я слишком много занимаюсь изучением вопроса и слишком мало пишу.
– Ты говорил что-то про культурные предсказания, – сказала я. – Я собиралась поискать примеры, потому что мне стало жутко интересно. Но забыла.
– Самый известный пример датируется 1898 годом: за четырнадцать лет до гибели «Титаника» некий писатель Морган Робертсон написал роман под названием «Крушение Титана» – о корабле, считавшемся непотопляемым и в итоге погибшем от столкновения с айсбергом во время своего первого выхода в море. Две с половиной тысячи пассажиров утонули из-за того, что на всех не хватило спасательных шлюпок – так же как и в случае с настоящим «Титаником». Никто не позаботился о том, чтобы иметь их в достаточном количестве, ведь корабль считался неуязвимым.
– Ты думаешь, это не было настоящим предсказанием?
– Конечно же, нет. В этой главе я как раз говорю о том, что если ты писатель и пишешь о непотопляемом корабле, и тебе нужно придумать ему имя, ход твоих мыслей примерно такой же, как у людей, назвавших настоящий корабль. «Титан», «Титаник» – нет ничего удивительного в том, что писатель и человек, давший имя реальному кораблю, рассуждали одинаково. Ведь слово «титанический» широко использовалось и до появления одноименного корабля и всегда означало нечто большое и величественное, что в конечном итоге терпит крах. Байрон описывал этим словом Рим накануне его падения: «На Рим великий буря налетела, / И рухнул Рим, и жар давно остыл / В останках титанического тела». [28]28
Байрон Дж.-Г., «Паломничество Чайльд-Гарольда». Пер. В. Левика.
[Закрыть]Ну а когда столь мощный корабль тонет, люди почти всегда погибают, потому что создатели судна, считая его непотопляемым, не принимают необходимых мер предосторожности и не оснащают корабль достаточным количеством шлюпок. Ничего загадочного здесь нет. По сути, в таком предсказании нет ничего сверхъестественного: это явление другого рода, основанное на культурных факторах и тех вещах, что людям уже известны, или тех, о которых они могут догадаться.
Я стала чистить в кармане куртки мандарин.
– Интересно, почему те, кто назвал настоящий «Титаник» «Титаником», остановились именно на этом имени? Я никогда раньше об этом не думала. Они будто сами хотели, чтобы корабль утонул, или же знали заранее, что это непременно случится. Ведь титаны были повержены богами-олимпийцами, правильно? И слово «титанический» изначально несет в себе трагический смысл и некую обреченность. Очень хорошо сочетается с «тщеславием», о котором пишет Гарди: «Рядом неясные лунноглазые рыбы / Глядят на позолоту вокруг / И вопрошают: „Что делает здесь это тщеславие?“». [29]29
Пер. И. Бродского.
[Закрыть]
– Вот об этом я и хотел с тобой поговорить, – сказал он. – Хотел испробовать на тебе свою теорию трагедии. Ты не против? Все равно мы, похоже, тут надолго застряли, а больше мне не с кем об этом поговорить.
«А как же Лиз?» – подумала я. Ничего удивительного: похоже, никто не обсуждал с давними партнерами тех вещей, что по-настоящему интересовали. Боб ничего не знал о вязании Либби, а она слабо представляла себе, сколько струн у гитары. Каждый раз, когда Тэз заканчивал картину, мать говорила, что получилось очень красиво, но слишком сложно, чтобы она могла должным образом это оценить. Пожалуй, один из самых печальных фактов современной жизни заключается в том, что на работе, или на соседней улице, или на другом берегу всегда найдется тот, кто сумеет понять тебя лучше, чем человек, с которым ты живешь. У меня, правда, такого знакомого не было. Кристофер, насколько я помнила, когда-то в моем внутреннем мире что-то понимал, но его представление об этом мире давно устарело. По-моему, он даже не был в курсе, сколько книг у меня вышло. Но кому я хочу запудрить мозги? Лиз могла ничего не знать о «Титанике», зато она наверняка знала, какой у Роуэна любимый цвет, какое второе имя ему дали родители, когда у него день рождения, с чем он пьет чай – с сахаром или с молоком, храпит ли он и почему у них нет детей. Этот список можно было продолжать до бесконечности. Так что Роуэн вполне мог обойтись без разговора со мной. К тому же он так и не прислал мне ни одного письма.
– Я не против, – сказала я. – Я хочу использовать «Титаник» в своем романе. Думала начать с поэмы Гарди или как-нибудь ее ввернуть. Поэтому беседа с тобой – часть моего исследования. Да и вообще это интересный способ убить время в ожидании того, что мы вроде как должны утонуть.
Роуэн ухватился руками за перила и свесился за край парома. На мгновение мне показалось, что сейчас он свалится в реку. Ступни его оторвались от палубы. Но тут он развернулся и, подтянувшись на руках, уселся на ограждение: теперь опорой его спине служил лишь воздух, а внизу, под ногами, не было ничего – одна вода.
– Так вот. Вся моя книга – о катастрофах. В основном речь там идет о кораблекрушениях, однако мне хочется сделать так, чтобы в теоретической части рассказывалось не только об идее аффекта,но и о том, как и почему возникает катастрофа. Мне хочется понять, она берет и «вдруг» случается, после чего люди неожиданно становятся несчастными, или же тут все не так просто. Возможно, события на самом-то деле развиваются в обратном направлении: сначала люди становятся несчастными, а потом как раз и происходит катастрофа. Когда я начинал главу о «Титанике», то думал, будто доказываю тезис о том, что невозможно отличить вымышленную катастрофу от реальной, как говорил философ Бодрийяр. Изначально я ставил перед собой задачу выдвинуть предположение, что эти культурные предсказания – фальшивка, этакий Диснейленд с аттракционами на тему кораблекрушений, который нужен для того, чтобы люди не слишком задумывались, что все эти трагедии реальны и неизбежны.
– Бодрийяр и мне попадался, – сказала я. – «Матрица» должна была стать кинематографическим выражением его идей, но он сказал, что у создателей фильма ничего не получилось: ведь он говорил, что, когда все в мире переродится в знаки, обозначающие другие знаки, выхода из этого круга не будет, а в «Матрице» выход есть. Если я правильно понимаю.
– Да, правильно понимаешь. Он говорит о таких вещах, как, например, карта, которая становится настолько подробной, что превращается в вещь, которую должна была лишь отображать. У него речь идет о том, сказывается ли на реальности то, как мы эту реальность изображаем. Когда обо всем на свете будут написаны книги, не превратится ли все на свете в книгу? Если организуешь фальшивое ограбление, как сделать так, чтобы оно не превратилось в настоящее, если люди, напуганные твоим налетом и считающие, что ты все делаешь всерьез, испытывают страх реальный, а не вымышленный? Для меня это оказалось чем-то новеньким, пришлось иначе взглянуть на давно знакомые вещи, но это было очень полезно. Потом я начал читать работы Поля Вирильо, посвященные трагедиям, и обнаружил у него идею, что катастрофа встроена в каждую созданную человеком систему. Тогда я подумал о том, что ожидать можно не только катастроф, но и предсказаний этих катастроф в отношении любого технического объекта, в связи с чем они и становятся неизбежными. Это примерно то же самое, что и самоисполняющееся пророчество, только немного сложнее.
Я съела дольку мандарина.
– Интересно. Только… Ты ведь не выбросишься за борт?
У Роуэна был такой вид, будто он внезапно вспомнил, что сидит на ограждении парома, и теперь размышлял, правильно ли поступил, забравшись туда. Он оглянулся через плечо и посмотрел на меня. Его руки крепче ухватились за перекладину, и деревянный браслет, который он носил не снимая (браслет этот был сделан из обломков корабля, потерпевшего крушение у Галапагосских островов: вместе с обломками судна на берег выбросило и чудом спасшегося дедушку Роуэна), сдвинулся с места и снова принял свое привычное положение на запястье.
– Неплохая мысль, – улыбнулся он.
– Но это была бы уже настоящая трагедия, – тихо сказала я.
– А вдруг трагедия и в самом деле изначально заложена во всем вокруг, – пожал он плечами. – Но я в порядке. Держусь.
– И что там дальше с катастрофами? – напомнила я.
– Вирильо делит катастрофы на искусственные и естественные. Он говорит, что всякий раз, изобретая нечто вроде непотопляемого корабля, вместе с этим кораблем необходимо придумать и возможность его потопления. Дальше я пишу, что в таком случае предсказание – вещь вполне логичная и рациональная, ведь люди просто-напросто видят в технике будущую трагедию. Они откуда-то знают, что механизм обречен на катастрофу. И все такое прочее. То, что считается непотопляемым, в конечном итоге неминуемо утонет.
– Пожалуй, это правда, – задумалась я. – Итак, в первом акте у нас имеется нечто большое, сверкающее и тщеславное. Ты прав. Однако к третьему акту оно непременно должно пойти ко дну, в противном случае никакой истории не получится.
– Но почему, как ты думаешь?
Я пожала плечами.
– Потому что история – это перемены. Все книги об успехе начинаются с провала, и наоборот. Истории любви – с одиночества, истории об одиночестве – с любви.
– Но разве в жизни все так же, как в книгах? А если да, то в какой я книге: о любви, об одиночестве или сразу в обеих?
Я засмеялась:
– По определению, нет. Но по другому определению, да!
– Потому что?..
– Ну, потому что любая история – это симуляция, ты сам сказал. Рассказ – это отражение, или имитация, или мимесис. Он описывает нечто такое, чего на самом деле нет. Твои предсказания гибели «Титаника» – истории вымышленные, совпавшие с историей реальной. Но даже «правдивый рассказ» – это, по определению, еще не жизнь. Жизнь – это жизнь. Но, с другой стороны, мы знаем о ней лишь то, что существует в виде рассказа. Как говорил Платон, есть истории правдивые и ложные. Видимо, единственное различие между вымышленным предсказанием о крушении «Титаника» и описанием событий реальной катастрофы заключается для нас лишь в том, что сделаны они в разное время и что, возможно, там не совпадают какие-то подробности. Ведь, подозреваю, никто из нас не видел «Титаника» и не встречался ни с кем из его пассажиров. Для нас «Титаник» – это та же самая история, потому что мы знаем о нем лишь из рассказов других, а не из собственного опыта. Извини, устроила мозговой штурм. Наверное, я вела к тому, что у любой истории должны быть свои шаблоны, в противном случае это уже никакая не история. И если самой жизни шаблоны не нужны, в тот момент, когда мы начинаем ее пересказывать, необходимость в шаблонах все-таки возникает, иначе получается не рассказ, а бессмыслица. Вот почему мы все время пытаемся подогнать жизнь под всякие шаблоны: чтобы потом ее можно было пересказать. И каждый раз, когда происходит что-нибудь хорошее, мы начинаем готовиться к тому, что это хорошее вот-вот закончится.