Стихотворения и поэмы
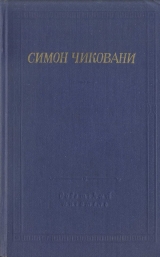
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Симон Чиковани
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
Такие ночи сердце гложут,
стихами замыслы шумят.
То, притаившись, крылья сложат,
то, встрепенувшись, распрямят.
За дверью майский дождь хлопочет,
дыханье робости сырой.
Он на землю ступить не хочет
и виснет паром над Курой.
Как вдруг рыбак с ночным уловом, —
огонь к окну его привлек.
До рифм ли тут с крылатым словом?
Всё заслонил его садок.
Вот под надежным кровом рыба.
Но дом людской – не водоем.
Она дрожит, как от ушиба
или как окна под дождем.
Глубинных тайников жилица,
она – не для житья вовне.
А строчке дома не сидится,
ей только жизнь на стороне.
А строчку дома не занежишь,
и только выведешь рукой,
ей слаще всех земных убежищ
путь от души к душе другой.
Таких-то мыслей вихрь нахлынул
нежданно на меня вчера,
когда рыбак товар раскинул,
собрал и вышел со двора.
Прощай, ночное посещенье!
Ступай, не сетуй на прием.
Будь ветра встречное теченье
наградой на пути твоем.
Мы взобрались до небосвода,
живем у рек, в степной дали,
в народе, в веянье народа,
в пьянящем веянье земли.
Мы лица трогаем ладонью,
запоминаем навсегда,
стихов закидываем тоню
и тащим красок невода.
В них лик отца и облик вдовий,
путь труженика, вешний сад,
пыль книг, осевшая на брови,
мегрельский тающий закат.
Всё это жизнь выносит к устьям,
но в жизни день не сходен с днем.
Бывает, рыбу и упустим,
да после с лихвою вернем.
Когда ж нагрянувшая старость
посеребрит нас, как рассвет,
и ранняя уймется ярость,
и зрелость сменит зелень лет,
36. Отара овец. Перевод К. Арсеневой
тогда, как день на водной глади
покоит рощи и луга,
так чувства и у нас в тетради
войдут и станут в берега.
1935
Я работал всю ночь,
а на раннем рассвете
шум и свист за окном
всполошили меня.
Я увидел – отара течет в Триалети,
ей откликнулась
Мтквари, волною звеня.
Площадь круглую всю запрудила отара,
стих оборван,
и больше не пишется мне.
Вспомнил прошлое: алые вспышки пожара,
вспомнил битвы в горах и отары в огне.
Шелковичной ли пряжею
площадь клубится?
Или облаком? Слышится посвист вдали.
Потянуло травой —
чебрецом, медуницей, —
это овцы дыханье полей
принесли.
В Триалети пастух направляется бодро.
Саламури звенит, как напев ручейков.
Он отару ведет
и в ненастье и в вёдро,
рассыпает в лугах,
как гряду облаков.
Окликает овец пастырь
с посохом длинным,
по росе Гареджийской горою кружит,
поспешает на выгон с расшитым хурджином,
и за ним неразумный ягненок бежит.
То потянутся тучки
над нивой веселой,
то колхозник пройдет
по тропинке рябой.
На пути пастуха гомонящие села,
и в глазах его
отсвет горы голубой.
Ветер в бурку закутав,
несет, как ягненка,
на пути никому не желая отдать.
И отара, как нива,
колышется звонко —
нашей мирной
грузинской земли благодать.
Если б шел я с отарой,
мой голос певучий
воспевал бы ее
и течение дней.
Проходили бы овцы
зеленою кручей,
саламури бы стала
утехой моей.
1940
ЛИРИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ
37. У озера. Перевод Г. Маргвелашвили
Над водой тростник склонился,
Тень на озеро легла…
Вдруг читателю на милость
Станет песнь моя легка?
Буду прост и односложен,
Всем доступен, скромен, тих,
И любой прохожий сможет
Отпереть ключом мой стих.
Буду славить горы, чащи,
Мудрость мастера презрев.
Что сказал бы мне мой пращур,
Неожиданно прозрев?
Прошуршал камыш, и аист
Взмыл по облачной тропе…
Может быть, в былом покаясь,
Так же просто мне пропеть?
38. Посвящение. Перевод М. Луконина
Опечален и рассержен,
Сам себе я стану мстить…
Ну, а сердце? Разве сердце
Мне в строку тогда вместить?
1937За городом
Когда расстанусь,
Кажется – растаю
Всем сердцем
в сердце маленьком твоем.
Из сердца твоего произрастаю,
Одной звездой волнуемся вдвоем.
Тогда спешу, чтоб ты не откололась,
Дарю тебе все отблески души.
Я всё боюсь – не потерять бы голос,
Твой голос —
Колыбель в моей тиши.
39. Старинные часы. Перевод Д. Самойлова
Мне в самом деле кажется и мнится —
Твое гнездовье в сердце у меня.
Ты молодости первая зарница,
И старость ты
До рокового дня.
Лето 1938
Когда в комнате сон, и на улице тишь,
и смолкают все звуки ушедшего дня,
ходят только часы, осторожно, как мышь,
окликают, зовут, будоражат меня.
Счет минутам ведут, или просто бегут,
или целят стрелою в рассвет золотой,
или цифрами время в осаду берут,
или круг обегают, как рог налитой.
Мои думы сливаются с ходом часов,
и минуты как четки – то нечет, то чет,
я сливаюсь с мерцаньем ночных голосов,
эта ночь, словно звездная песня, течет.
Ходом этих часов отмечались года,
с ними детство текло и рождалась строка,
и они, словно пульс, трепетали, когда
у отца моего остывала рука.
Они меряли жизнь, как теченье ручья,
были радостям вехой и мерой забот.
И мерцают они в тишине бытия,
и с природой самой согласуют свой ход.
Словно искры, минуты взлетают, легки,
и на струнах часов мирозданье поет,
по-особому ночью кричат петухи,
Млечный Путь надо мною густеет, как мед.
40. Снег. Перевод А. Межирова
Эту ночь проведут они вместе со мной
с глазу на глаз – их поступь легка и тиха —
и, минуты похитив из бездны ночной,
переплавят их в мерные строки стиха.
1938
У снегопада тоже почерк свой.
Бубенчик славит санную дорогу,
метель подходит к самому порогу, —
я рад сегодня гостье снеговой.
Причудливо, задумчиво и тихо
усталый дым чуть гнется на ветру.
Порхают хлопья. И метель-франтиха,
вся в белом, павой бродит по двору.
Как звезды, хлопья в воздухе повисли,
пробрался снег ко мне за воротник.
Как хлопья, кружат медленные мысли,
и речь природы льется, как родник.
Что мне еще в такое утро надо!
Ель, словно свечка, около окна.
Ловлю руками клочья снегопада,
на стеклах разбираю письмена…
Как я мечтал – пушинку снеговую
внести в твой дом, чтоб видела и ты
во всей красе игру ее живую,
холодный свет и трепет чистоты.
Хотелось мне, чтобы она, не тая,
перед тобой сияла в доме, как
январского простора мысль простая
или как проседь на моих висках.
Но от прикосновения к ладони
снег исчезает, словно от огня…
И я ни с чем пришел к тебе на склоне
январского завьюженного дня…
41. Ожидание снега. Перевод А. Кочеткова
Одна лишь нежность в сердце не растает,
она надежней снежной кутерьмы,
возьми ее – она перерастает
в любовь, с которой неразлучны мы.
1938
Скоро снег рассыплет чистый пух,
звездочками двор оденет скоро,
ночью окна разошьет узором.
Белый дед в ворота вступит вдруг,
звон саней осеребрит просторы,
поломает ветви снежный ворох,
лес застонет от холодных вьюг.
Ель, согнувшись под морозным даром,
доброй гостьей к нам войдет сама,
теплый островок найдет впотьмах,
тихо встанет рядом с самоваром.
Пусть взовьется на дворе зима, —
ель недаром красит нам дома
и с детьми беседует недаром.
Белоконных всадников лихих
под ветвями встретят наши дети,
и напомнит елка им о лете,
будет много звонких игр у них,
снова ляжет тишь на целом свете…
Звон саней в просторах неприметен,
шум дроздов над кровлями затих.
42. Воспоминание о деде. Перевод В. Державина
Лишь задремлет суета дневная —
весь в лучах, степенный пестрый кот
мимо ели медленно пройдет,
человечий гомон презирая.
Я же, утомленный от работ,
выйду за дверь, гляну из ворот —
в тишину оснеженного края.
1938
День новогодний. На ели нарядной
дед снеговой рядом с птичкою яркою.
Весело детям, и деду отрадно,—
прямо с мороза он – в комнату жаркую…
Кружатся дети вкруг еловых веток.
Дедовой шубой белеет долина.
Мнится мне: воспоминанье о летах
детства присело со мной у камина.
Воспоминание мне рассказало
сказку про деда: «А помнишь ли ты его?
Разве не светит тебе, как бывало,
белая лампа седой бороды его?»
…Детские думы мои, как ручей,
мчались, играли средь наших полей…
Дед мне сейчас как живой вспоминается;
тропку к воротам в сугробах топча,
он у дверей во весь рост подымается…
И промелькнул предо мной как свеча.
Он величаво скакал по дороге,
в зимнюю ночь потеплей укрывался
и в ожидании смерти, в тревоге,
в землю святую пойти собирался.
Ну, а пока – дичь с охоты он нашивал,
Саба Сулхана по памяти знал.
Миндией был он селения нашего
и городов больших не видал.
Снежные ль бури в долине ревели,
он тхиламури к подошвам привязывал.
По вечерам же играл на свирели
или же страшные сказки рассказывал.
…Помню: расширив глаза удивленные,
темные, словно озера бездонные,
передавал он нам, малышам,
жуткую тайну: болотные лешие
в ночь заплетают хвосты лошадям,
лошади же становятся бешеными…
Вновь он на елке в родимом дому,
смотрит на лампочек пестрых сверкание,
дети рассказывают ему
повесть о Чкалове и о Папанине.
43. «Юность, молодость, зрелость…» Перевод А. Межирова
Им Циклаури потом вспоминается,
что над Казбеком сияет вдали.
И Циклаури ведь тоже является
дедом детей нашей доброй земли!
1937
Юность, молодость, зрелость…
Лежит между вами граница —
краткий миг передышки,
смущенья и смутных забот.
Чаша ядом священным
еще не устала искриться,
но всё явственней сокол
усталую руку гнетет.
Этот миг наступил —
и сомненье меня охватило:
если пальцы мои
обожжет догорающий трут,
значит, пламя иссякло,
остались одни лишь чернила,—
но они без огня
на странице строку не зажгут.
Если свойства души
заключаются в пенье и плаче,
чтоб вернее раскрыть
эти свойства, подобно тому
как весенние почки
апрель раскрывает горячий,
оробелые руки
для исповеди подниму.
Руки робкие мастера!
Вам довелось потрудиться.
Как же вас подниму,
если крыльями сокол не бьет?!
Юность, молодость, зрелость…
Лежит между вами граница —
время тайных раскаяний,
смутных тревог и забот.
Это время пришло.
Снег валится всё гуще и гуще.
Он растает еще.
Но сегодня долина бела.
Я хочу, чтобы жизнь
уподобилась ниве цветущей,
чтобы нивой в цвету,
а не сломанной веткой была.
Сети трудных раздумий
в житейское море закину:
поздней ночью, в слезах,
я на милую землю пришел —
и поэтому с песней
подняться хочу на вершину,
как бы ни был мой путь
утомителен, долог, тяжел.
44. Песнь ручья. Перевод В. Бокова
О родная страна!
Дай росою твоей окропиться.
По распаханной ниве
твой сеятель с песней идет…
Юность, молодость, зрелость…
Лежит между вами граница —
краткий миг передышки,
смущенья и смутных забот.
1938
За самим собой в погоне,
Пел ручей на горном склоне,
Пылью радужною цвел,
Разговор открыто вел:
«Не ищу я зыбких истин.
Я – ручей. Я – бескорыстен.
Я затем хочу бежать,
Чтобы землю освежать.
Я бездомен. Я бродяга.
Вечный путь – моя отвага,
Мой недремлющий мотор…»
Пел и скатывался с гор.
И задумывался: «Небо!
Что-то дождь давненько не был,
Я твой сын, я твой гонец,
Силы мне прибавь, отец!
Я ручей, и я ручаюсь:
Дашь дождя – я не отчаюсь,
Буду прыгать по камням,
Помогать родным полям…»
Синеву закрыла туча,
Буркой землю нахлобуча,
Славный, добрый дождь упал.
«Я спасен!» – ручей кричал.
ПРОШЛОГОДНИЙ ДНЕВНИК
45. Первая приписка к книге. Перевод В. Державина
Вся рукопись, как россыпь лепестков,
как рдеющие угли, не простыла.
Я знаю мощь звенящей краски слов…
Но по ночам, за росписью стихов,
вдали я слышу пенье Автандила.
Как сладостно звучит оно в тиши
иль пламенно, с какою яркой силой…
Далекий друг поэта, подскажи,
как мне запеть подобно Автандилу?
Хоть этой ночью новая тетрадь
напевом налетевшим окропилась,
с картиной звук не мог я сочетать,
в единый строй она не заключилась.
Земли красою зримой я пленен,
листком в росе, яйцом в гнезде голубки.
И как бывает сумрак оживлен,
лишь огонек блеснет у деда в трубке!
А образ ищет голоса себе;
янтарным житом ток не так сиял бы,
когда б не пел, как бубен, в молотьбе
и тружеников песней не звучал бы.
И вот когда ты на палитре слов
смешаешь краски ярко и богато,
ты голос молодой своих стихов
проверь на слух читателя-собрата.
46. Тень отца. Перевод А. Тарковского
И если, щедрым сердцем порожденный,
в сердцах сумеет отклик он найти,
он будет жить, живыми повторенный,
в потомстве и, как Млечный Путь, цвести.
1946
Я не сплю. Я во власти тревоги.
Я послушен дождю за окном.
Ветер в двери! Отец на пороге,
В мокрой чохе он входит в мой дом.
Это сон. Это явь. Он в могиле.
Он мерещится мне в забытьи.
«Где ты был? Мы тебя не забыли.
Как промокли одежды твои!»
Он стоит, не скрывая обиды,
Опираясь на тот же костыль;
И по дому под ветром Колхиды
Дождевая проносится пыль.
Вот он кашляет глухо – он болен,
Воду пьет и чуть слышно потом
Говорит, что невесткой доволен,
Что моим он доволен жильем.
Опускаются влажные веки,
Растекаются капли дождя:
«Если дочь потерял я навеки,
Я измучусь, ее не найдя!»
«Погляди на меня, – я отвечу, —
Я в слезах пред тобою стою.
Думал я, ты готовишь ей встречу
Там, в твоем безымянном краю.
Чоху высушим, в нарды сыграем,
Отдохнешь у меня наконец.
Ничего, мы ее повстречаем.
Стол накрыть разреши мне, отец!»
47. Мечты отца. Перевод М. Луконина
Но отец мой уходит из дома,
Слышен капель томительный звон —
И меня покидает истома,
Принесенный дождем полусон.
1940
Я песней утолю печаль свою.
Отца я помню, наш очаг, беседы.
Боялся он за нас:
Обиды, беды
Мерещились ему
В чужом краю.
Он становился пепельным не раз,
Хотя и слышал, кто они, студенты.
Глаза то вниз глядят,
То вверх воздеты,—
Он всё мечтал, переживал за нас.
Он пел и говорил о том же самом.
Как Диккенс, на рассказы был мастак.
Была ему отчизна вечным храмом,
Амвоном —
Трудовой его верстак.
Студенчество он понял из молвы.
Ему вокзалы виделись,
Вокзалы,
Мечты его, как бы мосты,
связали
Селенье наше
С берегом Невы.
В дорогу подбивая башмаки,
Он думою о сыне жил тревожной,
Тоской томился
Железнодорожной,
Вокзалы мнились, слышались звонки.
Пыль книжная запорошила белым
Его густые брови.
И с тех пор
Он видел меня горным инженером,
Проникшим в тайны белых наших гор.
Чтоб нищета ушла – ему хотелось,
Чтоб я земные отыскал дары,
А там, в горах, меня догонит зрелость
И поведет меня в нутро горы.
Я был ошеломлен звучаньем встречным,
Меня увлек
Мир звуков и тревог.
Мечта отца Путем осталась Млечным,
Никак его осилить я не смог.
Ветрами всех материков обдутый,
Нашел дорогу в горы, да не ту.
И жизнь моя
Любой своей минутой
Так не похожа на его мечту.
48. Моя мать. Перевод А. Межирова
И всё же – это он. Его заветы.
Мой стих запомнил заповедь отца.
Вставай скорей,
Громи людские беды.
Входи любовью в горы и сердца!
1940
Молодой, молодой угасала она.
Всё трудилась без сна, не щадила красы.
Как вечерняя зорька, тиха и грустна,
в нежном золоте незаплетенной косы.
Простояла над люлькой последние дни.
И ушла. И черты потонули в тени.
О, какие я должен затеплить огни,
чтоб могильную тень разогнали они!
Мама, тени могильные злы и густы.
Мне осталось в колодезь глядеть с высоты, —
в эту воду, наверно, глядела и ты,
на поверхности запечатлевши черты.
Может, пламя, что здесь в очаге занялось,
это отсвет твоих золотистых волос?
Может, дымка затейливо вьющихся лоз —
это твой поясок… Я не вижу от слез.
49. Рожденный из крепостной стены. Перевод А. Межирова
Мама! Речи твои я на память прочел,
чтоб не рвалась надежды подаренной нить.
Словно улей, хранящий жужжание пчел,
я твой голос далекий умею хранить.
1940
О мать – надежда моя, ты твердыня моя!
Народная поговорка
Я был замурован в стене крепостной.
Развалины эти меня родили.
Упал со стены я на берег речной,
лежал у подножья в холодной пыли.
И плакала матерь-стена в вышине.
И встал я в рубахе из диких плющей,
и слезы и пот утирал я стене —
горячих страданий горючий ручей.
И крикнул я крепости: «Благослови!
Открой ворота бытия моего!
Я сын твой!.. Хоть жажду я новой любви,
меня не смущает такое родство!
В Сурамской твердыне для дел я созрел,
Хертвисская башня хранила меня.
Их ласковый мох мое тело согрел,
и тесаный камень сберег от огня.
Грузинская крепость меня родила.
Я к стенам ее до рожденья приник.
Над глиняным сердцем рассеялась
мгла,
оно превратилось в звенящий родник.
Доверился родине я, как Зураб,
и вздрагивал долго в могучей стене.
Но камень от слез бесконечных ослаб, —
я рухнул к подножию по крутизне».
50. Вторая приписка к книге. Перевод А. Межирова
Немая твердыня глядит с вышины,
своей материнской любви не тая.
Новыми песнями высушу я
извечные слезы сурамской стены.
1935
Я возвращаюсь
в отчий край,
домой,
и, если спросит у меня попутчик,
где мой очаг,
где дом родимый мой,
отвечу я, что возле гор могучих.
Скажу, что он стоит в тени чинар,
что до Куры
могу достать рукою,
что здесь я жизнь когда-то начинал
под сенью гор,
над серою рекою.
Мне из окна открытого видна
встающая далеко за горами
безбрежной Волги ясная волна,
и гомон Сожа
слышен мне на Храми.
Я знаю —
ограничивать нельзя
свой кругозор условностью предела;
хочу, чтоб вечно множились друзья,
чтоб чувство дружбы бесконечно зрело.
Я сам, как Терек,
не жалея сил,
прошел ущельем по дороге длинной,
свои глаза к простору приучил,
к необозримой широте долинной.
Передо мной Казбек в голубизне
красу возносит над природой всею.
Как надо жить,
чтоб дотянуться мне
и до Арагви и до Енисея!
Парит орел над снежной синевой,
и, долгим взглядом провожая птицу,
я безграничным
край считаю свой,
как всей советской родины частицу.
Меня простор волнует и зовет,
мне дом любой
открыт по праву дружбы,
я слышу дома
шум днепровских вод
к на пути далеком
вижу тень от Ушбы.
В душе звучит многоголосый хор —
так дружно никогда еще не пели!
И песня для пятнадцати сестер —
в пятнадцати ладах моей свирели.
51. «Нет, одному невесело поется…» Перевод Е. Евтушенко
И ветер гор
в порыве молодом
вслед за Курой торопится к предгорьям,
все двери настежь
в мой просторный дом
он распахнул перед Московским морем.
1940
Нет, одному невесело поется.
Прошу я жизнь, чтоб друга мне дала.
Мне песня в одиночку не дается.
Мне для полета надо два крыла.
Дай мне крыло! От лести и нападок
друг друга мы крылами защитим.
Рабочее понятие «напарник»
к высокому искусству приобщим.
52. «Стихи начать – как жизнь построить снова…» Перевод А. Тарковского
Дай мне крыло! И от меня потребуй
мое крыло… И – вместе в вышину!
Пусть внук услышит наших крыльев трепет
и боль двух песен, слившихся в одну!
Стихи начать – как жизнь построить снова,
и не могу я разгадать черед
живых приливов и отливов слова,
хоть душу мне зародыш песни жжет.
Что стоит стих, с которым из гортани
душа не хлынет? На его призыв
не отзовется горных вод журчанье,
цветок не вздрогнет, венчик приоткрыв.
Скажи мне, песня, что твоя основа?
Отрада ближних, боль от ран моих,
дождь – воспитатель хлеба золотого —
или туман в морщинах гор седых?
Рябь на воде? Плоты на синей глади?
Дыханье сена, сметанного в стог?
Иль у моей единственной во взгляде
за огоньком бегущий огонек?
Начать стихи не легче, чем сомненья
стереть – сплошную ржавчину с души,
в кустах найти кольцо, в одно мгновенье
звезду избрать (все в небе хороши).
53. Работа. Перевод Б. Пастернака
Нет во вселенной силы непреклонней
мечты, взращенной сердца глубиной.
Стих – это ладан тлеет на ладони,
стих – это юность спорит с сединой.
1957
Настоящий поэт осторожен и скуп.
Дверь к нему изнутри заперта.
Он слететь не позволит безделице с губ,
не откроет не вовремя рта.
Как блаженствует он, когда час молчалив!
Как ему тишина дорога!
Избалованной лиры прилив и отлив
он умеет вводить в берега.
Я сдержать налетевшего чувства не мог,
дал сорваться словам с языка,
и, как вылитый в блюдце яичный белок,
торопливая строчка зыбка.
И, как раньше, в часы недовольства собой —
образ Важа Пшавела при мне.
Вот он сам, вот и дом, вот и крыша с трубой,
вот и купы чинар в стороне.
И, как к старшему младший, застенчив и нем,
подхожу я к его очагу
и еще окончательнее, чем перед тем,
должных слов подыскать не могу.
Я ищу их, однако, и шелест листа
пробуждает под утро жену.
Мы читаем сомнительные места.
Завтра я их совсем зачеркну.
54. Гнездо ласточки. Перевод Б. Пастернака
И начальная мысль не оставит следа,
как бывало и раньше раз сто.
Так проклятая рифма толкает всегда
говорить совершенно не то.
1940
Под карнизом на моем балконе
ласточка гнездо проворно вьет
и, как свечку в выгибе ладони,
жар яйца в укрытье бережет.
Ласточка искусней нижет прутья,
чем иглой работает швея.
Это попеченье об уюте
сказочнее пенья соловья.
Может быть, помочь мне мастерице?
Я в окно ей кину свой дневник.
Пусть без связи выхватит страницу
и постелет, словно половик.
Даже лучше, что, оставшись втуне,
мысль моя не попадет в печать.
Пусть она у бойкой хлопотуньи
не шутя научится летать.
И тогда в неузнанном обличье
грусть, которой я не устерег,
крыльями ударивши по-птичьи,
ласточкою выпорхнет из строк.
Не летите прочь от нас, касатки!
В Грузии вам ласка и почет,
четверть века вскапывали грядки,
почки набухают круглый год.
Грузия весь год на страже мая,
в ней зима похожа на весну.
Я вам звезд на гнезда наломаю,
вас в стихи зимою заверну.
Режьте, режьте воздух беспредельный,
быстрые, как ножниц острия!
Вас, как детство, песней колыбельной
обступила родина моя.
Что же ты шарахаешься, птаха?
Не мечись, не бейся – погоди.
Я у слова расстегну рубаху
и птенца согрею на груди.
1940








