Стихотворения и поэмы
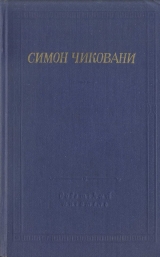
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Симон Чиковани
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
Ты шла в платье пыльном… Я помню, как было:
Твой голос повел меня горной тропою,
На кровле широкой мы встретились, Дзила,
На гребне горы я расстался с тобою.
И снова пришел я дорогой неблизкой.
Но, Дзила, досуг ли встречать стихотворца?
Ведь ты возглавляешь село, коммунистка,
Наездница, дочка хевсурского горца.
На кровле широкой тебя подожду я.
Сиянье рассвета холмы озарило.
И впрямь не хевсур ли! Сестру молодую
Я здесь поджидаю, рошкинская Дзила!
Тебя не узнаешь! Ты взрослою стала,
С хевсурскою скромностью, чуждой прикрасам,
Ты мне о поездке в Москву рассказала,
Я жадно следил за правдивым рассказом, —
Как видела город глазами горянки,
Порхала по выставке горлинкой дикой,
Хевсурские тесные ваши полянки
Невольно сравнив с этой ширью великой,
Ты вдруг загрустила о родине горной,
Вернулась, и, светлой тревоге поверя,
Ты серое платье с каймою узорной
Сняла и повесила около двери.
Пусть ветер шуршит этой грубою тканью,
Пусть выдует жгучую горечь полыни:
Отжившее зашелестит одеянье
О горе, которого нет и в помине.
Лишь пеструю шапочку ты сохранила
Да рыжую челку, и, ветра быстрее,
На диком коне ты проносишься, Дзила,
Под тучами птицей бестрепетной рея.
В полете стремительном дышится шире…
Все девушки здесь, все рошкинки такие.
Придет к вам народный сказитель шаири,
Старик, он о многом услышит впервые.
Услышит рассказ твой, душой молодея,
И, сняв со стены закопченный пандури,
Он струны встревожит рукой чародея,
И звонкие горлинки взмоют в лазури.
Но кто же он? Кудри седые похожи
На облако над головою Казбека.
Он струны доводит до песенной дрожи,
Огонь пробуждает в душе человека.
Умолкнул, и трубка в зубах задымила.
Деревья шумят, как бегущие воды.
Лишь стихшую песню подхватишь ты, Дзила,—
Пред нами раскроется книга природы.
1940
ВЕЧЕРА В КОЛХИДЕ
21. Мегрельские вечера. Перевод Б. Пастернака1
Уже полсолнца в море. Так олень,
бросаясь вплавь, по грудь уходит в воду.
Но тополя мегрельских деревень,
как девушки, толпою ждут захода,
наряженные в шелест во весь рост.
Когда закат весь пурпур свой засолит,
он из-за брызг седых морских борозд
по розе к каждой ма́кушке приколет.
С мотыгами стоят крестьяне в ряд.
И, до зари не нашумевшись вдоволь,
трепещущие тополя стоят.
Что дом – то двор, и сумерки, да тополь.
Бывало, состязаясь с соловьем,
под тополя такие звал я музу.
Теперь не то: не тополь воспоем —
засеянный гектар под кукурузу.
Передвигаясь по его ковру,
колхозники в поту поют «Надури».
«Надури» было дедам по нутру
и нам в работе, дружной по натуре.
Лишь соловей, усевшись вдалеке, —
единоличник в доле щекотливой, —
трещит вовсю на сливовом сучке,
весь истекая мленьем спелой сливы.
Приморский ветер остужает грудь
певца с огнем неугасимым в зеве,
и руки вместе силятся сомкнуть
разросшиеся тени и деревья.
В сторонке, злобы доверху полна,
клянет старуха век, что так напорист,
и, отгоняя дали с полотна,
вдали на всех парах проходит поезд.
2
Своя печать на всем вечернем есть.
Осмысленней с полудня солнца пламя.
Закат, как свеженачатую десть,
исписывает ширь полей лучами.
Испариною вяжущей маис
мог оттянуть бы час повечеренья,
но полем с моря ходит легкий бриз,
и вечер в ветре входит в испаренья
и входит в лес. И он шумит вверху
о старине и жалуется с дрожью:
«Не чтут межи, обидели соху».
Вдруг, изогнувшись, тополь помоложе
выбрасывает ветру вслед аркан.
Напрасный труд – времен не остановишь.
Но целый лес, поддавшись на обман,
встает за ним толпой, как на чудовищ.
«Накрывшись общей шапкой облаков,
куда вы строем ломитесь отсюда?
Давайте людям топливо и кров,
служите нам, не то вам будет худо».
А лес в ответ: «Что толку от машин?
Порубленные рощи, рельсы, шпалы.
Баклан, где сесть, не сыщет мочажин,
по росчисти сквозной летя устало.
Осоки обезводевшую топь
обвоют овдовевшие лягушки.
И паровоз, вдали рассыпав дробь,
приблизившись, обдаст дыханьем пушки.
Косяк гусей взметнется в вышину.
До Очамчир идет пути прокладка
по жидкому когда-то зыбуну.
Кому-кому, а нам ничуть не сладко».
3
Пастух пригнал быков на водопой.
Речное устье клином входит в море.
Топ по мосту, мычанье, разнобой.
В деревне рядом – скрип ворот в затворе.
Со дна реки на водяную гладь
всплывает перевернутое стадо.
Прощай тенями стланная кровать, —
ходи кругом, когда уснуть бы надо.
Гоня валы теченью вперекор,
плывут быки. Звон колокола дальний
сквозь дальний лай собак зовет на сбор,
и плеск стоит в тенями стланной спальне,
С такой природы пахарь бы хотел
сорвать небес и облаков лохмотья,
чтоб телом всем обнять ее предел
и покорить, поспорив с ней в работе;
чтоб вывесть ночь в просторы без болот,
как буйволов. Слепней сгоняя с лядвей,
уже в деревню с ревом входит скот,
мыча как бы об августе и жатве.
22. Гидроплан и садовник. Перевод В. Державина
Нисходит ночь. Звезды вечерней ртуть
зазыбилась. Такая тишь в просторе,
что страх дохнуть. Такая тишь, что жуть
встревожить поседелый мрамор моря.
Лишь всплеску ненасытному не лень
сосать песок. Лишь тополя предгорий,
как девушки мегрельских деревень,
толпясь вдали, спокойно сходят к морю.
Такая ночь. Так вольно. Час такой.
Теперь дано обняться в единенье
звезде и лесу с пеною морской.
Природе, натерпевшейся гонений,
отныне обещается покой.
В смарагды моря падают сапфиры,
как будто ночь блаженной вязью слез
связала сноп из всех сокровищ мира.
Вдали вдоль моря гонит паровоз.
1933
Песню услышали мы в отдаленье,
медленно двигались наши челны
под колыбельное, полное лени
пенье утихшей озерной волны.
Гулкой трубою пропеллера грянув,
с озера плавно взлетел гидроплан.
Мысль понеслась за крылом гидроплана
сквозь исчезающий тонкий туман.
С чувством отрады я вспомнил о друге —
сыне Колхиды, ведущем корабль.
Крылья раскрыв, как громадные руки,
тенью покрыл он озерную рябь.
Как расцвела эта даль перед нами
с зарубцевавшейся язвой болот!
Вымощен пламенем, заткан тенями,
падает вечер на зеркало вод.
Вижу колхозников здешних владенья,
рощи подернула теплая мгла.
И шевельнулось во мне сожаленье,
что моя юность не с ними прошла.
Но, я подумал, на берег сойду я,
и от росы будут ноги мокры.
Снова я радость найду молодую,
свежесть и цвет невозвратной поры.
Бурей уходит от нас лихорадка.
Благоуханьем просторы поя,
вышла из топей к народу и сладко
розой раскрылась Колхида моя.
Сколько наград за усилия наши!
Вот садоводы обходят сады.
Как золотые тяжелые чаши,
в руки из рук переходят плоды.
Пестрый, как шкура тигровая, вечер
светом и тенью ложится на луг.
Сельский садовник идет нам навстречу,
птичьим пером застегнув архалук.
23. Вечер в Колхиде. Перевод Н. Заболоцкого
Он гидроплана следит повороты,
с гордостью взглядывая на гостей.
Он, словно книгу, читает природу,
чтоб богатели сады у людей.
1937
Я видел вас, колхидские сады,
был вечер ваш похож на шкуру барса,
катился с моря тихий шум воды,
вдоль по дороге юный всадник мчался.
Уж посинели выступы холмов,
тень от платанов вытянула плечи,
лучи заката на рогах быков
горели, пламенея, словно свечи.
И речь садов доступна стала мне.
Неслась река, ворочая каменья,
и труженица пчелка в тишине
работала над чашечкой растенья.
И я следил, мегрелка, за тобой,
в тени листов ты – украшенье сада!
Как хороша ты сделалась собой,
луна небес, души моей отрада!
Зачем же ты глядишь из-за плетня?
Ужель тебя подстерегла измена?
Нет, верен друг, он в Поти мчит коня,
он там на скачках будет непременно.
Среди друзей помчится молодец,
из-под копыт взлетят метеориты,
чтоб выпала победа наконец
ему – посланцу солнечной Колхиды.
Смуглянка гладит цитрусовый плод,
ласкает листья тучного инжира.
Она сама – участница работ
на благо расцветающего мира.
Она теленка треплет по спине,
но мысль о друге не дает покоя,
и стан ее, как тополь при луне,
вздымается, колеблясь над тропою.
Среди недавно созданных пород,
весь в белых пятнах солнечного света,
могучий Кварацхелия идет,
одетый в чоху праздничного цвета.
Быки над ним рога взметнули ввысь,
но он смеется – всё ему веселье!
А тени потемнели и слились,
и сельские ворота заскрипели.
Закрылись мглою выступы холмов,
трава покрылась жемчугом далече,
лучи заката на рогах быков
сияют, догорая, словно свечи.
Услышу я чонгури нежный звук,
сольюсь, исчезну в воздухе пустынном,
и застегнет мегрельский архалук
седой пастух пером своим гусиным.
24. Раковина. Перевод Н. Тихонова
Он девушке подтягивать начнет,
судьбу страны приветствуя с волненьем,
и вся Колхида, весь родной народ
ответят песне радостным гуденьем.
1937
Смотрю на раковину белую,
что с детских лет знакома мне.
Она как малый лебедь онемелый,
колхидский лебедь, спящий на спине.
А на столе пред лебедем точеным
блестят очки средь вороха теней,
и у окна тень книжницы ученой —
спокойной, мудрой бабушки моей.
Когда переставал строптивый ветер,
входила черной ночи суетня,
ее я слушал, всё забыв на свете,
у тихого мегрельского огня.
В приставший к раковине пепел
смотря, под лампою большой
следил я сказки длинной лепет,
Рионом вдруг шумевший над душой,
про жизнь и пламень Амирани,
про дикий плен, где вся во льду гора,
как в море пепел утром ранним
был брошен от его костра.
И Гуриэли с Гугунава четко
за сказкой стих певали свой,
плетеный стул скрипел, был слышен четок
янтарных старых тихий перебой.
Морскую пепельницу брал я
и слушал, ухо важно приложив,
как зыбь морская в ней играла,
пространство ночи бурей освежив.
Частицей настоящей бури,
чуть слышным ветром у плеча
в тигровой раковинной шкуре
гул моря пленный мне звучал.
Я, удивляясь, спрашивал с тревогой:
зачем стихий частица чуть жива
и заперта природой строгой,
чтоб только в ухо тихо колдовать?
Мне бабушка ответила: тревожит
она лишь в комнате людей,
сам Амирани снится ей, быть может, —
так море завещало ей.
Чтоб гостью моря больше я не слушал,
ее сослали просто на чердак,
но зиму всю, мою тревожа душу,
сквозь сон мне гул ее рыдал.
В ту зиму выпал снег огромный,
когда совсем ты, бабушка, ушла…
Но память над могилой снежной, скромной
твоими всё рассказами жила,
засыпана осколками сказаний,
полна твоих сверкающих легенд…
И вот над старым миром Амирани
воскрес и сбросил древний плен.
25. Морская раковина. Перевод Б. Ахмадулиной
Колхиды блеск в садах над морем —
и раковина на моем столе
как память детства о просторе,
мегрельском ветре на земле.
1937
Я, как Шекспир, доверюсь монологу
в честь раковины, найденной в земле.
Ты послужила морю молодому,
теперь верни его звучанье мне.
Нет, древний череп я не взял бы в руки.
В нем знак печали, вечной и мирской.
А в раковине – воскресают звуки,
умершие средь глубины морской.
Она, как келья, приютила гулы
и шелест флагов, буйный и цветной.
И шепчут ее сомкнутые губы,
и сам Риони говорит со мной.
О раковина, я твой голос вещий
хотел бы в сердце обрести своем,
чтоб соль морей и песни человечьи
собрать под перламутровым крылом.
И сохранить средь прочих шумов милый
шум детства, различимый в тишине.
Пусть так и будет. И на дне могилы
пусть всё звучит и бодрствует во мне.
26. Песня влюбленного рыболова. Перевод В. Бокова
Пускай твой кубок звуки разливает
и всё же ими полнится всегда.
Пусть развлечет меня – как развлекает
усталого погонщика звезда.
1937
Тигрица моя, не игравшая с тигром,
Тростник мой, нетронутый и тонконогий,
Хотел я к тебе, но к непойманным рыбам,
Как волны, пошел голубою дорогой.
Решил я, что невода ставить не надо.
Что в рыбе? Холодная кровь с чешуею.
Мне снится сегодня другая отрада —
Хочу я попасть в этот невод с тобою.
Мне тень от ветвей и деревьев – ресницы
Твои! Все другие не стоят сравненья,
И даже лучи у луны белолицей
Не так хороши и достойны забвенья.
Мне только что чайная роза сказала,
Что ты над бутоном над чайным склонялась,
Мечтательно веточку чая качая,
Сама в этот миг чистотой наполнялась.
Взорлила душа моя и полетела
К прекрасной, наполненной жизнью долине,
К пыланию чистого женского тела,
К судьбе неизбежной, к своей половине.
Наказывал я тебе с чайною розой,
Что сад мой, собранье зеленых наречий,
Отныне без нашей любви невозможен,
Он бредит, как я, ожидаемой встречей.
27. Песня покинутого рыболова. Перевод В. Бокова
Неистово, яростно землю копытит,
Грызет удила и волнуется конь мой,
Сказать не дано ему, только он видит,
Какой рыболов красотой твоей пойман!
Мое гнездо меня гнетет —
Любимая его покинула.
Сеть рыболовная зовет:
«Скорей, скорей в реке топи меня!»
Иду. Вода ревет в ночи,
Колотится в утес неистово,
Пасутся лунные лучи,
Разгуливает форель пятнистая.
Уверенно закинул сеть,
Тяну, надеюсь и загадываю,
И, как в махорочный кисет,
В мотню намокшую заглядываю.
А там форель. Она точь-в-точь
Как серебро, еще прохладнее.
Любовь моя темна как ночь,
А ревность – даже непрогляднее.
Форель моя стройна, как ты,
Но вот она из рук выскальзывает,
На миг один из темноты
Мне, как насмешку, хвост показывает.
28. На озере. Перевод В. Державина
Безмолвны руки, сеть мокра.
Лишился я того, что дорого.
А ночь из лунного шатра
Меня охватывает холодом.
Ветер улегся, но зыбь, еще хмельная,
Лодку мою подымала с разбега.
Волны шумели, как песнь колыбельная,
И освежали грудь человека.
На берегу, как чудес провозвестники,
Встали деревья стеною зеленой;
Эти – как сабли, а те – как наездники,
Высились в небе их светлые кроны.
Вот уже солнце вечернее бросило
В борт корабельный шлепки позолоты,
Давние дни мне напомнило озеро —
Детство и двор наш у края болота.
Там я мечтал – над просторами водными
Новым Колумбом помчаться отважно.
Вспомнились ранние детские годы мне —
В луже плывущий кораблик бумажный,
Там башмачок, у бабки украденный,
Воображал я фрегатом-громадиной…
К нам издалека, сильны и легки,
Двигались лодки по зыби шумливой;
Эти – как с тонким крылом башмаки,
Те – словно лошади с пенною гривой.
К дому везли мы изрытый водой
Камень, из озера поднятый нами.
Виделся профиль на нем молодой,
Вился трехтысячелетний орнамент.
Камень рассказывал нам, что на дне
Озера город лежит в глубине;
Там, где над черной священной дубровой
Высился, словно под шкурой тигровой,
Дуб в золотом драгоценном руне.
… Мчался корабль с кормою крутою,
Вымпелом вея из темноты.
Взяли пришельцы руно золотое,
Чтобы Колхиду лишить красоты.
Скрылся корабль в черноморской дали,
Ветры нас пылью потом занесли;
Топи болотные, тяжко вздыхая,
Стали владыками нашего края;
И, дочерей из домов похищая,
Их на продажу корсары везли…
Эту легенду мне передала
Бабушка – мы у камина сидели.
Болью, как угли, сердца в нас горели,
Медленно, тихо беседа текла,
Чем-то с природою схожа была
Наша беседа… Камин догоревший
Слушал, разинув мечтательно рот.
Бабушка молвила: «В осиротевшей
Старой Колхиде лишь буря поет…»
И, как на озере челн в непогоду,
Ветер качал нашу свайную оду.
1937
ЗДЕСЬ Я ИСКАЛ ЗНАКОМЫЕ МЕСТА
29. Садовник. Перевод Н. Заболоцкого
В дремотных трущобах колеблется ключ,
зима, затуманясь, уходит отсюда,
но почки еще не прозрели покуда
и теплые ливни не хлынули с круч.
Весною садовник прилежен к труду.
Сын Картли, он полон любови к отчизне.
Он хочет, чтоб первое яблоко жизни,
как зарево, вспыхнуло в нашем саду.
Как карта, в морщинах сухая ладонь,
на ней отпечатались корни растенья.
Как трут, она дышит. Он полон терпенья,
чтоб высечь соцветий волшебный огонь.
Ножом расщепляя побег молодой,
он надвое делит древесные ткани.
И, выбранный плод прививая заране,
две жизни стремится зажечь из одной.
И саженцы любят его всё нежней.
Они как ребята из детского сада.
Он их переносит туда, куда надо,
он их бережет, словно малых детей.
Он мира живого творит уголок,
ему вручена созиданья частица.
Готова природа ему подчиниться,
чтоб он насладиться плодом ее мог.
И встанут над садом, как сладостный дым,
соцветия персиков, спутников лета,
и крик петушиный из горла рассвета
прорвется и грянет, ликуя, над ним.
Он дерево лепит, как лепят кувшин,
он влагой его наполняет весенней.
Мой славный соперник, он всё вдохновенней,
он в деле своем достигает вершин.
30. Берега. Перевод В. Державина
А в небе уже догорает закат,
и движутся тени под ветками сада,
и бродит садовник в сиянье заката —
полезных деревьев творец и собрат.
1940
Солнце в воду вонзается косо;
как топазы искрится река;
в волнах по пояс, каменотесы
укрепляют ее берега.
Еще трудно волнам, еще тесно.
Но ведь скоро наступит пора,—
словно чувства, внедренные в песню,
шелестя, распрямится Кура.
Тополевой толпой окруженный,
берег ярко горит ввечеру.
И Тбилиси стоит, погруженный
в солнце, в летописи и в Куру.
Ты поглубже вглядись в эти воды,
пылью влаги лицо освежи
и прозрачную мудрость природы,
как ребенка, с душою сдружи.
И стихи мои плещут, как птицы,
бьет заря им в тугое крыло,
где ударники нашей столицы
прорубают столетьям русло.
31. Весна («Ты выходишь на берег тбилисский…»). Перевод В. Державина
Их приветствуют шумные листья
тополей в водяном серебре.
И в сказаниях тонет Тбилиси,
в испареньях Куры и в заре.
1935
Ты выходишь на берег тбилисский,
где балконы висят, как карниз.
Стаи ласточек кружатся низко,
ищут гнезд, где они родились.
Так завистливо смотришь один ты,
как летают стрижи над рекой.
Вот уж солнце по краю Мтацминды
величаво идет на покой.
Тополя поднялись над Курою,
как гонцы из прошедших веков,
свежий шелест их родственен строю
и напеву грузинских стихов.
Лишь Мтацминда прижмет на прощанье
солнце к каменной груди своей,
вновь умчат меня воспоминанья
к Самегрело – отчизне моей:
вспомню буйвола в зарослях сонных
и над кровлею – тополь седой,
где обиженный кем-то ребенок
плакал, спрятавшись в купе густой;
крики ворона в дымке небесной,
соколиный полет на ветру,
о Риони старинную песню
и забытую детства игру.
Но там сушат болотные топи,
здесь крепят этот берег крутой.
Я хотел бы шуметь, словно тополь,
и витать, словно мысль, над Курой.
32. Тбилиси после дождя. Перевод В. Державина
Как корзинки, сплетенные плотно,
сотней пепельниц у потолков
гнезда лепятся. Ласточки сходны
в этот день с мастерами стихов.
1935
Напоивши и землю и зелень,
миллионом бубенчиков дождь
прогремел. Лишь на дне у расселин
влажный след его в полдень найдешь.
Капли рушатся с кровельки низкой.
Разминаясь, шумит горячей
величавый осокорь. И в брызги
разлетается быстрый ручей.
И в Куру, словно скал славословье,
низвергается пенный каскад.
Кровли – словно омытые кровью,
как щиты после боя, – блестят.
Глубже гул городской в последождье.
Мягче окрик трамвайных звонков.
А из лужиц, подернутых дрожью,
блещут снегом клочки облаков.
Всюду капли остались на листьях,
словно шумного пира следы.
Подымаются, как альпинисты,
на Мтацминду дома и сады.
В каплях стекла распахнутых окон,
и в тени не просох еще двор,
я люблю уноситься далеко —
в освеженный грозою простор.
Тучкой, в скалах застрявшей, плененный,
я люблю меж каменьев скользить
быстрой ящерицею зеленой
и одежду на солнце сушить.
Я пройду вдоль кварталов растущих, —
тихой думой объяты они.
Вновь Кура, словно радуга в тучах,
предвещает погожие дни.
Воздух зябко дрожит, словно полный
кокон, в сумрачных и голубых
пропастях. И, подобием молний,
горы врезываются в мой стих.
В облаках – ястребиных кочевьях —
величаво пропеллер пропел.
Вечереет, и вновь на деревьях
клейкий сок, как кристалл, затвердел.
Уж на отдых к далекому дому
солнце тихо сошло с высоты.
Юный день ожидает парома
на другом берегу темноты.
33. Тбилисская ночь. Перевод Е. Евтушенко
Я иду над Курою. Сверкает
влажный камень в редеющей мгле.
И заря над горой возникает,
день чеканящая на земле.
1935
34. Тбилисский рыбак. Перевод Б. Пастернака
Я возвращаюсь.
Возвращаюсь мимо
пяти мостов, что над Курой висят,
и на меня собаки лают мирно,
а иногда и лаять не хотят.
Спят памятники,
дремлет старый садик,
и магазины в сон погружены,
и на горах не видно старых ссадин —
да мне и сами горы не видны.
Всё спит спокойно,
углубленно, строго,
завидным сном —
рабочим крепким сном,
и только неоконченные строфы
не спят в квартире на столе моем.
Да вот идет навстречу сторож старый.
«Который час?»
Да,
а который час?!
Высокий, величавый
и усталый,
идет он, сединой своей лучась.
И слышат сквозь дремоту скверы,
парки
и лавки под охраною замков
спокойное постукиванье палки
и поступь этих тяжких башмаков.
Идет он.
На плечах желтеют листья.
Идет он
как отец и как судья.
И кажется мне, будто бы Тбилиси
обходит этой ночью сам себя.
И я ходить, как сторож, не устану,
по переулкам дремлющим кружа.
Я твой, Тбилиси,
как твои платаны,
твои мосты,
базары,
сторожа.
Гляжу я на туманные строенья,
не отвожу от них счастливых глаз…
Который в мире час?
Час вдохновенья.
Горчайший час,
сладчайший час…
1939, 1955
Когда в Тбилиси ночь приходит
и тянет холодком с Куры,
он с рыбою живой обходит
передрассветные дворы.
Блеснет ли где ночник из щели,
он – с солнцем к окнам кладовой,
как будто сверх речной форели
торгует зорькой весовой.
Когда в подставленную кадку
летит покупка, как в Куру,
он вам поверит без задатка,—
он не купец, а гость в пиру.
И вновь он шествует и шарит,
не пьют ли с ночи где-нибудь.
Найдет – и ястребом ударит,
к столу прокладывая путь.
Шум, хохот, голос толумбаша,
и весь на взводе, как курок,
рыбак встает с заздравной чашей,
подбросив шапку в потолок.
Пока он пьет, от чувств прилива,
как рыба проданная, нем,
она, как тост красноречивый,
горит и ходит телом всем.
А уж лучи, как в полдень, жгучи,
и, их не ставя ни во что,
вздымает ветер пыли тучи,
клубя их, как штаны кинто.
Валится с ног, вернувшись в хату,
рыбак, недавней встречей пьян,
и спит… и видит челн дощатый,
речную зыбь, ночной туман.
1935








