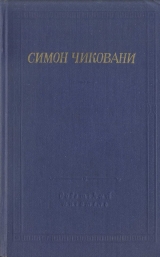
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Симон Чиковани
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)

СИМОН ЧИКОВАНИ
СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ
Симон Чиковани. Вступительная статья Г. Л. Асатиани и Г. Г. Маргвелашвили
«С юношеских лет меня влекло к дорогам – близким и дальним, – писал Симон Чиковани уже на склоне своих лет. – Я пешком обошел почти все уголки Грузии. Много путешествовал по братским республикам. Тема дороги органически вошла в мою поэзию. Мои стихи о России, Украине, Армении – лирическое выражение этой близкой моему сердцу темы. Дорога для меня, однако, понятие более широкое, чем это непосредственно подразумевается самим словом. Об этом у меня сказано стихами:
Образ дороги стал сквозным лирическим образом в творчестве многих выдающихся советских поэтов поколения Симона Чиковани, символизируя и неуклонное продвижение вперед, и поиски новых путей к человеческим сердцам.
Главное заключается в том, что поэт всегда сознавал преемственную связь с вековечной традицией грузинской поэзии, образно выраженной в «беге» сказочного коня Бараташвили, с традицией покорения новых рубежей, широкого, полноценного поэтического самоутверждения во всечеловеческих масштабах, с традицией всегдашней устремленности к грядущему:
…Где конь мой Мерзни ныряет в метели
в безжалостной жадности к будущим дням.
(«Дорога»)
В основе такого сознания лежит и глубокая вера в несметность сил и красок выражаемого поэтом мира, той национальной действительности, которая, по его словам, вмещает в себе «отчизны бесконечность», – и страстное желание выйти с этим драгоценным грузом на магистральные исторические пути, сделать эти богатства всеобщим достоянием.
Это тяга к не ограниченному «местными интересами», но созвучному эпохальным достижениям человечества самораскрытию в искусстве. Источник ее в своеобразном понимании собственной почвы, в ощущении своей родной «опорной точки» в современном литературном пространстве:
Кто сказал, что будто бы мала
моя отчизна, Картли дорогая,
что словно малый диск она легла?
Кто выдумал: мала земля родная?
…Измерь-ка крылья ураганов гор,
ущельями зажатых и ревущих,
измерь-ка рек клокочущий костер,
льды купола, вонзившиеся в тучи.
Рукою, что в бою закалена,
коснись ворот Дербентских, взятых в сече,
тогда откроется она —
моей отчизны бесконечность!
(«Кто сказал…»)
Тема дороги в контексте поэтической эволюции С. Чиковани оправдана и биографически, потому что он один из тех грузинских поэтов нашего столетия, которые с первых шагов на пути творчества до последних дней жизни шли в ногу с современностью в ее главных направлениях, в ее устремленности вперед.
Всю свою жизнь в поэзии Симон Чиковани прожил как путник, без устали преодолевающий собственный, никем до него не проторенный путь в страну Незнаемого.
Маленькое село Наэсаково, в котором 8 января 1903 года родился Симон Иванович Чиковани, находится в Мегрелии, в одном из колоритнейших уголков Западной Грузии. Его жители даже на фоне соседних имеретинцев и гурийцев выделяются особой экспансивностью и ярко выраженным холерическим темпераментом. Мегрелы между собой говорят на одном из своеобразнейших (наряду со сванским) диалектов грузинского языка; это наречие до сих пор не утратило своей жизнеспособности в быту, особенно деревенских жителей. Однако необходимость преодоления довольно трудного диалектного барьера рождала и рождает не склонность к обособлению, а особо развитую любовь и даже благоговение ко всему общегрузинскому, и в первую очередь к тому, что создано и создается на грузинском литературном языке.
Отец Симона Чиковани – простой сельский труженик, ставший инвалидом с молодых лет (что не помешало ему владеть несколькими ремеслами), – превосходно знал грузинскую классику и особенно любил состязаться в чтении на память целых кусков из поэмы Руставели со своей матерью – бабушкой будущего поэта, которая занималась воспитанием мальчика (мать Симона умерла на третий или четвертый день после его рождения).
Атмосфера любовного отношения к книге и особой увлеченности поэзией окрашивала все детство Симона Чиковани. Род его славился семейными стихотворцами, которые прилежно культивировали переходивший из поколения в поколение обычай обращения друг к другу рифмованными посланиями.
Культ знаний, уважение к печатному слову прививались ребенку с самого раннего возраста, а крайняя бедность еще больше вызывала стремление к свету, к большой, настоящей жизни. Именно о таком будущем своего единственного сына мечтал Иванэ Чиковани. Поэтому, когда настала пора, он продал свое последнее имущество – деревянный домик-оду и всей семьей перешел в кухонное «помещение» для того, чтобы на вырученные деньги снарядить наследника в кутаисское реальное училище. Отец хотел увидеть сына горным инженером. «Однако, – вспоминает С. Чиковани, – я попал сразу же в среду учеников грузинской гимназии. Кутаиси в те годы был настоящим центром культурной жизни Грузии. Среди молодежи именно гимназисты были застрельщиками литературных читок и споров. Меня еще сильнее потянуло к стихам… Я начал и сам кое-что пописывать и принимал участие в создании рукописных журналов, выпускаемых учениками.
В 1922 году я окончил реальное училище и переехал в Тбилиси, поступил в университет и начал работать в политотделе грузинских частей Красной Армии».[2]2
Советские писатели. Автобиографии, т. 2, М., 1959, с. 631.
[Закрыть]
Печататься Симон Чиковани начал с 1924 года. Но именно в год окончания им кутаисского реального училища в литературной жизни Грузии произошло событие, сыгравшее значительную роль в становлении молодого поэта: в Тбилиси и Кутаиси параллельно образовались группы грузинских футуристов, объединившихся вскоре под знаменем «Мемарцхенеоба» («Левизны»).
Первое публичное выступление грузинских футуристов состоялось 23 марта 1923 года в здании Тбилисской консерватории, а в апреле 1924 года вышел в свет их первый журнал «Н2SO4».
Сегодня наше общее отношение ко всем постсимволистским литературным школам и направлениям несколько иронично; ретроспективному взору современника все это представляется как «детская болезнь» или, в лучшем случае, как наивные заблуждения молодой советской литературы.
Каждое из этих направлений довольно основательно изучено и охарактеризовано с точки зрения социологии искусства, рассмотрены соответствующие классовые интересы, умонастроения, предубеждения и т. д.
Все как будто просто и ясно. И все-таки каждый индивидуальный случай (особенно, когда речь идет о причастности к одному из этих направлений того или иного крупного советского писателя) имеет свои внутренние сложности, свои довольно серьезные аспекты, свое психологическое наполнение.
Грузинский футуризм, как и возникшая на его почве «Левизна», – явление хотя и недолговечное, в известной степени эпигонское, внутренне эклектичное, но тем не менее отмеченное некоторым национальным своеобразием, обладающее и своими внутренними закономерностями, – явление, без учета которого невозможно понять как специфику литературной жизни начала 20-х годов, так и важнейшие особенности творческой эволюции ярчайшего представителя этого направления в Грузии – Симона Чиковани.
В начале 1924 года, еще до выхода «Н2SO4», во вполне респектабельном грузинском журнале «Мнатоби» («Светоч») была напечатана статья лидера грузинских футуристов.
«Форма, которая была на службе минувшей эпохи, неприемлема для современности… у искусства, как и у социального движения, есть два полюса. Первый заключается в революции, второй – в созидании. Первый подразумевает движение с целью истребления устаревших форм и фабул. Второй – построение новых систем и форм», – так писал С. Чиковани в своем «„Срочном разъяснении“ к журналу „Н2SO4“».
Там же говорилось о первейшей задаче только что родившейся школы и ее приверженцев. Это – «террор против оставшегося в коммунистическом государстве литературного мусора» с целью «очищения атмосферы».
Комментировалось и название первого печатного органа грузинских футуристов – формула серной кислоты. «Название фирмы „Н2SO4“ нам подойдет в первом сезоне нашей борьбы, и, возможно, его роль будет исчерпана на этом».[3]3
Мнатоби, 1925, № 4, с. 220–221 (на груз. яз.).
[Закрыть]
Однако главный пафос этого манифеста не в «террористических» актах в области искусства, которые считались лишь необходимым средством на начальной стадии самоутверждения, но в грядущем созидании революционной культуры.
«Революционность» в словаре грузинских футуристов имела два смысла: во-первых, искусство должно служить делу Революции, во-вторых, оно призвано стать революцией в эстетическом (то есть на деле в чисто формальном) смысле.
В этом молодые грузинские революционеры от искусства смыкались с русскими лефовцами, точнее, этот лозунг был ими целиком заимствован у старших братьев. Заимствования вообще были в их духе.
От итальянского футуризма они охотно взяли культ техники, всеобъемлющего и, в сущности, самоцельного технического прогресса, от французских дадаистов (Б. Гордезиани объявил дадаизм «военной тактикой футуризма») инфантильный алогизм словосочетаний, от кубизма – «новое ощущение вещи», от русских конструктивистов – идею «дематериализации» искусства.
Все это, вместе взятое, перемешанное, порой же нарочито перепутанное, предопределило эклектизм поэтики грузинского футуризма.
До создания собственной оригинальной «системы» им дойти не удалось: их группа просуществовала слишком недолго. Читатель, за исключением незначительной части артистической молодежи, их так и не принял. При публичных столкновениях грузинских футуристов с их главными соперниками – группой «Голубые роги» симпатии аудитории, как правило, оказывались на стороне последних.
Однако они все-таки внесли некоторое оживление в культурную жизнь столицы Грузии.
Журнал «Н2SO4» – первенец грузинских футуристов – всячески старался оправдать свое название. Он готов был все вокруг себя «обжечь» – все подлежащее испытанию огнем, все устоявшееся, все, что в той или иной степени было освящено традицией и превратилось в норму.
Трудно сказать, знали или нет юные основатели журнала сказанное Энгром о Делакруа: «От его картин несет серой». Скорее нет, иначе они с удовольствием начертали бы эти слова на своем знамени. Правда, «сатанинского» в их сумасбродных помыслах было очень мало. Но на тбилисские улицы они выскакивали как настоящие бесенята, ошеломляя «приличную» публику своим видом и поведением.
У Ниогола (Николая) Чачава галстук был завязан на ноге, другой Николай (будущий кинорежиссер) – Шенгелая обычно читал стихи, раскачиваясь на ветке самого высокого дерева на Головинской улице (ныне пр. Руставели). Говорят, что именно в такой позе увидел его проходивший мимо Котэ Марджанишвили, который велел озорнику сойти с дерева и следовать за ним на киносъемку, и что именно с этого момента началась новая карьера одного из талантливейших грузинских лефовцев.
Остальные старались ни в чем не уступать двум Николаям, а главным теоретиком и трибуном у них был Бесо Жгенти, поражавший своих оппонентов кощунственными взглядами на все имеющее отношение к культуре, убийственной логикой, головокружительными полемическими ходами, а также феноменальной памятью (Б. Жгенти знал наизусть стихи всех современных поэтов – и врагов и соратников).
Симон Чиковани был среди них признанным метром и самым плодовитым практиком.
Позднее свое футуристическое прошлое он вспоминал с неизменной иронической улыбкой, как это делают обычно, припоминая юношеские проказы.
Но увлечение футуризмом не прошло для него бесследно.
Во-первых, ратуя за новое революционное искусство, он именно тогда довольно основательно изучил внутренние особенности тех процессов, которые происходили с начала XX века в изобразительных искусствах (главным образом в живописи) Запада и России. И это знание, полученное в самые молодые годы, сыграло важную роль в его художественных исканиях в самые разные периоды его творческой биографии.
Во-вторых, Симон Чиковани среди своих соратников с самого начала выделялся особым стремлением – открыть возможности развития нового искусства на грузинской почве, точнее, использовать в своих новаторских поисках не столько чисто литературные, как правило не грузинские источники, сколько национальную стихию народного творчества.
С этой точки зрения его смелые эксперименты в области «зауми» представляют особый интерес как уникальные в грузинской поэзии образцы использования фольклорных форм поэтической звукописи, во многом напоминающие аналогичные опыты Велемира Хлебникова. Два стихотворения, сделанные в этом ключе – «Цира» и «Хобо», в свое время стали довольно широко известными в художественных кругах Грузии также и благодаря талантливому исполнению (тоже в новой манере) начинающей тогда актрисы Верико Анджапаридзе. Следует сказать, что обе эти вещи до сих пор сохраняют удивительное очарование. Переводить их на другой язык, конечно, нет никакой возможности по той самой причине, которая делает невозможным перевод таких специфических творений русского футуризма, как «Бобэоби» или «Смехачи» Хлебникова.
Тяготение к реалистическому художественному мышлению в поэзии Симона Чиковани появляется очень рано, еще в то время, когда он сам считает себя правоверным приверженцем футуризма, и все время нарастает, приобретая характер своеобразного возвращения (новым путем) к классическим формам и идеалам поэтического искусства.
Весьма примечательно, что сам поэт, осмысливая позднее причины своего недолгого увлечения футуризмом, особенно подчеркивает это обстоятельство: «Я был воспитан на классической грузинской и русской поэзии. Из грузинских поэтов особенно увлекали меня Бараташвили и Важа Пшавела, а из русских – Тютчев. Поэтому переход на позиции „Лефа“ означал для меня большую ломку привычных взглядов и вкусов.
Как и следовало ожидать, после нескольких лет своеобразной работы над словом я и большинство моих друзей отошли от „Левизны“. Это произошло еще и потому, что современная советская жизнь стала для меня главной темой творчества.
…Полученные тогда впечатления продиктовали мне такие стихи, как „Комсомол в Ушгуле“, „Вечер застает в Хахмати“, „Хевсурская корова“, „Сванская колыбельная“, „Письмо с гор“ и другие».[4]4
Чиковани Симон, Мысли. Впечатления. Воспоминания, с. 5–6.
[Закрыть]
Перечисленные стихи писались на рубеже 20–30-х годов. Это время, когда молодой еще Чиковани, сохранивший прежний поэтический пыл и острополемическое отношение к литературной «инерции», ищет опору для своих смелых поисков уже не только внутри литературы, но и в самой жизни, в ее живом, реальном движении и проявлениях.
Именно здесь, на этой новой (не в абстрактно-формальном, а уже в конкретно-сущностном значении этого слова) почве происходит его второе поэтическое рождение.
С. Чиковани этих лет не перестает появляться и на внутрилитературной арене – дебатах, бурных вечерах, своеобразных состязаниях поэтов разных школ, направлений; но гораздо чаще он там, где возникает, встает и пробивает себе дорогу новая действительность, новые общественные, материальные, исторические формы бытия народа.
Он откликается и на рождение комсомола в самом патриархальном уголке Грузии – Ушгуле, и на необыкновенный вечер в Хахмати, где «темны еще эти выси, за душу держит гор закон», но где в сознании молодых хевсуров уже зажглась искра, способная взорвать вековую «косность сельскую». В его стихах появляются колоритные мегрельские зарисовки, в которых все дышит предчувствием коренных перемен…
Одним из наиболее характерных поэтических произведений, написанных Чиковани в ту пору, была поэма «Судьба – Республика» (1928). Это – поэтическая хроника, запечатлевшая решающий час в жизни новой Грузии: бегство меньшевиков и установление советской власти (1921 год). Не исключено, что название ее навеяно поэмой Бараташвили «Судьба Грузии», в которой тоже был отображен переломный момент, определивший исторический путь грузинского народа на целую эпоху.
«Судьба – Республика» написана в манере, характерной для грузинской поэзии тех лет. Много общего она имеет, в частности, с поэмами «Джон Рид» (1924) Галактиона Табидзе и «Рион – порт» (1928) Тициана Табидзе. Все это – поэмы нового типа, поэмы-хроники.
Как видим, путь Симона Чиковани в поэзии был довольно сложным. Сам он назвал ранний этап своего творчества «детской болезнью».[5]5
Чиковани Симон, Сочинения, т. I, Тбилиси, 1975, с. 207, на груз. яз. (стихотворение «Первосказанное»).
[Закрыть] Что греха таить – не обошлось тогда без «голого экспериментаторства» и «любования самоцельным звуковым образом», не всегда удавалось поэту «сочетать с картиной звук», не всегда его образ был «порожден щедрым солнцем», эксцентричность метафор и сравнений затрудняла порою восприятие его стихов, но во многих из них (за исключением нескольких самых ранних опытов самоцельной оркестровки стиха) несомненно заключалась живая и острая мысль, подлинное чувство, хотя, может быть, и выраженное часто с нарочитой полемической несуразностью.
Многие и многие стихи Симона Чиковани, созданные в 20-х годах, были по-настоящему реалистичны, а отдельные формалистические выверты были сравнительно легко устранимы. И действительно, несколько позже небольшая, часто еле заметная ретушь помогла автору прояснить прекрасный лик многих своих ранних произведений («Судьба соловья». «Письма», «Под дождем», «Первое посвящение», «Первая разлука», «Когда в Тбилиси…», «Не спится ночью и не пишется», «Второе посвящение», «Вспоминаю в городе село родное», «Песнь путника», «Дева-башня» и многие другие). Более того, когда грузинской поэзией в целом (и ее читателем!) были вполне освоены многие из новаторских опытов 20-х годов, когда были преодолены и пуристские крайности в толковании «норм» реализма, в ряде случаев даже эта позднейшая стилистическая ретушь оказалась излишней и оказались устаревшими не первые варианты стихов, а их новые редакции.
При жизни Чиковани в русские сборники обычно включалось только одно его стихотворение этой поры – «Дорога», но и оно дает нам достаточное представление о поэтической работе Симона Чиковани 20-х годов:
По рельсам, по степи, по знойной долине,
не оскудевая, как свист соловья,
летит она, в свивах бесчисленных линий,
прямая, ночная дорога моя.
Республика правды, труда и свободы!
За свистом, за степью, за цепью колес
вот желтое небо в кустах непогоды
орлами за мной из-за гор понеслось.
…Ты, родина всех человеческих стран,
ты, родина радости, здравствуй, Россия!
Какими дорогами ни колеси я,
найду по морям, по полям, по кострам,
по горным тропам, за Азовом и Понтом
глаза золотые от хлеба твои,
и кожу, покрытую бисером потным,
и чащу, где льются в ночи соловьи.
Где рельсы и свищут, и льются, и стелют
огни по уже пролетевшим огням,
где конь мой Мерани ныряет в метели
в безжалостной жадности к будущим дням.
В этом стихотворении знаменательна, помимо всего прочего, и перекличка с грузинской классической поэзией, в частности с бараташвилиевским «Мерани», что, казалось бы, совершенно недопустимо для правоверного футуриста. Однако следует отметить, что характерные мотивы классической поэзии здесь не просто использованы, а своеобразно преломлены, видоизменены в соответствии с новой эпохой. Здесь и продолжение традиции, и полемика с традиционностью.
Стихотворение «Дорога» написано в 1927 году, то есть в пору, когда, по признанию самого поэта, он «почувствовал опасность отрыва от жизни, увлечения архитектоникой стиха» и «перешел на художественное отображение революционной борьбы в Грузии…».[6]6
Чиковани Симон, Стихи, М., 1935, с. 9.
[Закрыть]
Эта новая творческая позиция отчетливо сказалась в «Дороге» и в хронологически примыкающих к ней произведениях. Но ориентация на классику давала себя знать и в более ранних опытах Симона Чиковани, хотя там ориентация эта была довольно односторонней. В своих ранних опытах оркестровки стиха поэт опирался не столько на футуристическую традицию Хлебникова, Каменского и Крученых, сколько на некоторые структурные элементы грузинского (и в частности, мегрельского) фольклора, на некоторые характерные особенности поэтики грузинского поэта XVIII века Виссариона Габашвили (Бесики). Сам поэт не без основания сближал свои стихотворения того периода «Хабо» и «Карбория» со стихотворениями Бесики «Тано татано» («О, статный стан») и «Шавни шашвни» («Черные дрозды»). В попытках Симона Чиковани тех лет восстановить в грузинской поэзии связь с поэтами XIX века сказалась полемическая антисимволистская направленность, поскольку, с его точки зрения, в поэзии грузинских символистов на определенном этапе «никак не выявлялись характерные особенности Грузии, даже ее природы. Я пытался восстановить в своих стихах стихотворную культуру Нико Бараташвили и Ильи Чавчавадзе. Эти мои опыты, однако, не характеризовались созданием стилизованных стихотворений, хотя путь моих поэтических исканий и был чисто формального порядка».[7]7
Чиковани Симон, Стихи, с. 8.
[Закрыть]
Как мы уже знаем, с середины 20-х годов Симон Чиковани решительно отказался от такой чисто формальной экспериментаторской установки и начал искать новые, реалистические пути в поэзию. «После поэмы „Судьба – Республика“, – писал он позднее, – я решил еще шире отобразить современную тематику и с этой целью предпринял ряд поездок по горам и долинам Грузии. С двадцать седьмого года по тридцать третий год я месяцами оставался в колхозах, на предприятиях и в малодоступных уголках Сванетии, Хевсуретии, Пшавии и Аджаристана, и я полагаю, что за это время моя поэзия претерпела коренные изменения…»[8]8
Там же, с. 9–10.
[Закрыть]
И действительно, если в 20-е годы даже лучшие образцы лирики Симона Чиковани носили в какой-то степени отпечаток абстрактности и умозрительности, то последующие поиски поэта привели его как раз к большей конкретизации образов, к подчеркнутому эпизму описания и рассказа, даже к чрезмерной порою прозаизации стиха (не случайно, что в эту пору Симон Чиковани выступает часто и в качестве автора оригинальных очерков). Как сильно отличаются, например, по своей поэтике от «Дороги» уже первые строфы стихотворения Симона Чиковани «Вечер застает в Хахмати» (1931).
Вот уж на тропах видим: хевсуры.
Значит, в предгорьях конец пути.
Завтра возьмем мы хребет темно-бурый, —
легче сказать о нем, чем перейти.
Вечер навстречу – идем, нахмурясь,
усталость качает, шли дотемна.
В Хахмати стали у Алудаури,
Кудиа будет хозяин наш.
Плоская крыша. Овчины горою.
Хахмати! Водкой полощем рот.
Об этом гнездовье древнем героев
достойную Кудиа речь ведет.
Это стихотворение, так же как и другие стихи этого периода («Комсомол в Ушгуле», «Стада в Рошке», «Сванская колыбельная», «Девушка из Рошки», «По следам Важа Пшавела» и др.), знаменует собой успешное движение поэта к полнокровному реалистическому изображению современности. Это еще не была пора окончательной зрелости, но перед Симоном Чиковани уже открылась широкая и прямая дорога к новым вершинам мастерства, тот этап в его творчестве, о кануне которого прекрасно сказал сам Симон Чиковани в одном из своих лирических шедевров:
Юность, молодость, зрелость…
Лежит между вами граница —
краткий миг передышки,
смущенья и смутных забот.
…Этот миг наступил —
и сомненье меня охватило:
если пальцы мои
обожжет догорающий трут,
значит, пламя иссякло,
остались одни лишь чернила, —
но они без огня
на странице строку не зажгут.
…Юность, молодость, зрелость…
Лежит между вами граница —
время тайных раскаяний,
смутных тревог и забот.
Это время пришло.
Снег валится всё гуще и гуще.
Он растает еще.
Но сегодня долина бела.
Я хочу, чтобы жизнь
уподобилась ниве цветущей,
чтобы нивой в цвету,
а не сломанной веткой была.
Сети трудных раздумий
в житейское море закину:
поздней ночью, в слезах,
я на милую землю пришел —
и поэтому с песней
подняться хочу на вершину,
как бы ни был мой путь
утомителен, долог, тяжел.
(«Юность, молодость, зрелость…»)
Как видим, поэт в трудную минуту обращается за помощью к родине, к жизни, к действительности. И надежды его в полной мере оправдались. Бурный поток жизни, расцвет советского общества помогли поэту избавиться от «смущенья и смутных забот», дали новый размах его творчеству, его поэтическим исканиям.
Вот что писал Симон Чиковани о значении этой поры для него и для всей советской литературы: «…по моему глубокому убеждению, для нашей литературы – как и для моих ровесников, так и для поколения более старшего – особо значительными были тридцатые годы. Как раз в начале тридцатых годов, столь богатых бурными событиями в жизни страны, ознаменованных глубочайшими процессами коренной перестройки всего ее уклада, действительность властно вторглась в творческую жизнь моего поколения, внесла в нее свои коррективы, обновила ее, изменив многие и многие мои представления о сущности и назначении, о подлинной революционности и подлинном новаторстве поэзии. Многие мои духовные склонности и потребности – тяга к просторам, к путешествиям, жадный интерес к жизни различных уголков моей родины и к жизни других народов – получают в эти годы новый, глубокий и конкретный смысл, точную целенаправленность. В плане творческом – это был верный путь к реализму»[9]9
Чиковани Симон, Мысли. Впечатления. Воспоминания, с. 7.
[Закрыть].
Такую эволюцию претерпела в 30-х годах и поэзия Симона Чиковани. Именно в эту пору проявляется дарование Симона Чиковани как прекрасного пейзажиста и жанриста. Именно в эти годы оттачивает поэт и самый любимый свой поэтический инструмент – яркий метафорический образ. Но кроме расширительного значения слова «образ», охватывающего весь мир поэтической выразительности (включая интонацию и мелодику стиха), существует и более узкое его толкование, при котором образность предполагает живописность, картинность, зрительную ощутимость, изобразительность стиха и его метафоричность. Вот область, в которой Симон Чиковани может смело состязаться с любым из своих поэтических собратьев. Он полностью владеет уменьем открывать в предмете новые и новые грани, видеть его не в одной плоскости, а во всех измерениях. Для Симона Чиковани предмет, явление – источник бесчисленных ассоциаций, они питают и мысль и чувство, и мечту и воспоминание, рождают и острое умозаключение, и глубоко драматизированное переживание.
Многие любовались ночным Тбилиси, но едва ли кто замечал, что мелькающие, скачущие и как бы перебегающие с одного места на другое огоньки похожи на светящихся стрекоз, а дома, прилипшие к горным склонам, – на раскрытые птичьи клетки. А замечали ли вы, что Кура, вбегая в город, рассекает его с размаху, разбивая себе бока? Вот «миллионом бубенчиков» прогремел дождь по улицам Тбилиси и скрылся украдкой, как ни в чем не бывало. Народ вновь запрудил улицы, а поэт застыл, словно завороженный, он видит вокруг чудеснейшие метаморфозы: чинары стали еще стройнее и держатся с особым достоинством. А если издали взглянуть на Мтацминду, то нетрудно различить, что вскарабкавшиеся на нее дома похожи на альпинистов, которые остановились, решив передохнуть. И как хорошо в такую пору распахнуть двери, еще влажные от дыхания дождя, выбежать на зов мальчишек во двор и обсыхать вместе с ними под лучами свежеумытого солнца! Трудно передать в переводе все обилие красок и образов стихотворения «Тбилиси после дождя». А вот ночной мегрельский пейзаж, полный изумительных открытий:
Нисходит ночь. Звезды вечерней ртуть
зазыбилась. Такая тишь в просторе,
что страх дохнуть. Такая тишь, что жуть
встревожить поседелый мрамор моря.
Лишь всплеску ненасытному не лень
сосать песок. Лишь тополя предгорий,
как девушки мегрельских деревень,
толпясь вдали, спокойно сходят к морю.
Такая ночь. Так вольно. Час такой.
Теперь дано обняться в единенье
звезде и лесу с пеною морской.
Природе, натерпевшейся гонений,
отныне обещается покой.
В смарагды моря падают сапфиры,
как будто ночь блаженной вязью слез
связала сноп из всех сокровищ мира.
Вдали вдоль моря гонит паровоз.
(«Мегрельские вечера»)
А в стихотворении «Старинные часы» мы видим пример того, как взгляд поэта, упав на предмет, обнаруживает основу для сложнейших образных ассоциаций и глубоких поэтических обобщений.
Когда в комнате сон, и на улице тишь,
и смолкают все звуки ушедшего дня,
ходят только часы, осторожно, как мышь,
окликают, зовут, будоражат меня.
…Ходом этих часов отмечались года,
с ними детство текло и рождалась строка,
и они, словно пульс, трепетали, когда
у отца моего остывала рука.
Они меряли жизнь, как теченье ручья,
были радостям вехой и мерой забот.
И мерцают они в тишине бытия,
и с природой самой согласуют свой ход.
…Эту ночь проведут они вместе со мной
с глазу на глаз – их поступь легка и тиха —
и, минуты похитив из бездны ночной,
переплавят их в мерные строки стиха.
Юрий Олеша заметил как-то, что смысл метафоры в том, что художник как бы подсказывает читателю определение сходства, которое читателю и самому приходило на ум, но не оформилось. С этой точки зрения он критикует некоторые свои метафоры, кажущиеся ему слишком изысканными. Возможно, Олеша и прав, отдавая предпочтение метафорам первого рода, но разве так уж плохо, если метафора доставляет не только радость узнавания, но и радость открытия! Если она не только «возвращает свежее восприятие мира», но и сообщает его? Симон Чиковани настоящий и большой мастер метафоры, доставляющий читателю и радость узнавания, и радость открытия. Он ставит себе лишь два условия, необходимые для того, чтобы найти отклик в сердце читателя: образ должен быть рожден действительным переживанием поэта и «звук» должен «сочетаться с картиной», заключенной «в единый строй».
Земли красою зримой я пленен,
листком в росе, яйцом в гнезде голубки.
И как бывает сумрак оживлен,
лишь огонек блеснет у деда в трубке!
А образ ищет голоса себе;
янтарным житом ток не так сиял бы,
когда б не пел, как бубен, в молотьбе
и тружеников песней не звучал бы.
И вот, когда ты на палитре слов
смешаешь краски ярко и богато,
ты голос молодой своих стихов
проверь на слух читателя-собрата.
И если, щедрым сердцем порожденный,
в сердцах сумеет отклик он найти,
он будет жить, живыми повторенный,
в потомстве и, как Млечный Путь, цвести.
(«Первая приписка к книге»)
Во многих стихах Симона Чиковани раскрываются его понимание природы и его мысли о назначении поэтического искусства. Тему эту он затрагивает не раз, стараясь высказаться как можно точнее и вместе с тем образнее. Он пользуется для этого иногда подчеркнуто случайным поводом, чтобы тем самым еще убедительнее подтвердить правомерность и убедительность вывода. Какая, казалось бы, связь между ночным посещением рыбака и творческими раздумьями поэта?
До рифм ли тут с крылатым словом?
Всё заслонил его садок.
(«Приход рыбака»)
Но вот поэт смотрит на дрожащую, «как от ушиба», рыбу, думает о том, что ей нет жизни вне «глубинных тайников». Так рождается гордость за «людской дом», за человека, за поэзию, которая не боится широких земных просторов, дальних дорог и крутых восхождений. Так возникает сравнение между судорожно бьющейся рыбой и трепетной поэтической строкой:








