Стихотворения и поэмы
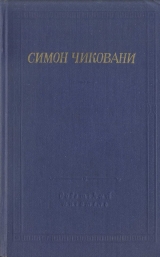
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Симон Чиковани
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
Не окропив себя водой Севана,
в родимый край вернуться не могу.
Я с перевала опустился рано,
и тени гор лежат на берегу.
Снимают скалы тусклую кольчугу,
туман по склонам движется, скользя.
И мы опять глядим в глаза друг другу —
Севан и я,
как старые друзья.
И мнится мне,
когда иду, считая
окрестных гор литые купола,
что охрой голова моя седая
от зноя покрываться начала.
Двенадцать лет назад
кольцо Севана
мне довелось найти меж этих скал —
всё тот же свет Севана
неустанно
с тех пор в глазах любимой я искал.
Я ласку волн севанских взял с собою
и обронил мечту на берегу,
и удочку
над гладью голубою
увидел, словно тонкую серьгу.
Сегодня вновь к Севану я вернулся
и ощутил, как сердцу он знаком,
когда на корни прошлого наткнулся,
к Севану вновь приблизившись пешком.
Я вижу волн бегущих эстафету,
рыбачьи лодки,
крылья парусов.
За светом братства
я иду по свету,
на зов друзей, на дружественный зов.
Опять Севан раскинулся широко,
косыми парусами осенен.
Армении задумчивое око,
в себе так много
отражает он.
Мы грудь в горах
отрадой наполняем,
волну в сердца вселяем, как птенца.
Севан под солнцем
обернулся маем,
и нет ему ни края, ни конца.
Армяне в ясном отсвете озерном
внедрением весны увлечены.
Пылает солнце раскаленным горном,
и на форелях —
крапинки луны.
105. Письмо друзьям. Перевод А. Межирова
За светом братства
следую по свету
но, если сердцем всем не запою
на берегу Севана песню эту,
как мне вернуться в Грузию мою?
1953
Он дошел до меня, этот голос нестрогий,
как доходит жужжанье далекой пчелы:
«Почему ты не пишешь мне писем
с дороги?
Или сделались, может быть, сутки малы?»
Я плечами пожал и помедлил с ответом.
Что скажу, если в сердце моем навсегда
поселились друзья и негаснущим светом
осветили дорогу мою сквозь года.
Если думой о них, словно пчелами улей,
где б я ни был, всегда мое сердце полно.
Мы друг другу в глаза не напрасно
взглянули,
распахнули сердца, словно в доме окно.
Да и сам я из сердца друзей не исчезну, —
не они ли когда-то в горах для меня
в час беды перекинули мост через бездну,
помогали мне выбраться из-под огня.
У походных костров на коротком привале
мы навек побратались в просторах земли,
Волго-Дону дорогу в степях пробивали
и к Тбилиси иорскую воду вели.
И на гребень днепровской плотины взошли мы
и услышали гулкое эхо шагов.
О друзья! Ваши помыслы неразделимы —
вы стоите, как тополи у берегов.
Словно стройные тополи, путь урагану
преграждаете вы ради ясного дня,
с вами я против ветра идти не устану,
в одиночестве враг не застанет меня.
Даже удочку в реку без вас не забросить
мне, вовеки не знавшему с вами тоски.
У меня в волосах появляется проседь —
ваше мужество снегом легло на виски.
Каждый миг мой от вашего мига зависим —
в этом сила и вечная юность моя.
Но не хватит чернил и бумаги для писем,
если всем вам ответить попробую я.
Я хочу, чтобы сердце взволнованно билось,
чтобы море клубилось, вздымая прибой.
Здравствуй, жизнь! Мне движенье твое
полюбилось,
я повсюду ищу столкновений с тобой.
Неизменно на труд и на подвиг готовы,
отрешившие робость, неверье и страх,
о друзья неразлучные, кто же вы, кто вы,—
пастухи! Вы стоите, как туры в горах.
106. В сторону села Шопена. Перевод А. Межирова
Девять гор перешел я и девять ущелий,
вновь сегодня к равнинам привыкнет мой
взгляд,
и друзья, с кем шагал сквозь дожди и метели,
новой песней в дороге меня окрылят.
1953
На польской равнине, в чужой стороне
мы ищем село Фредерика Шопена.
Сказанье о чанги мерещится мне,
и я вспоминаю его постепенно.
Мелькнут в отдаленье развалины стен,
высокие липы метнутся к машинам.
Ударь же по струнам, волшебник Шопен,
и слезы вчерашней поры осуши нам.
Я знаю, растают снега по весне,
сотрутся отметины тяжкого плена.
И пахарь по мирной пройдет целине…
Всё ближе село Фредерика Шопена.
Сосульки, примерзшие к прутьям ветвей,
за кисть винограда я принял сначала,
я вспомнил о Грузии милой своей,
грузинская песня в душе зазвучала.
Отец мой певучий мне вспомнился вдруг.
Как пел он красиво, легко и степенно.
Мне жалко, что сын не наследовал слух…
Всё ближе село Фредерика Шопена.
Мечты, словно искры с огнива, летят,
хочу, чтоб от песен душа раскололась,
хочу, чтобы с песней народною в лад
звучал, по примеру Шопена, мой голос.
107. Дом Ленина в Поронино. Перевод А. Межирова
Но слух мой неточен. Как сделаюсь я
наследником песни великой Шопена?
И стелется по снегу песня моя,
приветствуя дом Фредерика Шопена.
1952
В пути на Татры, возле поворота,
за перелеском, на исходе дня
окликнул дом бревенчатый меня,
и я вошел в открытые ворота.
Здесь Ленин жил,
и вести из России
под этот кров сквозь тысячи преград
с конспиративной почтой приносили
подпольщики,
и Ленин был им рад.
Он у окна просматривал газеты.
Вершины Татр сияли невдали.
Дыханьем революции согреты,
здесь до рассвета совещанья шли.
Здесь на стекле запечатлелись взоры
глядящего в просторы Ильича.
И эхо слов хранят ревниво горы,
и слышен голос горного ключа.
И ленинскими мыслями до края,
как книжный том, наполнен этот дом;
здесь на меня, горя и не сгорая,
зарницы мыслей падают дождем.
Здесь даже дверь – как родины частица,
открыта для грядущего она,
и слышу я, как о порог стучится
истории тяжелая волна.
Когда весной, прохладной и недолгой,
манили Татры Горного Орла,
скалистыми ущельями с двустволкой
его тропа охотничья вела.
Он затевал с крестьянами беседы
и слушал здесь пастушеский рожок.
Он сеял искры. Он зарю победы
под кровлей дома этого зажег.
Густые тучи шли по окоему,
клубилась мгла над соснами внизу,
и Ленин в Татрах радовался грому,
подставив грудь под вешнюю грозу.
Подобен Волге,
гневно и упорно
сражающейся с засухой земли,
здесь Ленин сеял
мудрых мыслей зерна —
и нивы Польши дружно расцвели.
Ее земля просторна и богата,
ее судьба крылата и светла.
И через двор, где Ленин шел когда-то,
теперь дорога мира пролегла.
В дверь домика история стучится,
и домик этот видится тебе,
как в летописи Истины
страница
о ленинской работе и борьбе.
108. Письмо из Татр. Перевод А. Межирова
И не однажды я припомню снова
то, что запомнил сердцем и душой:
в пути на Татры домик небольшой —
свободной Польши прочная основа!
1952
Мне в Татрах тень какой-то горной птицы
случайно тень напомнила твою.
Моя любовь
в разлуке не двоится,
я жалких клятв любимой не даю.
В такой дали,
в такой далекой дали,
туманной пеленой разделены,
мы друг у друга мысли отгадали,
одни и те же увидали сны.
На склонах гор
лежат заката тени,
дрожат сполохи гаснущего дня.
И голос твой,
как теплый дождь весенний,
меня настиг, лаская и маня.
Мне вспомнилось,
как маленьким ягненком
когда-то любовалась ты в горах,
и с думой о тебе
в тумане тонком
набрел я в Татрах на речной овраг.
Донес до слуха ветер хлопотливый
стук мельницы
и гул речной струи,
и, в думах о тебе,
с апрельской нивой
я сравниваю волосы твои.
Внизу гремит
мятежная стремнина.
Я слышу голос властный и живой,
в нем два призыва слиты воедино —
призыв любимой родины
и твой.
Мы по горам
бродить любили вместе,
но в Татрах я один,
и мне нужны,
мне здесь твои необходимы вести,
летящие из дальней стороны.
109. Второе письмо. Перевод А. Межирова
Тебе на зов я песнею отвечу,
пошлю ее дорогою прямой,
чтоб голосу любимому навстречу,
как дождь, спешил
влюбленный голос мой.
1952
Без тебя эти горы
казались бесцветными мне.
По лесистому склону
я вверх поднимался устало.
Но твоими глазами
гора на меня в вышине
неотрывно глядела
и сердце мое окрыляла.
Обещала мне встречу
вершина скалистая та,
потому и представился
путь каменистый короче.
Полюбились мне в юности
радуги нежной цвета.
И твои полюбились
глубокие ясные очи.
Мне на этой горе
вспоминается дальний Хахмат,
кисловатые воды
и в зелени шумной дорога.
Два подъема я взял.
Облака надо мною летят,
я, наверное, в Татрах
похож на хевсура немного.
Вспоминается полдень,
пронизанный солнцем насквозь.
Ропот горной реки
и навьюченный мул над водою.
Сколько утренних зорь
с той поры над горами зажглось,
сколько утренних звезд
закатилось за горной грядою.
Нам с тобой довелось
через грозные бури пройти —
я клянусь, что сегодня
о прожитом не сожалею.
Очень хочется верить,
что я не состарюсь в пути,
что подъемы возьму
и препятствия преодолею.
Мне известно давно,
что дорога в горах тяжела,
но на ней укрепляются
мускулы сердца и сила.
Ты глазами своими
мне радугу в небе зажгла,
ты вторую весну
подарила и жизнь озарила.
110. Народная пляска. Перевод П. Антокольского
Предвечерняя тень,
удлиняясь, лежит на земле,
угасающий день
безвозвратно уходит в былое.
Эти строки письма
я писал не пером на столе,
а на дикой скале
заходящего солнца стрелою.
1952
Всё гуще сумрак дальних горных гряд.
Красавица и юноша парят
в круженье вихревом. И на лету
разглядывают яркую звезду.
Он – словно ветер. А она, скользя
пред ним, – как виноградная лоза.
И танец их – похож на сказку он,
на темный лес, на струн скрипичных звон.
Трепещут розы в капельках росы.
И горный кряж невиданной красы
их обступил. Вдали рога поют.
И в быстрой пляске горный воздух пьют
тот юноша и девушка-дитя,
с крутых стремнин в грядущее летя.
111. У могилы Гёте. Перевод А. Межирова
Как плеск волны, как дальней бури гул,
мне шелест платья сердце полоснул…
1952
Над могилою Гёте
безмолвные липы застыли,
ожидают кого-то
живые цветы на могиле.
И упал теневой
саван легкий на камень тяжелый,
и гудят над листвой
в кронах лип золотистые пчелы.
А за сетью ветвей
очертанья казармы угрюмой,
там в берлоге своей
бредил Гитлер кровавою думой.
Мне почудилось вдруг,
что калина колышется алая,
смолкли пчелы вокруг,
и стоит тишина небывалая.
Речка рядышком где-то
поворачивать жернов не ленится,
и с могилой поэта
беседует старая мельница.
Здесь хлопочет она,
чтоб над Веймаром песня звучала
и прикладом война
в двери Веймара не постучала.
У поэта с чела
исчезают морщины печали,
хочет он, чтоб трудилась пчела,
чтобы воды в каналах журчали,
чтобы по целине
жизнь за плугом стальным проходила.
Вся в цветах, как в броне,
возле Веймара дремлет могила.
Здесь ни жизни, ни сил
не жалел мой собрат в наступленье
и цветок посадил,
пред могилою встав на колени.
Этот стройный цветок —
сын горячего волжского лета —
пчелам отдал свой сок
и украсил могилу поэта.
Не изгладится след,
что оставил под Веймаром воин, —
зерна будущих лет
с Волги в сумке принес полевой он.
Эти зерна взошли —
и обильные росы покрыли
нивы здешней земли,
листья лип и цветы на могиле.
В изголовье певца
мне мерещатся горы в тумане,
и в руках у жнеца
острый серп излучает сиянье.
Ветви лип над могилой
прохладную тень расстилают,
розы Грузии милой
на каменных плитах пылают.
И врачуют они
нанесенные войнами раны,
и в прохладной тени
тихо шествует вечер туманный.
Для поэта природа —
чаша, полная звуков и песен,
но певец без народа
безгласен, бескрыл, бессловесен.
Зерна в почве живут,
жить без почвы они не смогли бы.
К новой жизни зовут
над могилой склоненные липы.
112. Карнавал мира в Веймаре. Перевод П. Антокольского
Не увял, не поблек,
не склонился под ветром крылатым
отсвет Волги —
цветок,
что посажен советским солдатом.
1952
Кончался «Фауст» на веймарской сцене,
когда в театр донеслись извне
какие-то возгласы, шум, смятенье…
Я вышел, и стало понятно мне,
что это юность поет, вздымая
к беззвездному небу знамен леса,
что связан недаром с девятым мая
день, когда Гёте у них родился.
И вот я иду по главной аллее,
по старому парку на дальний зов.
Чем глубже в парк, тем ночь светлее,
тем больше юных вокруг голосов.
Проходят мимо гуськом и попарно,
и факелы их раздвигают мрак.
Мерцают искры в ночи легендарной,
подобно рожденью светил в мирах.
Всё небо в снопах победного света!
Свобода и мир дарят на земле.
И скрылись проклятые годы где-то
в отравленной и безвозвратной мгле.
«О молодость! Ты на дороге верной!» —
я крикнул, войдя в дружелюбный сонм.
Всё глубже в парк мы движемся мерно
и славное имя Гёте несем.
На старой уличке у поворота
притихла молодость наших дней:
«Когда-то жила здесь фрейлейн Шарлотта…»
И липы тепло шелестят о ней.
Откройте же настежь дом поэта!
Весь парк осветили думы его.
И старый Веймар, и шествие это
справляют мирных дней торжество.
Пусть клятва, что юность нынче давала,
поможет людям бороться с тьмой,
пускай на всех парусах карнавала
вернется Гёте к себе домой!
И я молодежь всю ночь провожаю,
хотя на висках моих седина,
и радость ее для меня не чужая,
и правда моя для нее нужна.
К цветущим липам, в звезды одетым,
Германия шлет своих сыновей.
А я расскажу о празднике этом,
когда возвращусь, отчизне своей.
1952
ТЕНИ ПЛАТАНОВ
113. Тбилисский орнамент. Перевод А. Межирова
Люблю твои балконы и мосты…
Но иногда представлю вдруг, что ты
со мной повздоришь, —
и вцепляюсь в корни
твоих чинар, толпящихся в саду,
и твой туман над крышами пряду,
траву в горах кошу еще упорней.
На мне с рожденья тень твоя и свет,
и на рубашке сердца
виден след
твоей иглы и твоего наперстка.
Я – современник твой и ветеран,
в душе не гаснет боль крцанисских ран,
геройски бьется арагвинцев горстка.
Я жил твоей победой и бедой,
смывал обиду серною водой
и волю не давал
страстям угрюмым.
И в дни моей усталости тайком
ты подносил мне чашу с молоком
и потчевал меня своим изюмом.
Сияньями Мтацминды просветлен,
я постигать учился ход времен,—
твою мечту от сердца не отрину.
Шаги, не подчиненные судьбе,
я соразмерил
с думой о тебе
и замесил твою крутую глину.
114. Майский дождь. Перевод Б. Пастернака
К закату дня ты озарил мой путь,
помог в горах лавины оттолкнуть,
поднять в долинах целину и залежь.
В награду за орнамент на стене
ты радугу подаришь завтра мне,
как подарил зарю свою вчера лишь.
1957
Ни слова пока о дожде.
Всё после о нем уяснится.
То просо мешают в воде,
то с веток летит шелковица.
То в капанье слышится треск
расправленных крыльев павлиньих,
то их переливчатый блеск
мерещится в молниях синих.
К дождю обратим все мечты.
Прижмемся на улице к зданьям.
Средь давки откроем зонты,
в толпе под платанами станем.
Дождь шлепает по мостовой
и брызжет струями с балкона,
дождь хлопает над головой
забытою рамой оконной.
Я сам становлюсь бестолков.
Мне слышится в плеске капели
твой шаг, стук твоих каблуков
по каменным плитам панели.
Мы встретимся чуть погодя,
душой освеженной воспрянув.
Ведь только лишь после дождя
приходят развязки романов.
Ни слова пока о дожде.
Сначала увериться надо,
что не пострадали нигде
зеленые всходы от града.
115. Прекратим эти речи на миг… Перевод Б. Ахмадулиной
Но ярко блестят зеленя,
и свет отражается в лицах,
и капли, пленяя меня,
дрожат у тебя на ресницах.
1953
Прекратим эти речи на миг,
пусть и дождь свое слово промолвит
и средь тутовых веток немых
очи дремлющей птицы промоет.
Где-то рядом, у глаз и у щек,
драгоценный узор уже соткан —
шелкопряды мотают свой шелк
на запястья верийским красоткам.
Вся дрожит золотая блесна,
и по милости этой погоды
так далекая юность близка,
так свежо ощущенье свободы.
О, ходить, как я хаживал, впредь
и твердить, что пора, что пора ведь
в твои очи сквозь слезы смотреть
и шиповником пальцы поранить.
Так сияй своим детским лицом!
Знаешь, нравится мне в этих грозах,
как стоят над жемчужным яйцом
аистихи в затопленных гнездах.
Как миндаль облетел и намок!
Дождь дорогу марает и моет —
это он подает мне намек,
что не столько я стар, сколько молод.
116. Два крыла. Перевод С. Куняева
Слышишь? – в тутовых ветках немых
голос птицы свежее и резче.
Прекратим эти речи на миг,
лишь на миг прекратим эти речи.
1953
По всем путям со мной ходила ты.
Двадцатилетний путь прошла со мною.
И пройденные годы, как хребты,
стоят и застывают за спиною.
Над нами мелкий дождик моросил.
Смывал обиды, сплетни, небылицы.
И все-таки тебя я сохранил,
сберег, как сокола на рукавице.
У нас один очаг и два крыла.
В твоих глазах горит заря рассвета.
А голова моя белым-бела,
бела от нерастаявшего снега.
А время за спиною у меня,
но мы уходим от его погони.
Так оседлай, в который раз, коня,
я вылечу, как птица из ладони!
Я предлагаю старости – уйти!
Я не унижусь. И не успокоюсь.
Не покорюсь. Пускай к концу пути
такой же снег твои виски покроет.
Ты отправляешь письма.
Ты мой сон
послеобеденный оберегаешь.
Кура к нам вечерами на балкон
приходит в гости – ты ее встречаешь.
Настолько неразлучны ты и я —
в одной горсти сумеем уместиться…
Твое дыханье, словно шум ручья,
я слышу по ночам, когда не спится.
Я мог бы дров в ущелье нарубить
и затравить оленя или тура,
расплавить лед,
и кровь и пот пролить,
и ждать тебя, пока не вспыхнет утро.
Я прихожу – ты отворяешь дверь,
ты ждешь меня. Ты любишь гром весенний.
Укрой меня от всяческих потерь
и не пусти в жилище дождь вечерний.
117. Цветы. Перевод Б. Пастернака
Смотри же не споткнись, не упади,
когда потянешься к цветам и звездам.
…Всё невпопад стучит в моей груди
моя любовь к тебе,
к рассвету,
к веснам.
1953
С цветами входя, ты снаружи
заносишь дыханье полей.
Тебе, целый день недосужей,
средь них хлопотать веселей.
Я ставлю цветы эти в банку
с сознаньем, забытым давно:
дни лета, я встал спозаранку,
дни детства, и в доме темно.
Иные цветы словно шпорцы
жар-птицы. Свидетель я сам, —
дивились суровые горцы,
как дети, мудреным цветам.
Иные цветы вроде рога.
Иные – как помощь в пути.
С собой мы берем их в дорогу,
чтоб с честью до цели дойти.
Цветы не бывают пустыми.
В них воздух, в них ветер сокрыт.
Наряд твой, украшенный ими,
как бы бубенцами обшит.
Возьмем их и к платью приколем
и к выходу, к двери шагнем,
и вот виноградником, полем,
дорогой становится дом.
Я ставлю их в сердце, как в вазу,
цветами уставив весь стол.
Для них я бродил по Кавказу
и родину всю обошел.
Я шел и не видел покоя,
в пути головы не терял,
я думал о ближних с тоскою,
я жатву для братьев сбирал.
118. Снежок. Перевод Б. Пастернака
Теперь, вдохновленный цветами,
трублю я по-прежнему в рог.
Я выкинул юности знамя,
я пламя усердья разжег.
1955
Ты в меня запустила снежком.
Я давно человек уже зрелый.
Как при возрасте этом моем
шутишь ты так развязно и смело?
Снег забился мне за воротник,
и вода затекает за шею.
Снег мне, кажется, в душу проник,
и от холода я молодею.
Что мы смотрим на снежную гладь?
Мы ее, чего доброго, сглазим.
Не могу своих мыслей собрать.
Ты снежком своим сбила их наземь.
Седины моей белой кудель
ты засыпала белой порошей.
Ты попала без промаха в цель
и в восторге забила в ладоши.
Что мне возраст и вид пожилой?
Он мне только страданье усилит,
я дрожащей любовной стрелой
ранен в бедное сердце навылет.
119. Тбилисский снег. Перевод Е. Евтушенко
Ты добилась опять своего,
лишний раз доказав свою силу
в миг, когда ни с того ни с сего
снежным комом в меня угодила.
1957
Проходят люди, оступаются —
глаза слепит им белизной,
как будто с неба осыпаются
цветы, посеянные мной.
Во мне весь город с гамом, гомоном —
звонки трамваев, стук подков.
Как облака, парю над городом.
Иду, как снег из облаков.
Тбилиси, всё не сразу скажется,
ты – моя совесть, ты – мой суд.
А снег твой снегом только кажется —
ткемали белые цветут!
Всё, что я думаю и делаю,—
во славу свежести твоей,
кровь моя влита в хлопья белые,
но стали хлопья лишь белей.
Я кровь свою с твоею смешивал,
и на весах твоих мостов
я столько раз все мысли взвешивал,
и снова взвесить их готов!
В лицо твой каждый домик помню я,
я по Метехи колесил,
бокалы, сумерками полные,
к губам в Исани подносил.
Тбилиси, дай побольше трудности.
Наполни мне еще полней
дорожным провиантом юности
корзину зрелости моей.
120. В тени платанов. Перевод Б. Пастернака
Да, я – труба родного города,
и быть иным не приучусь;
живой – я твое горло гордое,
умру – в твой корень превращусь.
1956
По обсаженной улице этой
я ходил молодою порой.
Под платанами два силуэта.
Это – мой, а второй – это твой.
Ты проходишь под ними, не глядя.
Ты идешь, не смотря на листву.
Очутившись опять в их прохладе,
я былое обратно зову.
Под стволами воронки в панели.
Камнем выложены их края.
Наши тени близ них уцелели —
вот моя, а вот эта – твоя.
Листья осенью прыщут, увянув,
облетает, лежит большинство.
Если срубят один из платанов,
в яму стану я вместо него.
Не платаны уходят, а время,
а платаны глядят ему вслед.
Я стою здесь с деревьями всеми
и тебе посылаю привет.
Я шаги твои раньше узнаю,
чем платаны начнут шелестеть.
Ты меня на панели у края,
как бывало, по-прежнему встреть.
1956








