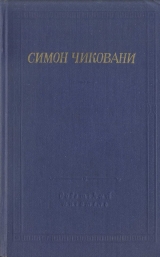
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Симон Чиковани
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
Глубинных тайников жилица,
она – не для житья вовне.
А строчке дома не сидится,
ей только жизнь на стороне.
…Мы взобрались до небосвода,
живем у рек, в степной дали,
в народе, в веянье народа,
в пьянящем веянье земли.
Мы лица трогаем ладонью,
запоминаем навсегда,
стихов закидываем тоню
и тащим красок невода.
В них лик отца и облик вдовий,
путь труженика, вешний сад,
пыль книг, осевшая на брови,
мегрельский тающий закат.
(«Приход рыбака»)
Мастером яркого «живописного образа»[10]10
Пастернак Борис, Письма друзьям. – Литературная Грузия, 1966, № 1, с. 80.
[Закрыть] назвал Борис Пастернак Симона Чиковани. Мы ссылаемся на оценку этого поэта, так как он в качестве переводчика, познавшего «секреты мастерства» переводимого поэта, смог точно определить главный признак его поэтического своеобразия.
Сам Симон Чиковани так писал о возможностях расширения средств поэтической выразительности: «…я и тогда думал и теперь полагаю, что умеренное вторжение в поэзию свойств живописи и музыки не является большой погрешностью… Я всегда стоял за расширение рамок лирической формы и отстаивал необходимость вторжения элементов высокой прозы в поэзию. Разумеется, свойства других искусств должны входить в лирическую поэзию так, чтобы они превращались в язык поэзии, и в этом смысле не должны являться повторением языка музыки или живописи.
Поднявшаяся на высокую ступень лирическая поэзия не избегает ни описаний, ни поэтического повествования».[11]11
Чиковани Симон, Мысли. Впечатления. Воспоминания, с. 114.
[Закрыть]
Нельзя не согласиться с этой мыслью (если, разумеется, не делать такую установку обязательной для всех). Поэтическая практика Галактиона Табидзе еще раз доказала, например, плодотворность использования в поэзии музыкальных приемов, а успешные опыты самого Симона Чиковани по внедрению в поэзию приемов живописи и прозы также говорят сами за себя.
Стоит отметить, что если в начале 30-х годов названные поэтом элементы стиля прорабатывались чисто изолированно друг от друга, в разных произведениях, то в его более поздней лирике они большей частью синтезированы, органически слиты в пределах единой лирической композиции стиха.
Кстати, о композиции. Насыщенность стихотворения метафорами определяет и своеобразие его композиции, основанной на принципах внутренней ассоциативности. Метафора помогает поэту связать историю с современностью, сблизить географически отдаленные края, обнаружить и подчеркнуть внутреннее родство между, казалось бы, весьма отдаленными предметами и явлениями. Там, где для установления подобных связей понадобились бы пространный лирический монолог или обширное причинно-мотивированное описание и повествование, метафора почти мгновенно достигает цели. Так, например, последовательная реализация одной-единственной метафоры (уподобление стиха подзорной трубе, с помощью которой поэты провидят будущее) дает Симону Чиковани возможность блестяще решить тему трагической судьбы царя-поэта Теймураза I в ее современном осмыслении.
В пределах единой лирической композиции стихотворения «Теймураз обозревает осень в Кахетии» оказались связанными Грузия XVII и XX веков, соотнесены картины природы и людские судьбы, Теймураз и сегодняшний колхозник. Какой лирический монолог или эпическое повествование могли бы дать столь наглядное, зримое, изобразительное решение этой задачи? В то же время именно в этом стихотворении осуществлено упомянутое выше сочетание метафорического строя с элементами живописной образности и «высокой прозы». Таков же принцип построения одного из более поздних произведений Симона Чиковани – «На польской дороге», открывший поэту возможность не менее блистательно решить сложнейшую лирико-публицистическую тему. Метафора связывает здесь такие отдаленные друг от друга образы, как снежная польская равнина, страница Воззвания о мире, белоснежная скатерть на столе вагона, где провозглашается тост за дружбу. Метафора сближает Волгу, Вислу и Куру, метафора переносит поэта к родному городу, метафора воскрешает на польской дороге образ отдаляющейся России.
Симон Чиковани – мастер замкнутой лирической композиции стиха. В этом отношении его творческий метод полная противоположность методу Георгия Леонидзе. Вспомним безудержную стремительность щедрого потока образов у Леонидзе, распахнутые двери его поэзии, шумное, бурное половодье слов, когда порою начинает казаться, что единственным композиционным принципом поэт считает отсутствие строгой композиции, и вспомним принципиальную установку Симона Чиковани:
Настоящий поэт осторожен и скуп.
Дверь к нему изнутри заперта.
Он слететь не позволит безделице с губ,
Не откроет не вовремя рта.
Как блаженствует он, когда час молчалив!
Как ему тишина дорога!
Избалованной лиры прилив и отлив
Он умеет вводить в берега.
(«Работа»)
Это вовсе не значит, что у обоих поэтов не было отклонений от этих однажды заявленных принципов. И Георгию Леонидзе приходилось вводить в берега прилив своего бушующего стиха, и Симону Чиковани приходилось распахивать двери своей поэзии под напором налетевшего чувства.
Наивно было бы ставить вопрос – какая установка, вернее, какой путь плодотворнее. Вся прелесть и все богатство поэзии именно в таком ее многообразии.
Мы до сих пор говорили о природе стиха Симона Чиковани, о своеобразии его поэтических образов, о той «подзорной трубе стиха», через которую он смотрит на мир. Каков же сам этот мир? Каков излюбленный предмет его поэзии, какова тематика и проблематика его творчества? Разумеется, пристально вглядываясь в образы поэта, мы не могли не заметить и того, что они отражают; изучая и оценивая оптику его «подзорной трубы», мы не могли не заглянуть в нее и не заметить предметов и явлений, на которые она была самим поэтом направлена. Здесь мы попытаемся сделать лишь некоторые обобщения, определить пространство его поэтического мира. И сразу же приходят на память строки поэта, как будто опровергающие правомерность такой попытки:
Я знаю —
ограничивать нельзя
свой кругозор условностью предела;
хочу, чтоб вечно множились друзья,
чтоб чувство дружбы бесконечно зрело.
…Парит орел над снежной синевой,
и, долгим взглядом провожая птицу,
я безграничным
край считаю свой,
как всей советской родины частицу.
Меня простор волнует и зовет,
мне дом любой
открыт по праву дружбы,
я слышу дома
шум днепровских вод
и на пути далеком
вижу тень от Ушбы.
(«Вторая приписка к книге»)
Однако если «свой кругозор» и впрямь не стоит ограничивать «условностью предела», уже само стремление к максимально возможному обзору явлений и событий является тем коэффициентом поэзии Симона Чиковани, который мы пытаемся найти. И как раз для того чтобы поэтически выразить неисчерпаемость интересов своего лирического героя, поэту нужно было найти совершенно конкретные, определенные (а следовательно, внешне ограниченные) образы, которые обладали бы вместе с тем достаточной внутренней емкостью для полнокровной творческой реализации этой принципиальной установки. Таким счастливым поэтическим образом оказался образ дороги.
И действительно, дорога в поэзии Симона Чиковани это не только дорога к берегам Куры и Черноморья, к вершинам Сванетии и Хевсуретии, к озерной глади Рицы и Севана, к долинным просторам России и Украины, к цветам за Одером и Вислой; это вместе с тем всегда и везде путь к сердцу любимой и к сердцу друга, к душе соотечественника и к душе зарубежного собрата. Дорога эта пролегает порою и во времени – ведет к прошлому и будущему родной страны, всегда имея, однако, в начале своем современность.
Как видим, дорога, избранная музой Симона Чиковани, действительно широка и не ограничена «условностью предела». При этом со всей определенностью следует подчеркнуть, что Симон Чиковани всегда был ярым противником поэтического верхоглядства. По его твердому убеждению, «для написания стихотворного цикла недостаточно впечатлений, полученных во время путешествия. Каждому путешествию, которое в будущем должно стать предметом поэтического воспевания, должна предшествовать предварительная духовная подготовка, и только в этом случае путевые впечатления органически входят в духовную биографию поэта. Без этого нельзя создать стихотворение большого общественного звучания… Даже для маленького лирического стихотворения требуется зрелость впечатлений, взятых из жизни и выношенных в глубине души. Если высокие чувства и мысли не успевают пустить корни в душе поэта, то вместо лирического раскрытия действительности мы часто видим только восклицательные знаки».[12]12
Чиковани Симон, Мысли. Впечатления. Воспоминания, с. 15, 18–19.
[Закрыть]
Только такая творческая установка обеспечивает действительную широту кругозора, дает возможность лирического раскрытия действительности, не замкнутого в каких-либо условных пределах, поможет увидеть также и подлинную безграничность своей Родины.
Симон Чиковани – поэт современности. Другой темы у него нет, и поэтому исторический материал находит у него весьма своеобразное воплощение. Нигде не найдем мы у поэта самодовлеющего эпического описания прошлого; оно всегда освещено современностью, и поэтому представлено в стихах Симона Чиковани как частица души современного человека. В таких стихотворениях, как «Теймураз обозревает осень в Кахетии», «Вардзийский зодчий», «Мастера-переписчики „Вепхисткаосани“», «У камина Важа Пшавела», «Николозу Бараташвили» и других, не просто рисуется вчерашний день, а проявляется сегодняшнее представление о вчерашнем дне. Такая установка определила впоследствии современное звучание и актуальность поэмы о Давиде Гурамишвили.
Как видим, история для Симона Чиковани не столько тема, сколько материал. Характерно также, что в отборе этого материала наблюдается определенная закономерность; поэта привлекает не так называемый «золотой век» грузинской истории, а трагические ее периоды, его интересует драматизм истории. Восприятие прошлого в его наиболее острых напряженных ракурсах, глубокое лирическое раздумье о нем – вот отличительные черты поэзии Чиковани, сообщающие его произведениям своеобразную монументальность.
Тут он продолжает в грузинской поэзии тему, открытую в таких шедеврах лирики XIX века, как «Гокча» и «Кавказ» Александра Чавчавадзе, «Прощание» Григола Орбелиани, «Мерани», «Я храм нашел в песках…», «Сумерки на Мтацминде», «Злобный дух», «Моя молитва» Николоза Бараташвили, «Пахарь», «Базалетское озеро», «Грузинке-матери», «Горам Кварели» и другие стихотворения Ильи Чавчавадзе. Во всех этих произведениях, по утверждению самого Симона Чиковани, присутствует «монументальность, то есть раскрытие внутреннего величия души в формах лирического стихотворения», и они, эти стихотворения, «оставляя впечатление совершенных архитектурных строений, возвышаются в сознании поколений, как великолепные памятники зодчества».[13]13
Чиковани Симон, Избранные статьи, Тбилиси, 1963, с. 206–207 (дословный перевод с грузинского Г. Асатиани).
[Закрыть]
Эти слова можно отнести и к замечательной исторической поэме Симона Чиковани «Песнь о Давиде Гурамишвили», написанной в годы войны – одному из своеобразнейших эпических произведений во всей советской поэзии. Симон Чиковани и здесь выступает новатором, создателем новой эпической формы: он вписывает себя в прошлое, совершает мысленное паломничество к нему, вместе со своим великим предшественником вновь проходит по тернистым дорогам «грузинских бед», исхоженным в свое время Давидом Гурамишвили:
Ты согрел мечтою книгу,
Облаком над ней пролился.
Жив твой стих, в степных зарницах
Вот он ливнем прокатился!
На живых твоих страницах
Я, как птица, опустился.
Где стоял ты одиноко
С опаленными крылами,
Я услышал издалека
Зов, бушующий как пламя,
И писал живого ока
Я кровавыми слезами.
Да, поэма Симона Чиковани – это «живым оком» подсмотренная судьба Давида и судьба Грузии. Как Данте, проходит Чиковани по всем кругам ада Давидовой жизни, и сам Давид выступает для него в роли Вергилия. Лирика это или эпос? И то и другое. Вернее, воссозданная средствами тончайшей лирики монументальная эпическая картина жизни и страданий великого грузинского поэта, первым в грузинской (а может быть, и не только в грузинской) поэзии создавшего лирический эпос – повесть о времени и о себе, о времени через себя и о себе через время.
Какую форму нужно было найти для воплощения такого замысла? Замысла, который должен был вместить в себя и лирический плач Давида, и эпическую ширь дорог, им исхоженных? И вот начинается «Песнь о Давиде», льются строфы – то обращение к Давиду, то дума о нем, то беседа с ним, то монолог самого поэта-страдальца… «Я», «ты», «они» чередуются в лирических и эпических главках поэмы, участвуя в живом, клокочущем, бурлящем потоке повествования, водоворот блестящих строф, вливающихся в русла исповеди, молитвы, оды, заклинания, беседы, раздумья, воспоминания, рассказа, элегии, притчи… Поистине неисчерпаемы внутреннее богатство поэмы и обусловленная им многогранность формы.
Гурамишвили был новатором грузинского стиха, и в первую очередь в области метрики, ритма, интонации. Симон Чиковани как бы считает себя обязанным следовать своему герою, достигая и в этом отношении ярких побед.
Какие основные проблемы волнуют поэта, взявшегося описать судьбу Гурамишвили? Это, во-первых, исступленная, всепоглощающая любовь к родине, дыхание «судеб Грузии», которым, вслед за поэмой Гурамишвили, овеяна и «Песнь» Чиковани. Своеобразие авторского замысла заключается в том, что, раскрывая патриотизм Давида Гурамишвили, поэт должен был в рамках лироэпического повествования найти способ воплощения своего патриотического чувства, рожденного сегодняшним днем республики.
Это, во-вторых, тема благородного братства и дружбы народов. И здесь своеобразие замысла заключалось в историческом и современном осмыслении этой темы: ведь в поэме два героя, живущих в разных столетиях, но ведущих беседу через хребты веков.
В сюжетно-фабульных тостах поэмы (в русском переводе они отсутствуют) эта тема решена в историческом разрезе (читатель помнит, что Гурамишвили провел две трети своей жизни на Украине). Так связывается в поэме далекое братство, воспетое Давидом Гурамишвили, с могучей дружбой, соединяющей народы сегодня, с дружбой, которая вдохновляла Симона Чиковани. В «Приписке к поэме» поэт вновь обращается к тени своего великого собрата:
Когда б ты небосвод увидел ясный,
Смеющееся вёдро наших дней
И обновленной Картли сад прекрасный,
Как ликовал бы ты в душе своей!
И дружбу Автандила с Тариэлом
В содружестве народов ты б узнал,
И в Зубовке Арагва бы гремела,
И в Мцхета б русский друг тебе предстал.
И ты б позвал: «Стихи мои, летите!
Ко мне, птенцы, слетайтесь в добрый час!
Не лейте слез – и слезы мне отрите!
Ведь родина с любовью помнит нас».
Интересен здесь и композиционный ход: если в первой главе поэмы автор «откликнулся» на зов Давида и временно поселился в прошлом, рядом со своим героем, то в заключительной главе Давид откликается на зов советского поэта, рассекает мглу веков и на миг становится нашим современником. Вновь оказываются рядом герои поэмы, но уже не на «пустынной тропе безнадежного скитанья», а под «ясным небосводом» «обновленной Картли».
И наконец основная проблема поэмы Симона Чиковани – философское осмысление духовной преемственности человеческого бытия, бессмертия человеческой мысли; мысль о поэзии как драгоценной нити этого бессмертия, способной приблизить далекое прошлое и соединить людей, разделенных веками.
Единственный философ, упомянутый в книге Давида Гурамишвили, – Эпикур, которому принадлежит мысль о том, что после смерти не остается ничего, кроме воспоминаний, и что только воспоминания даруют человеку бессмертие. Эта мысль поразительно близка философской концепции самого Гурамишвили. Так расшифровал Симон Чиковани смысл упоминания Давидом Гурамишвили Эпикура. Это очень глубокое наблюдение. Действительно, вся поэзия Гурамишвили проникнута мучительными поисками бессмертия, продолжения своей жизни в будущем, но не в религиозно-мистическом, а в преемственно-культурном смысле. И так же как преемственность рода обеспечивается продолжением рода – детьми, преемственность духа, считает Гурамишвили, обеспечивается его поэзией, его творением, его детищем. Он так и называет свою книгу: «мое дитя», «мой младенец», «моя сирота», «мой сын». Так он говорит и у Симона Чиковани:
Я, грешная душа, пускаюсь в путь.
Кому доверю в этом мире сына —
Печаль, переполняющую грудь?
Кто окропит слезой мои седины?
…Пусть мира злоба светоч мой гасила,
Не праздно в мире жизнь прошла моя.
Но жизнь, я вижу, – трапеза могилы.
Как о бессмертье мог подумать я?
Но по себе оставил я младенца,
Дал сыну сердце, голос, мысль свою,
Да встретит он счастливый дальний день свой
Средь будущих друзей в родном краю.
Пытаясь еще раз и с наибольшей концентрированной четкостью охарактеризовать творческий облик грузинского поэта, хочется прибегнуть к свидетельству поэта русского, глубже всех проникшего в «тайны ремесла» Симона Чиковани.
В свое время Борис Пастернак в статье, посвященной грузинской поэзии, дал такое определение «родословным связям» и внутренней природе творчества Симона Чиковани: «Образная стихия, общая всякой поэзии, получает у Чиковани новое, видоизмененное, повышенно существенное значение. Чиковани артист и живописец по натуре, и как раз эта артистичность, порядка Уитмена и Верхарна, дает ему широту и свободу в выборе тем и их трактовке.
Образ в поэзии почти никогда не бывает только зрительным, но представляет некоторое смешанное жизнеподобье, в состав которого входят свидетельства всех наших чувств и все стороны нашего сознания. Сообразно с этим и та живописность, о которой мы говорим применительно к Чиковани, далека от простого изобразительства. Живописность эта представляет высшую степень воплощения и означает предельную, до конца доведенную конкретность всего в целом: любой мысли, любой темы, любого чувства, любого наблюдения.
Чиковани – неслучайное и закономерное звено в общем развитии грузинской мысли. Сказочную замысловатость Важа Пшавела он соединяет с порывистым, всему свету открытым драматизмом Бараташвили».[14]14
Пастернак Борис, Несколько слов о новой грузинской поэзии. – Вопросы литературы, 1966, № 1, с. 171.
[Закрыть]
Драматизм, о котором здесь идет речь, с особой силой ощущается в таких лирико-философских монологах Симона Чиковани, как «Сказанное во время бомбежки», «Осколки глиняной чаши», «Метехи», «Начало», «Морская раковина».
Представим себе человека в чистом поле, над которым проносится вражеский самолет, ищущий мишень для своего смертоносного груза. Понятно и естественно любое движение жертвы, стремящейся (укрыться от беды. Но эта, ставшая в военные годы повседневной, картина в стихотворении Симона Чиковани осмысляется как общечеловеческая трагедия, как библейского масштаба противоборство жизни и смерти, высокий гимн в честь человека, рожденного жить и творить, истовая молитва в защиту жизни, творчества:
Познавший мудрость, сведущий в искусствах,
в тот день я крикнул:
«О земля моя!
Даруй мне тень!
Пошли хоть малый кустик —
простить меня и защитить меня.
…Я человек! И драгоценен пламень
в душе моей!
Но нет, я не хочу
сиять заметно!
Я – алгетский камень!
О господи, задуй во мне свечу!»
…Не за свое молился долговечье
в тот год, в тот час, в той темной тишине —
за чье-то золотое, человечье,
случайно обитавшее во мне.
(«Сказанное во время бомбежки»)
Этот монолог – обвинительная речь против всего, что смеет посягнуть на жизнь, на свободу и талант человека. И он же – защитная молитва, «охранная грамота» ему, казалось бы, беззащитному, но воистину могучему по силе своего духа. О нем, обладателе того чудодейственного дара, который, подобно морской раковине, вмещающей и сохраняющей в себе все отзвуки бесконечного океана, может обнять и увековечить все краски, все звуки, все чувства и мысли мира, поэт говорил и ранее, еще в довоенных своих стихах:
Я, как Шекспир, доверюсь монологу
в честь раковины, найденной в земле.
Ты послужила морю молодому,
теперь верни его звучанье мне.
…О раковина, я твой голос вещий
хотел бы в сердце обрести своем,
чтоб соль морей и песни человечьи
собрать под перламутровым крылом.
И сохранить средь прочих шумов – милый
шум детства, различимый в тишине.
Пусть так и будет. И на дне могилы
пусть всё звучит и бодрствует во мне.
(«Морская раковина»)
Жизнелюбие и мысли о бессмертии пронизывают творчество Симона Чиковани, определяя все движения его души, все физическое, духовное и нравственное существо поэта. Но это жизнелюбие особого рода – предельно, драматически напряженное, включающее в себя страх смерти и небытия. Мы видели, как отразилось это чувство в стихотворении «Сказанное во время бомбежки». А вот стихотворение-мольба, обращенная к неумолимой старости:
О старость, приговор твой отмени
и детского не обмани доверья.
Не трогай палисадники мои,
кизиловые не побей деревья.
Позволь, я закатаю рукава.
От молодости я изнемогаю —
пока живу, пока растет трава,
пока люблю, пока стихи слагаю.
(«На набережной»)
Изнеможение от молодости, от полноты жизни, от творчества и чудотворства, вечное предвкушение начала, возникающее даже в те мгновения, когда перо, казалось, выпадает уже из рук, это и есть талант жизни, который оказывается и талантом поэтическим. Об этом Симон Чиковани говорил в своих творческих декларациях: «…поэзия всегда является чудесным результатом непростой, напряженной драматической встречи поэта и мира, искрой, высеченной при их столкновении, независимо от того, гармония или конфликт связывает поэта с миром. Лишь равнодушие неспособно высечь эту искру, т. е. неспособно к зачатию стиха».[15]15
Чиковани Симон, Мысли. Впечатления, Воспоминания, с. 23.
[Закрыть]
Встреча Симона Чиковани с миром высекла несгорающее пламя поэзии – высокой и благородной, сильной и здоровой духом, молодой и человечной:
О стихи, я бы вас начинал,
начиная любое движенье.
Я бы с вами в ночи ночевал,
я бы с вами вступал в пробужденье.
(«Начало»)
Своеобразие поэтического искусства зрелого Чиковани состоит не во внешнем блеске слова. Его поэзия как бы упорно вовлекает нас вглубь, в свои недра. Главная, решающая роль принадлежит здесь внутренним формам стиха, поэтической живописи, своеобразной системе пластических образов.
Творческая мастерская Симона Чиковани чрезвычайно богата разнообразнейшими средствами и способами выражения. Перу поэта принадлежат многие произведения, привлекающие оригинальным мелодическим звучанием и оркестровкой стиха. Но с точки зрения поэтического искусства особенно значительны в творчестве Чиковани именно формы художественной, в собственном смысле слова, выразительности.
Это обстоятельство неоднократно отмечалось исследователями и ценителями его поэзии.
Следует подчеркнуть, что Симон Чиковани был одним из лучших знатоков классической и современной живописи среди грузинских литераторов нашего времени. Ему было свойственно оригинальное восприятие многих старых и современных мастеров кисти, и он всегда был готов с увлечением говорить об их искусстве. Но те, кому случалось хотя бы несколько раз беседовать с поэтом, легко могли заметить, что с особой заинтересованностью относился он к творчеству французских художников нового времени.
Правда, по своим эстетическим воззрениям Симон Чиковани стоял на позициях прямо противоположных по многим принципиальным вопросам импрессионизму, но можно сказать, что своеобразная живописная манера Моне и Писсарро, как и все творческое наследие французских художников конца прошлого столетия, имела важное значение для его поэзии.
В этом отношении примечательно не только то обстоятельство, что как в своих ранних стихотворениях, так и в поздних Чиковани часто обращался к излюбленной импрессионистами натуре (стога сена на солнце, дождь, город во время дождя и т. д.).
Строки Симона Чиковани порой легко узнать даже вне контекста по некоторым внешним признакам. Характерно, например, что он особенно часто прибегает к метафорам и сравнениям (построенным на неоднократно повторяемом союзе «или»), которые вызывают у читателя многослойные образные представления.
Такое богатство поэтических ассоциаций вызвано обостренным восприятием живописных оттенков «предмета».
Метафорическая система Симона Чиковани, в отличие от образного строя классической лирики, лишена строгой простоты и гармоничности, поскольку главная цель поэта – не гармония и четкость, а обилие оттенков и их сочетаний. Многие его поэтические картины, как и знаменитые полотна импрессионистов, писаны «на пленэре» и сохраняют чудесное богатство живых красок природы.
Однако именно здесь наиболее ярко проявляется одна особенность, которая резко отличает художественную манеру поэта от импрессионистской живописи. Симону Чиковани совершенно чужда присущая творчеству импрессионистов подчеркнутая мягкость красок, спокойные, несколько затуманенные тона, а также специфическая зыбкость рисунка. Чиковани-художник, как правило, подбирает резко контрастные сочетания, ярчайшие оттенки, которые не сливаются, а, наоборот, как бы сталкиваются, борются друг с другом и таким образом создают совершенно особое настроение.
Характерно в этом отношении одно из последних стихотворений поэта – «Переход через Гомбори», с его столпотвореньем «хрупких светотеней, слепящих красок и кромешной тьмы».
Следует также отметить, что для Симона Чиковани не меньшее значение, чем цвет, имеют пластические свойства предмета.
Ничего общего с «чистой живописью» не имеет, в частности, неоднократно повторяющееся в его стихах сравнение солнца с оленем. Здесь, как и во многих других его поэтических образах, перед нами – ярко выраженная «скульптурная» манера видения и воплощения реальных впечатлений.
Главная же особенность творчества Симона Чиковани состоит в исключительно острой и динамичной манере поэтического отображения мира, что в большинстве случаев придает его полотнам или даже простым («живописным», «скульптурным» или «графическим») эскизам отчетливо экспрессивный характер.
В поэтическом искусстве Симона Чиковани изобразительность никогда, в сущности, не имеет самодовлеющего характера. Внешняя действительность, «мертвая» или «живая» природа интересуют его не как предмет для описания, а как материал для лепки поэтических образов, конечная цель которых состоит не в достижении живописного или скульптурного эффекта, а в наиболее полной передаче переживания и мысли.
Обилие контрастных красок передает сложную гамму духовного мира поэта. Многообразие внешних изобразительных средств обусловлено внутренним многообразием его впечатлений.
Симон Чиковани – поэт аналитического мышления, один из тех современных мастеров, которые отличаются обогащающим поэтику XX века обостренным вниманием к детали, к составным частям целого; один из тех, в чьем творчестве наиболее четко выразился характерный для современного поэтического искусства интерес к конкретному, частному. «Обостренное приглядывание к вещи» и соответствующий «крупный план» (определения Ю. Олеши) лежат в самой основе образного строя поэзии Симона Чиковани.
Трудно назвать другого грузинского поэта наших дней, который бы так мастерски умел выявлять скрытую значительность и многозначность явления, узреть в мельчайшей частице внутреннюю полноту и масштабность бытия. Поэтической детали предоставлена важнейшая роль в его стиле. Здесь можно было бы привести множество отдельных образцов, но у Симона Чиковани есть целый ряд произведений, целиком построенных на таком принципе (в их числе уже рассмотренные нами стихотворения «Старинные часы», «Морская раковина», «Гнездо ласточки» и др.).
Мысль поэта, как правило, развертывается от единичного к универсальному, от малого к монументальному, и внутренний пафос его исканий (как и у автора бессмертного «Мерани») очень часто представляет страстный порыв к преодолению «пространства» и «времени».
В ряде случаев эта особенность приобретает характер столь явной художественной тенденции, столь очевидного тяготения к определенному кругу образных представлений, что очень трудно удержаться от искушения рассматривать ее как некую национальную черту.
Симон Чиковани принадлежит к числу тех советских поэтов, с именем которых связано обогащение языка поэзии мотивами и образами широкого «эпического» содержания.
«Ты тяжела, как мой стих!» – восклицает он в одном из своих посвящений. И впрямь его стих очень редко привлекает внешним изяществом или легкостью слога.
Стих Симона Чиковани требует от читателя определенного художественного чутья, особой чувствительности к ходу поэтической мысли, способности к домыслу и воображению.
Его строка, как ствол лозы в пору созревания, отяжелена гроздьями полнокровных, налитых драгоценным соком образов. Это – плоды поэтически овеществленных раздумий и душевной щедрости.
Вопрос о сложности и простоте искусства по-разному решался поэтом на различных этапах его творчества. Мы не будем возвращаться к ранним экспериментам Чиковани – поэтического лидера «Левизны». Как мы знаем, со второй половины 20-х годов взгляды поэта на соотношение формы и содержания изменились. Сложность зрелых произведений поэта уже совершенно иная. Это сложность, глубина и богатство поэтического мышления, требующие адекватных форм выражения. Симон Чиковани по природе своей поэт не мелодический, ему не очень близка мелодическая прозрачность и простота напевно-песенной лирики (хотя и в этой области создано им несколько прекрасных образцов, свидетельствующих не столько об его склонности к этому жанру, сколько о мастерстве, способном осилить и эту задачу). Поэт не раз ставил перед собой вопрос: не придать ли своему стиху большую простоту, не пойти ли навстречу вкусам и пожеланиям известной части читателей по пути для многих привлекательной легкости и безыскусственности. Но чутье ему верно подсказывало, что не в этом направлении должна пролегать его поэтическая дорога, что муза его призвана решать иные задачи, свойственные его таланту, его творческой натуре. Иногда эти раздумья выливались и в стихи:
Над водой тростник склонился,
Тень на озеро легла…
Вдруг читателю на милость
Станет песнь моя легка?
Буду прост и односложен,
Всем доступен, скромен, тих,
И любой прохожий сможет
Отпереть ключом мой стих.
…Опечален и рассержен,
Сам себе я стану мстить…
Ну, а сердце? Разве сердце
Мне в строку тогда вместить?
(«У озера»)
Это стихотворение любопытно и в том отношении, что являет собою опыт своеобразной «тростниковой» поэтики, максимально «легкого» и «прозрачного» стиха. Поэт как бы говорит: вот видите, я могу писать и так, но судите сами, могу ли я вместить мой поэтический мир только в поэзию озер и чащ, камышей и аистов? Нет! Мой путь – иной. И если говорить о простоте, то надо говорить о простоте высокой, которая является результатом сложнейших творческих поисков.
В одной из своих теоретических статей, специально посвященных этому вопросу, Симон Чиковани писал:
«Простота или сложность образной системы целиком и полностью зависят от идейно-творческой задачи, стоящей перед писателем…
Дело, разумеется, не в большей или меньшей сложности. Неудача (как и удача) может ждать поэта в работе и над „простым“ и над сложным стихом. Главное – найти правильное, наиболее выразительное поэтическое решение конкретной идейно-творческой задачи, стоящей перед тобой. Именно тогда приходит „высокая простота“ – она в соответствии формы содержанию…








