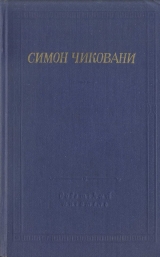
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Симон Чиковани
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
Стремление к доступности и популярности не означает нарочитого упрощения поэтической формы и, следовательно, обеднения поэтического мира. Все это не имеет ничего общего с подлинной простотой и народностью. Путь к народности подобен преодолению горного подъема, ведущего к вершине, с которой мир открывается во всей его ясности и высокой простоте».[16]16
Чиковани Симон, Мысли. Впечатления. Воспоминания, с. 21–22.
[Закрыть]
Для Симона Чиковани творческий акт – не безболезненное, продиктованное мгновенным порывом или неожиданным озарением действие, но внутренне сложный и противоречивый процесс, который требует мобилизации и всех душевных сил, и всего духовного, интеллектуального опыта.
Правда, не были чужды поэту и состояния, когда, как писал он в стихотворениях «Приход рыбака» и «Работа», на него «мыслей вихрь нахлынул нежданно…» и когда он «сдержать налетевшего чувства не мог».
Но не случайно Симон Чиковани редко доверяется поэтической импровизации и порой на протяжении десятилетий вновь и вновь возвращается к однажды написанному, дополняет и обогащает его.
И еще: истинный смысл творчества, в его представлении, подразумевает не только непосредственное поэтическое воплощение собственных переживаний, наблюдений, порывов и дум, но и своеобразную перекличку с непреходящими, вечными образами поэзии.
Исключительно богатая система образов, созданных Симоном Чиковани, разработанные им оригинальные художественные способы выражения сами по себе являются высокой эстетической ценностью. Еще более примечательны в них попытки реализации тех огромных возможностей, которыми обладает грузинская речь.
Неудивительно поэтому, что наша литературная молодежь с особым профессиональным интересом относится к творческому наследию поэта.
Утверждение нового в искусстве всегда было связано с определенными болезненными процессами. Камнем преткновения здесь служило и противодействие литературной инерции, и сопротивление самого «материала», который надлежало отлить в непривычные формы.
По-настоящему современный поэт не может быть гарантирован от крайностей и промахов, поскольку он занимается не шлифовкой уже открытого и утвержденного, а постоянным поиском неизведанных граней поэтического материала.
Зато лишь он вправе сказать о своем искусстве: «Поэзия – вся! – езда в незнаемое!»
* * *
Несколько слов о Чиковани-литераторе, а также о человеке.
Мало сказать, что он был блестящим литератором, редким знатоком искусства, безошибочным ценителем художественного произведения. Он принадлежал к тем мастерам своего дела, которые способствуют движению литературной мысли, расширяют рамки эстетических интересов и представлений общества, открывают новую перспективу.
Именно ему было суждено сыграть на рубеже 50–60-х годов значительную роль в обновлении литературной атмосферы, и все, что сделано значительного и по-настоящему нового, в частности, в грузинской литературной критике второй половины нашего столетия, отмечено печатью его редчайшего дарования – талантом искателя, первопроходца, покорителя новых рубежей.
Выступления Симона Чиковани (имеются в виду его статьи, напечатанные во второй половине 50-х годов) дали толчок целому движению в грузинском литературоведении.
Его пример говорил молодым литераторам, начинавшим тогда свою жизнь в искусстве: общие места и стереотипы уже безнадежно изжили себя, надо искать и открывать (а это не просто) то, что в литературе составляет ее живую душу, обнаружить внутренние закономерности литературного процесса, следует всегда помнить о неповторимости художника, об уникальности его таланта, его призвания, способов его самоутверждения в искусстве.
Симон Чиковани – автор исторической (в полном смысле этого слова) статьи о Тициане Табидзе, которая, по нашему глубокому убеждению, является новой вехой в истории грузинской советской критики.
В обращении, в своих отношениях с окружающими Симон Чиковани был предельно прост.
Он был одинаково непримирим и к банальности, и к фальши. Свобода и естественность его поведения, раскованность манер, несколько небрежное отношение к внешней стороне всего, что он делал, как двигался, жестикулировал, изъяснялся, свидетельствовали о ненависти ко всему псевдозначительному, напускному, жеманному.
И вместе с тем «артистизм», «внутренняя артистичность» были чуть ли не самыми высокими эпитетами в его словаре.
Симон Чиковани умел как-то удивительно смеяться. Его почти детский смех был особенно привлекателен потому, что так смеялся не беззаботный, простодушный, а много видевший на своем веку, переживший большие внутренние потрясения, мудрый в полном смысле этого слова человек.
Еще живут и здравствуют люди, которые хорошо помнят, как смеялись некоторые их современники-поэты. Они помнят внезапную вспышку света на лице Галактиона Табидзе, влажные от смеха глаза Георгия Леонидзе, гулкий, сотрясающий грудную клетку смех Пастернака, скрытые огоньки в зрачках Николая Заболоцкого…
Думается, что этот смех, способность так смеяться помогли им многое пережить. Не только потому, что они сохранили в себе способность смеяться над смешным, нелепым, смехотворным и тем самым ограждать себя от всего этого. Но и потому, что они умели видеть в жизни то, что является источником радости, веселья, бодрости духа. Потому что это был чаще всего смех восторга.
Симон Чиковани, например, мог смеяться до слез, когда ему что-нибудь по-настоящему нравилось – острая мысль, неожиданное сплетение слов. Он долго смеялся и тогда, когда кому-нибудь удавалось его переспорить.
Симон Чиковани был из тех счастливых людей, которые умеют радоваться простым радостям жизни. И он умел зажигать окружающих, обращая их внимание на эти важные мелочи жизни, учил находить в них радость.
Предельная простота в обращении с людьми естественно сочеталась у него с этими качествами.
Кайсын Кулиев писал: «Симон Чиковани был мудр, эмоционален».
Сказано просто. Как будто это одно и то же. Так оно и есть! У настоящих поэтов мудрость и эмоциональность – нерасторжимые качества.
Перефразируя известное высказывание Пушкина о Баратынском, Симон Чиковани писал о Николозе Бараташвили, что тот свои мысли смог превратить в чувства. Это классическая формула, которой могли бы руководствоваться многие современные литераторы, ратующие за философичность или интеллектуальность поэзии. Потому что там, где нет следов настоящей мысли, напрасно искать интеллектуальное начало. А там, где энергия мышления не перешла в энергию чувства, нет самой поэзии.
У Симона Чиковани душа была тонкая, чувствительная.
Но он не сторонился жизни. Как и многие большие советские поэты, он всегда находился в самой гуще событий.
Каждый раз он находил свой ключ к самым разнообразным явлениям и раскрывал то, что другим не удавалось увидеть и понять.
Так он относился и к духовным ценностям современности.
Симон Чиковани видел и понимал в явлениях искусства самое сокровенное – он понимал код культуры, всем своим существом ощущал движение эстетических идей, перипетии этого движения. Поэтому он мог различить их скрытые переплетения, взаимообусловленность, контрастность, альтернативность, и в этом он был неподражаем.
Судьба не очень баловала этого человека, и он был не из тех поэтов, которые сразу добиваются признания и потом всю жизнь плывут на теплых волнах читательской любви.
Однако мир образов и идей Чиковани таков, что он все глубже втягивает в себя человека, однажды прикоснувшегося к нему.
«Художник, подобно дереву, растет всегда – до самой смерти», – пишет он в автобиографии.[17]17
Советские писатели. Автобиографии, т. 2, с, 630.
[Закрыть]
Хочется развить эту мысль: Симон Чиковани из тех поэтов редкой судьбы, значение которых растет и после смерти.
Приятно сознавать и верить, что многие, очень многие поколения людей найдут источник особой радости в этом мире – в прекрасном, немеркнущем мире Симона Чиковани.
Г. Асатиани †
Г. Маргвелашвили
СТИХОТВОРЕНИЯ
РАННИЕ СТРАНИЦЫ
1. Под дождем. Перевод С. Спасского2. В поисках тени. Перевод Е. Евтушенко
Мы двигались к югу от гор.
Черный ворох
туч с запада вырвался.
Неба простор
обрушен.
Он в стон превратился и в шорох.
И гулы дождя разбрелись между гор.
Мы замерли.
Мы напряглись, будто стебли.
Мы – стрелы травы на полях.
Далеки
от крова дерев.
Струны бури окрепли
под ветром.
Звон капель – как песня тоски.
Нас бьют эти тяжкие слезы.
И тучи,
сгустившись, нисходят с высот.
Но молчи.
Дай руку и вслушайся.
Будто тягучий
из далей доносится плач кяманчи.
Мокры эти струны.
И что тут вначале?
Дождем ли развернута грусть.
Или речь
дождя —
порожденье шуршащей печали.
Мы вымокли.
Как мне тебя уберечь?
Дорога вся в шелестах.
Небо сырое
внедряется в душу.
Нет, мы не горды.
Хрупка ты
в сравненье с дождем и горою.
Вся вздрагиваешь от холодной воды.
Поля принимают пустыми глазами
мрак облачный.
О, если б дождь, уходя,
тоску мою взял!
Кто-нибудь за горами,
наверно, заждался такого дождя.
А он словно плащ по полям.
Прогони же,
день, эту унылую непогодь с круч.
Вот ветки и те нагибаются ниже,
мечась: «Мы хотим быть сухими, как луч».
И капли колотят листов оперенье,
алмазами прыгают.
Где мы идем?
Мы слепнем.
Что наше бессильное зренье?
Как спрятаться телу под этим дождем?
Нам нужно стать шелестом листьев.
Родная,
спаси меня!
Грозно ненастье.
Но там
вскрывается небо, присоединяя
свою синеву к возбужденным листам.
И нас утешает дорога.
И капли
стекают с одежды.
Скорее бы вновь
просохнуть.
Мы в поле от бури ослабли,
но не ослабела от бури любовь.
Прямым кипарисом воздвигнуто тело
твое.
Оно движется.
Грузную мощь
пространства и дождь оно выдержит
смело,
но я виноват, что завел тебя в дождь.
Приблизься ко мне.
Обними.
Дождь влачится
еще.
Только совесть со мною и ты.
Ты вымокла вся до последней частицы,
до атомов нежности и чистоты.
О, если б, насытясь ненастьем, я бездны
исследовать бросил…
Мы шли вдоль полей.
И шли облака по дорогам небесным.
Шел пар от пылающей кожи твоей.
И влажное платье к ногам прилипало.
А день умирал у твоих каблуков.
И небо просило прощенья.
Устало
отары брюхатых влеклись облаков.
Лишь мы еще в мире мокры.
И не скоро
мы станем сухими, как были вчера.
Нам дождь, будто ветер, пронизывал поры.
Просторы стонали.
Чернела гора.
1925
Зачем ты так? Зачем ты это сделала?
В Манглиси ты, как дерево, росла,
ты тень свою дарила мне, как дерево,
и тень свою с собою унесла.
В твоей тени я всё тебе выкладывал.
Свои надежды, молод и упрям,
пристраивал, как лозы виноградные,
к высоким и раскидистым ветвям.
Но эти ветви были только маскою,
и вот расстались, не простившись, мы.
С тобой зима была такая майская,
а нынче май – как пасынок зимы.
Я крепостью на скалы и расселины
гляжу над одичалой крутизной,
и, как знамена, пулями простреленные,
мои раздумья реют надо мной.
Мрачнеют башни, в облака одетые,
и бродит ворон, черный, как монах,
и твое имя, от тебя отдельное,
порхает в развалившихся стенах.
Мне чудится, что ржанье где-то слышится,
и я навстречу ржанию иду,
иду, и горы в сумерках колышутся,
как бы горбы верблюжьи на ходу.
Исполненный величья и ничтожества,
несчастный и счастливый вместе с тем,
внизу – я вижу – город суматошится…
Кому ты даришь в нем сегодня тень?
А ты всё дальше, за хребты последние.
Остановись! На север не спеши!
Любовь моя такая малолетняя,
но ведь она – росток моей души.
Душа кричит и плачет, обезверенная.
Себя я на плечах своих тащу,
грущу, и сам, как тень твоя потерянная,
потерянную тень свою ищу.
Я по тебе тоскую, как по юности.
Тебя вернуть, как юность, я хочу.
Сначала я кричу, потом пою уже,
но не пойму – пою или кричу.
3. Описание весны и быта. Перевод П. Антокольского
Взбираюсь на вершину, мхом поросшую.
Печально птицы слушают меня…
Но ты – ты слышишь песнь мою, похожую
на ржанье одинокого коня?!
1926Тбилиси
Вот комната. Солнце. Жилое тепло.
Зеленое пекло в распахнутых окнах.
В еще не проветренном мире светло.
Он плавает в матовых ватных волокнах.
Вот важная мудрая кошка в лучах.
В оранжевых отблесках книги и кресла.
Слежавшийся мир. Человечий овраг.
Опять это вылезло. Снова воскресло.
Поэт проклинал свою комнату. Но
за это ему и платили дороже.
Но сердце поэта прогоркло давно
и стало на комнату очень похоже.
Бывало, оно воевало, круша
прогорклую кухню жилого адата.
Тут первый мятеж начинался когда-то,
тут первое слово сказала душа.
Но корни пустили и гнезда мы свили,
боялись, как нянек, домашних тишин,
и – словно традицию Бараташвили —
поставили стол, и тахту, и кувшин.
И демон, белесый как гипсовый слепок,
по комнатам ходит. И колокол воет:
«Не тронь, революция, этого склепа!
Не двигай вещей! Не ломай бытовое!»
Поэты, не тратьте на опись чернил.
Изменим страну и обрушим гранит.
Но комнатный демон лицо сохранил.
И комната рухлядь свою сохранит.
Иль дайте ей визу, на Запад отправьте —
к лжецам-эмигрантам, к поэтам без тем.
Отправьте к изменникам собственной правде —
на Запад, на Запад – и к черту затем.
Вот в комнату входят и небо и пихта,
влетает луна вместо маленьких ламп.
Поэт! Если ты не потомок каких-то
прапрадедов – сердце разбей пополам,
на две половины, и выкинь одну!
Останется лучшая, верная в бое.
И комната лопнет в прожилках обоев.
И книги ей тоже объявят войну.
И время ей бросит «прощай», уходя,
и ласточек горсть, и последний звоночек
у двери, и листья, и капли дождя.
Так время с одной из жилых одиночек
простится, на волю навек уходя.
4. «Набери мне ежевики в мой кувшин…» Перевод В. Бокова
Помогут ей ласточки, незаселенной,
поможет ей солнце, пустой и большой.
Поэты придут из деревни зеленой
бороться с ее постаревшей душой.
1927
Набери мне ежевики в мой кувшин,
Но только знай,
Он не зря стоит в сторонке,
У кувшина стенки тонки,
Хрупок он – не поломай!
Набери воды холодной в мой кувшин,
Но не забудь,
Мне идти еще далеко,
Береги его ты стойко,
Чтобы в целости вернуть.
5. «Утром спелых гроздьев нарежу…» Перевод В. Бокова
Вся ты светишься, сияешь,
Как немятый снег вершин,
У ручья с ручьем играешь,
Наполняя мой кувшин!
Утром спелых гроздьев нарежу,
В полдень выпью вина молодого,
Вечером с жизнью посоревнуюсь,
Ночь отдам поединку со смертью.
Но не отдам свое сердце старухе!
Я сберегу его для свиданья
С дымом домашним, со сказками детства,
С кровлей родительскою, родной,
6. Отжившему поэту. Перевод А. Корчагина
Скажет постель: «Твой отдых заслужен.
Твой талисман неподкупно надежен».
И засну я легко и блаженно,
Утро вечера мудренее!
Ты дупло гнилое. Я выточен из стали,
Ты поклонник лиры дряхлой, неродной,
Свой народ любя, я хочу ему оставить
Острые слова, что веют новизной.
Крепкокрылый, звал я к стремительным полетам,
И взметнулась радость, словно щелкнул кнут,
Причастившись кровью эпохи, о далеком
Я мечтал… Я вижу, как поля цветут.
Мелок ты, и жилы у тебя водянисты.
Пурпур наших дней не по твоим глазам.
Ты, пригрет чужбиною, в злобе стал неистовым…
Мой народ забудет всё, что ты сказал.
Голосом иным – молодым, правдивым, страстным
В бешенство привел я всех друзей твоих.
Прославляю мужество и люблю пространства…
Моему народу – мысль моя, мой стих.
Кто к болотам тянется, к тростникам под ветром,
Душу увяданья желтизной облив, —
Ни во что, как я в свою цель, он не уверует,
Не любил, как я, он плотности земли.
Не пленен я статикой линейною греков,
Мне не нужны маски, париков туман.
Новый голос мой – пусть я взял его от предков —
Не для твоего угасшего ума.
Выброшен ты жизнью, заезжен, будто кляча.
Стряпать стих пытался ты на старый лад.
Ты в борьбе со мною не выдержишь горячих
И разящих слов: бессилен твой булат.
С классом боевым я иду вперед упорно,
А твоя дорога – глохнуть и неметь.
И сложу я песни, манящие просторами.
Их народ, тебя забывший, будет петь.
7. Письма. Перевод А. Межирова
Ты дупло гнилое. Я выточен из стали.
Враг своей страны, живешь ты клеветой.
Лира твоя чахнет, а я в стихах оставлю
Отраженье мысли, острой и простой.
1928
Как спокойно и просто
ты письма мои возвратила.
Я любовью и нежностью
вскармливал эти листы,
на которых уже
выцветать начинают чернила,
но цветешь и не вянешь
и прелестью светишься
ты.
Жаль мне писем обиженных.
Бедные эти страницы
прижимаю к груди —
слышу голос воркующий твой.
Запоздалая ревность
на прошлое тенью ложится,
повергает в смятенье,
крадется усмешкой кривой.
Расклевали птенцы
сердцевину заветного слова.
Удрученное сердце
пред горем повергнуто ниц.
Я вконец разорен.
Не осталось богатства былого.
Увядают без влаги
апрельские листья страниц.
Где богатство мое?!
Полюбились мне тени заката,
никну солнцем вечерним
в тускнеющую синеву.
Письма вместе с мечтами
заброшены мною куда-то,
вместе с ними я выбросил
розы, лозу и траву.
Было даже письмо
с деревенскою кроткой луною,
но теперь и ее
не найду и назад не верну.
Я друзей потерял,
или письма потеряны мною,
или по мосту ветер
мою угоняет весну.
Уповаю на возраст,
который поможет мне вспомнить
всё, что в письмах потерянных
было, осталось и есть,
восстановит, проявит,
любые пробелы восполнит,
обессмертит любовь
и позволит ее перечесть.
Память наглухо запер
и думами дверь опечатал,
и того лишь страшусь,
что затерянных писем листы
кто-то третий нашел
и в укромное место запрятал,
чтобы к юности нашей
ни я не вернулся, ни ты.
8. Прощание с молодостью. Перевод Б. Брика
Я вконец разорен,
а вдобавок еще и ограблен.
Но искать не устану,
от поисков не отойду.
Каждый год по весне
лепестками белеющих яблонь
листья писем забытых
в твоем опадают саду.
1932
Я помню дерево,
Чья жизнь отшелестела
Под топором отца
В дни юные мои.
Глухим стенанием
Подрубленное тело
Просило помощи
У матери-земли.
Во мгле предсмертия,
В томлении глубоком
С тех пор, усопший ствол,
Наследую тебе
И вижу, молодость
Теряя ненароком,
Что не поможет мне
Никто в моей судьбе.
Звенит листва твоя
В моих четверостишьях
О горькой участи,
Что людям суждена,
О том, что жизнь моя
Вершин достигла высших
И в двадцать восемь лет
Склоняется она.
Хотел я все мосты
Взорвать перед собою,
Пегаса вскачь пустить.
Оставить бытие…
Не наделили нас
И коркою сухою,
Пылающей мечты
Сломалось лезвие.
Хоть плакать мог, как все,
Когда-то я над этим
И сердце бередить
Певучею стрелой.
Но ты, печаль, была
Отвергнута столетьем
И голосом глухим
Влилась в ветряный вой.
Одушевленное,
Едва мерцает пламя,
Заржавели на мне
И шлем, и меч, и щит…
Так раненый орел
О землю бьет крылами,
Пока в смятении
Всех сил не истощит.
Кто взглянет холодно?
Кто горю не поможет?
Ведь фосфор песенный
В краю земном не част…
Но стороной пройдет
Какой-нибудь прохожий
И руку помощи
Мне в горе не подаст.
Что ж? Если так – умри,
Отрада молодая,
Умри, безумствуя,
Досадуя, скорбя,
Как буйволы вершин,
Что роют, умирая,
Рогами острыми
Могилу для себя.
Ты говоришь мне, стих,
Суровый и отважный:
«В кости недужной смерть
Гнездиться начала.
Так угасает день,
Как угасал вчерашний,
И так восходит он,
Как восходил вчера».
А если и любви,
Что есть по крайней мере,
Не оправдает жизнь —
Навек померкнет взор,
Как драма странная,
Умолкшая в партере,
Как бурей на море
Потопленный линкор,
Что ж? Если так – крепись,
Мой стих, мое созданье,
И, озарясь, звени,
Блестящий и стальной,
Чтоб раздались опять
И хохот и стенанья,
Чтобы сразить врага
Железною строфой.
С породистыми ты
Воспитан скакунами,
Ты, стих мой, – ветер, смерч —
Как хочешь, назови!
Со стен столетия
Свисающее знамя —
Огонь твоей, мой стих,
Пылающей крови.
Пускай изменчив ты,
Пускай грешишь порою
И предаешь меня,
Как пес, – да, предаешь,—
Но знаю, что спасешь
Меня в минуту боя,
Когда на жизнь мою
Враги отточат нож.
Скрепись, душа моя,
И бейся всё бесстрашней!
Скрепись же, кость, и ты!
Судьба еще щедра:
Не так темнеет день,
Как угасал вчерашний,
Не так восходит он,
Как восходил вчера.
Умри же, старина,
Умри во мне, седая,
Чтоб юность долгую
Познал я, жизнь любя,
Умри, как буйволы,
Что роют, умирая,
Рогами острыми
Могилу для себя!
Я вспомнил дерево,
Чья жизнь отшелестела,
Летами юная,
В родимой стороне.
И отзвучавший стон
Подрубленного тела
Изнеможением
Откликнулся во мне…
Что ж! Если так – крепись,
Мой стих, мое созданье,
И, озарясь, звени,
Блестящий и стальной,
И радуйся весне,
Преодолев стенанья,
Чтобы сразить врага
Железною строфой!
1930








