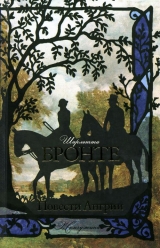
Текст книги "Повести Ангрии"
Автор книги: Шарлотта Бронте
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
Город Заморна в теплую пору чрезвычайно хорош. Общественные здания сплошь новые, отменно красивой архитектуры и выстроены из белого камня. Главные улицы широки, лавки на них – щедры и оживленны, дамы, гуляющие по мостовым, разряжены богато, как жены и дочери зажиточных торговцев, и в то же время изысканно, ибо провинция Заморна весьма аристократична. В атмосфере города почти всегда ощущается некое волнение. Жители его, подобно живой массе обитателей муравейника, вечно куда-то стремятся, а всего эта суета заметнее на Торнтон-стрит, где по одну сторону расположилась гостиница «Стэнклиф», по другую – здание суда.
Было 19 марта, вторник. Погода стояла отличная, солнце жарко светило с голубого неба, а гряда серебристых облаков на горизонте предвещала короткий весенний ливень. Час назад прошел дождь, но свежий ветер уже высушил улицы, и лишь кое-где на отмытых добела мостовых поблескивали редкие лужицы. Чувствовалось, что за городом зеленеет трава, деревья набухли почками, а в садах золотятся крокусы. Заморну, впрочем, как и ее обитателей, мало заботили эти сельские радости. Вторник здесь – ярмарочный день. Торговые ряды были забиты до отказа. В «Гербе Стюартвилла», в «Шерстяном тюке» и в «Восходящем солнце» повара стряпали праздничный обед, а официанты сбивались с ног, разнося бренди, стаканы с разведенным джином и бутылки северного эля.
Спокойная в своем аристократическом величии, гостиница «Стэнклиф» свысока взирала на торговую суматоху. Впрочем, там тоже царила суета, хоть и необычного рода. Разумеется, господа, входящие в роскошные двери гостиницы, держались и выглядели иначе, чем коммивояжеры с рыжими бачками и чертыхающиеся фабриканты в трактирах рангом пониже. По коридорам бегали ливрейные слуги и денщики, а случись вам заглянуть на конюшню, вы бы увидели десяток грумов, которые кормили и чистили упряжных лошадей, а также двух-трех верховых скакунов – благородных красавцев, возможно, помнящих славу Вествуда и кровавый Лейденский триумф.
Без сомнения, что-то важное происходит в здании суда напротив, ибо двери его осаждает толпа джентльменов в черных, зеленых и коричневых фраках, в сюртуках с бархатными лацканами и касторовых шляпах; более того, эти двери время от времени отворяются, и кто-нибудь торопливо сбегает по ступеням, идет через улицу в «Стэнклиф», требует вина и, промочив горло, тем же быстрым шагом спешит обратно. Толпа расступается перед ним, а он шествует с важным сосредоточенным видом, не глядя ни вправо, ни влево. Дверь за ним тут же ревниво закрывают, так что вы едва успеваете заметить по другую сторону констебля с дубинкой.
Утром упомянутого дня я сам был в толпе у здания суда и, думаю, выстоял часа четыре перед широкими ступенями.
глядя на массивные колонны портика. Военный суд заседал с девяти; вся Заморна знала, что изменника Генри Гастингса сейчас сурово допрашивают и от того, что он скажет, зависит его жизнь или смерть. Да, в эту самую минуту грозный Хартфорд восседает в судейском кресле, а хитроумный Перси неумолимо задает вопросы, не давая жертве уходить от ответов, и вытягивает признания с коварством истинного Белиала. Здесь же военная коллегия – Кинг, Керкуолл, Джонс, Беркли, Паджет и прочая; немногие джентльмены, допущенные в качестве зрителей, сидят в зале на скамьях. А вот и арестант Гастингс – вообразите его себе. Его душа на дыбе; снаружи стены суда залиты солнечным светом, портик и величественный фронтон белеют на фоне безоблачного неба. Однако если Генри Гастингс продает душу дьяволам, собравшимся его судить, то что ему до радостного света дня?
Часы на ратуше и на соборе пробили двенадцать.
– Чтоб мне провалиться, они намерены сегодня закончить? – произнес джентльмен рядом со мной. Повернувшись, я узнал характерную внешность Сиднемов. То был Джон Сиднем, старший сын Уильяма Сиднема, эсквайра из Саутвуда.
– Как поживаете, мистер Джон?
– Не имею удовольствия быть с вами знакомым, сэр, – отвечал тот с истинно ангрийской учтивостью.
– Моя фамилия Тауншенд. Возможно, вы помните, что мы вместе были в ложе у сэра Фредерика Фейла в Витропольском театре.
– А, ну да! Тауншенд, тысяча извинений! После пьесы мы пошли в трактир и славно гульнули! Отлично помню тот вечер. Надеюсь, мистер Тауншенд, вы в добром здравии.
– В превосходном, спасибо. Только немного устал стоять. Вы ничего не слышали о том, что там происходит, мистер Джон?
– Ни словечка. В «Стэнклифе» заключают пари на исход дела. Одни говорят, что Гастингс примет королевские условия, другие – что он своих не продаст.
– А вы какого мнения?
– Я сужу по себе. Конечно, он заложит дружков – я бы на его месте поступил так.
– Что ж, человек, предавший один раз, может предать и во второй.
– Да, да. Неловко только первый раз. Потом привыкаешь.
– Говорят, скоро заседанию конец, – включился в разговор еще один джентльмен.
– Вот как, Миджли? Кто вам сказал?
– Паджет. Он только что вышел. В «Стэнклифе» говорят, что арестант отказался давать показания. Все считают, что он не расколется.
– Да, небось вопросы-то не из легких.
– Да. Его крепко прижали.
– И если он не примет условия, то казнь состоится немедленно?
– Да, сегодня до вечера. Его расстреляют на Эдвардстонском общинном лугу. Говорят, в казармы отослан приказ, чтобы солдаты были готовы к трем.
– Значит, он молчит.
– Думаю, да. Из него там всю душу вытрясут, и поделом.
– Паджет говорит, председатель трибунала рвет и мечет.
– Из-за чего?
– Из-за вмешательства каких-то правительственных агентов.
– Что, сэра Уильяма Перси?
– Да.
– А разве Перси хочет спасти Гастингса?
– Нет. Бог его знает. Паджет говорит, этого Перси не разберешь.
– Эй, что это они там делают в первых рядах толпы?
– Не знаю. Кажется, машут руками.
– Думаете, суд встает?
– Не удивлюсь, если так. Заседали часа четыре, не меньше.
– Вот, Маккей выходит на ступени.
– Да, а на окнах поднимают жалюзи.
– Тогда давайте протиснемся ближе.
С этими словами господа Сиднем, Миджли и Тауншенд смело ринулись в толпу и ногами и локтями завоевали себе выгодную позицию у самых дверей суда.
Двери эти как раз открылись, и участники заседания один за другим потянулись наружу. Первым вышел сэр Эдвард Перси, сморкаясь в носовой платок и затем убирая его в карман. Он в два прыжка спустился по ступеням и направился прямиком через улицу в гостиницу «Стэнклиф». От него явно ничего было не добиться. Он не только молчал, но еще и смотрел прямо перед собой, не удостаивая никого взглядом. Следом вышли офицеры, четверо, плечо к плечу, звеня шпорами по мостовой, затем деловитый господин, седовласый, с бледным сосредоточенным лицом. То был мистер Мур; проходя мимо меня, он приподнял шляпу. Все исчезли в дверях гостиницы «Стэнклиф». Затем на лестницу вышли двое полицейских и встали по сторонам от двери. Маккей спустился в толпу и принялся расчищать дорогу. Из двора гостиницы выкатил извозчичий кеб и остановился перед зданием суда.
И тут Миджли тихо проговорил: «Это Гастингс». Я поднял голову. Из-под портика вышел коренастый человек в плотно застегнутом черном сюртуке и низко надвинутой шляпе, практически скрывавшей лицо; лишь один раз он на миг поднял голову и посмотрел в толпу. Взгляд этот стоило видеть. В нем была злобная подозрительность дурного человека, ждущего от других ненависти, и мстительная готовность ненавидеть в ответ. Зубы были стиснуты, брови сведены. Все указывало, что его грызет отвращение к себе. Полисмен сел в кеб, а за ним шагнул Гастингс, потом третий полицейский. Экипаж тронулся. Ни звука не раздалось из толпы при его отъезде – ни улюлюканья, ни криков «ура».
– Он Иуда, голову даю, – сказал я, поворачиваясь к Джону Сиднему. Джон согласно кивнул.
– Сэр Уильям Перси, – произнес кто-то рядом. Из дверей показался худощавый гусар в белых штанах и синем мундире, поправляя шляпу и глядя прямо перед собой с отрешенной собранностью, без улыбки, как обычно, когда думает о чем-то важном и ему недосуг напускать на себя всегдашние ехидство и бесшабашность. Он прошел перед нами легкой, ленивой походкой. Я хорошо видел его лицо, потому что он держит голову очень прямо. Гладкий лоб – единственное, что в нем по-настоящему красиво, – мрачила глубокая складка, которой там обычно не наблюдается. Думаю, Перси исходил ненавистью к кому-то – вероятно, брату или лорду Хартфорду, – однако как же спокоен он был внешне! В следующий миг сэр Уильям пропал с моих глаз во всепоглощающей бездне гостиничного коридора.
– Дорогу карете лорда Хартфорда! – прокричал голос, и мимо нас пронеслось ландо, запряженное четверкой серых красавцев. Из дверей выступил сам председатель трибунала: поистине величавый судья в офицерском плаще, сапогах и дорожном картузе. Последний особенно шел к его смуглому, резкому лицу и пышным черным бакенбардам. Все вместе придавало ему несомненное сходство с исполинским орангутангом; убежден, что милорда охотно взяли бы в любой зверинец королевства. Под руку с его милостью шел господин в макинтоше и бежевой касторовой шляпе. Все сразу узнали вездесущего графа Ричтона, который, конечно, не мог пропустить сцену последнего унижения Гастингса и приехал в Заморну на трибунал. Гордость не позволила ему остановиться даже в такой роскошной гостинице, как «Стэнклиф», и сейчас он отправлялся со своим благородным другом к тому домой. Оба сели в экипаж, один мрачнее тучи, второй – весь улыбки и обходительность. За пять минут они пронеслись по Торнтон-стрит и свернули на Хартфордскую дорогу.
Через два часа итоги судебного заседания стали известны всей Заморне. Гастингс принял условия и дал показания против бывших друзей. Что именно он сказал, не разглашается, однако вскоре станет ясно из действий правительства. Гастингс вернул офицерский патент, согласился надеть полосатый мундир и алый пояс рядового в полку Белькастро и в награду за все получил жизнь – жизнь без чести, без свободы, без всяких остатков личности. Так открывается новая карьера Генри Гастингса, юного героя, воина и барда Ангрии! «Как пали сильные!» [39]39
Вторая Книга Царств (1:28). Плач Давида по Ионафану.
[Закрыть]
Сэр Уильям Перси, как и его отец, чрезвычайно упорен, когда речь идет о каком-нибудь его желании, какой-нибудь вздорной фантазии, и чем меньше доброго эта прихоть сулит ему самому или окружающим, тем упорнее он добивается своего. Нортенгерленд всю жизнь, как дитя, бежал за радугой, и в какие только бездны не падал в погоне за своей мечтой! Как часто она отвращала его от серьезных целей, увлекая за собою в то самое время, когда честолюбие уже возвело его на высочайшую гору, когда вершина была совсем рядом и с нее открывались все царства мира и слава их! Сколько раз в такие минуты Александр Перси поворачивал назад, потому что его поманила иллюзия красоты, и, спустившись с кручи, на которую взбирался столько дней и ночей, силился, как безумец, ухватить руками обманчивую грезу! Когда она рассеивалась, он не возвращался в разум. Он по-прежнему видел в облаках перед собой многоцветную арку и упрямо бежал к ней, хоть и облака, и сама радуга давно растаяли в ничто.
Сэр Уильям, чья душа и воображение куда холоднее, никогда не поддавался призрачным самообманам. По сравнению с Нортенгерлендом он сделан из мрамора, однако мрамор этот заколдованный и может оживать, как статуя Пигмалиона. Сэр Уильям подвержен настроениям. То прекраснейшее лицо вызывает у него лишь презрительную насмешку над женским тщеславием, то выражение на лице заурядном, луч, сверкнувший в глазах не огромных и не сияющих, останавливают его внимание и внушают романтические раздумья лишь потому, что созвучны сегодняшнему мимолетному капризу. И все же, если семя чего-то подобного – симпатии, расположения, приязни, называйте как хотите, – запало ему в душу, оно пускает там прочные корни и, тайно возрастая, может со временем превратиться в подлинную страсть.
Сэр Уильям, носящийся туда-сюда по важным поручениям, занимающий доверенный и ответственный пост иностранного атташе, а следовательно, живущий в вихре нескончаемых дел, по-прежнему удерживал в памяти нелепейшую из причуд, маленькую утешительную забаву – интерес к мисс Гастингс. После аудиенции у августейшей сестры сэра Уильяма она куда-то пропала с его глаз, и он не удосужился навести о ней справки. Последний раз он видел мисс Гастингс, когда та, красная от обиды и стыда, покидала королевскую приемную. Добросердечный молодой человек мысленно посмеивался от удовольствия, припоминая, с каким равнодушно-холодным видом стоял за стулом государыни. Он понимал, что мисс Гастингс никогда больше не обратится к нему за помощью, более того, станет всячески его избегать, чтобы малейшее ее обращение не было расценено как навязчивость. Он знал, что она как можно скорее покинет Витрополь, и дал ей уехать, не попрощавшись. И все же мисс Гастингс жила в его памяти; сэр Уильям по-прежнему улыбался, припоминая ее жар, ему приятно было воскрешать перед глазами ее быстрые взгляды во время их разговора – взгляды, в которых он явственно читал то, что она считала надежно схороненным в своем сердце. По-прежнему при виде субтильной фигурки, маленькой ножки, умного тонкого лица у него пробуждалось ощущение чего-то приятного, чего-то такого, о чем стоит поразмышлять. Итак, сэр Уильям не собирался отказываться от мисс Гастингс. Нет, когда-нибудь он снова ее увидит. Удобный случай непременно представится. Одно он знал наверняка: можно не опасаться, что она его забудет. О нет:
О нем одном ее мечты
В ночи горят светло,
И помнят тонкие персты
Руки его тепло.
Так что когда сэр Уильям приехал в Заморну, убедившись, что она все еще там, то принялся в редкие свободные минуты раздумывать, как, где и когда возобновить знакомство. Мисс Гастингс не должна догадаться, что он искал встречи, – пусть все произойдет как будто случайно. Более того, сейчас ее мысли целиком заняты братом. Надо подождать несколько дней, пока волнение, вызванное судом, уляжется и преступник будет далеко от Заморны, на пути к новому месту службы и новым товарищам за пределами цивилизованного мира. Тогда мисс Гастингс, лишенная родственного участия и отнюдь не осаждаемая толпой воздыхателей, почувствует себя совсем одинокой, и случайная встреча со знакомым станет для нее событием немаловажным. Итак, сэр Уильям решил следить за ее перемещениями. Он нимало не сомневался, что при некоторых усилиях сумеет придать делу выгодный для себя оборот.
Прошла неделя-другая. Суд на Гастингсом, как всякая громкая сенсация, был забыт. Сам арестант отправился к черту или к Белькастро, что одно и то же. Он пешим маршем выступил из Заморны в составе одной из рот прославленного полка под командованием капитана Дампьера. На нем были белые штаны, алый кушак и полосатая куртка. Под звуки трубы, барабана и горна пропащий удалец покинул город, оставив по себе воспоминания о том, кем он был – человеком, и кем стал – чудовищем.
Удивительное дело: бесчестье Гастингса ничуть не уронило его во мнении сестры. Родных отталкивает не публичное осуждение, а личная обида. Мисс Гастингс слышала, как его поносят на каждом шагу, обливают грязью в каждой газете, но для нее он был все тем же братом, что и до своего падения, и она смотрела на него все через те же розовые очки. Сестра проводила его с ликующей надеждой (полностью ее заслугой, потому что никто больше эту надежду не разделял), что он грядущими подвигами смоет грязные наветы клеветников. И все же она понимала, что ее брат – неисправимый негодяй. Человеческая натура полна противоречий. Невозможно выкорчевать естественную приязнь из сердца, в котором она когда-то пустила крепкие корни.
Когда упомянутые волнения улеглись, мисс Гастингс, вполне счастливая, что ее брат – лучший из людей, как мы уже говорили, – вышел из тюрьмы живым, огляделась по сторонам и задумалась, что делать дальше. Многие, окажись они одни посреди купеческой Заморны, растерялись бы, но только не мисс Гастингс. Она взялась за дело с проворством и усердием муравья: призвала на помощь хорошие манеры и обходительность, обратилась к богатым городским фабрикантам и окрестным помещикам, очаровала их своими талантами, умом, образованностью и за две недели набрала целый класс учениц. Нужда ей теперь не грозила; более того, у нее появились средства на все те изящные приятности, которые скрашивают жизнь. Мисс Гастингс справедливо полагала себя вполне обеспеченной. Она ни от кого не зависела, ни перед кем не отвечала. Первую половину дня она проводила у себя в гостиной, окруженная классом, не вдалбливая мучительно начатки знаний зевающим школьницам (что всей душой ненавидела и к чему из-за своей раздражительности была решительно неспособна), а помогая совершенствоваться тем, кто уже преодолел первые ступени образования: читая, комментируя, объясняя, предоставляя им слушать и зная при этом, что никто не будет корить ее за неуспехи учениц. Маленькая серьезная учительница быстро завоевала любовь и уважение подопечных, среди которых были дочери богатейших семейств города. Она умела сперва поразить юных леди своими превосходящими талантами, а после очаровать их дружелюбием и сердечностью. Очень скоро у нее появилось множество друзей; приятную молодую особу наперебой звали в лучшие дома Заморны и везде ценили за ум, дарования, предупредительность и безукоризненные манеры. Соответственно росло и число учениц; мисс Гастингс получила все, о чем может мечтать девушка пяти футов ростом, не достигшая и двадцати лет. Она хорошо выглядела, хорошо одевалась – скромно, даже скромнее, чем раньше, если такое возможно, но все равно очень тщательно и со вкусом; она порхала стремительно, как пчелка. Разумеется, она была счастлива.
Нет. Жизненные блага отвешиваются строго, чтобы никому не досталось все сразу. У нее были деньги, друзья, здоровье и всеобщее восхищение, однако упрямая гордячка не находила никого, кто был бы равен ей по уму и кого она, следовательно, могла бы полюбить. К тому же состоятельные знакомцы испытывали к ней почтение – почтение, к которому она совершенно не стремилась и тем не менее постоянно его внушала. Мисс Гастингс мечтала о другом – о более теплой и близкой привязанности. Однако это чувство не пробуждалось, и некому было на него ответить. Ах, Генри, ах, Пендлтон, ах, родные холмы!
Порою в вечерних сумерках мисс Гастингс одиноко расхаживала по своей уютной гостиной и думала о доме, тосковала о доме, пока не начинала рыдать от мысли, что никогда его больше не увидит. Тоска была так сильна, что временами, глядя в просвет занавесок на темное небо за стеклами эркера, она отчетливо видела на горизонте синие очертания вересковых пустошей, в точности как из окна Колн-Мосс. А когда возвращалась явь – дома, фонари, улица, – бедняжку охватывало умоисступление. Иногда какой-нибудь звук в доме казался ей скрипом отцовского стула, придвигаемого к камину; порою она как будто различала лай Гектора и Юноны, собак Генри, а то и его собственные шаги и явственно слышала, как он ставит к стене ружье. Увы, все это ей лишь чудилось. Генри изменился, она изменилась, прошлое утрачено безвозвратно. В такие минуты сердце мисс Гастингс разрывалось от желания увидеть одинокого старика в ангрийской глуши. Однако гордость побороть нелегко. Она не вернется к отцу.
Очень часто, когда сумерки сгущались и ровное алое пламя камина окрашивало обои в более теплые тона, раздумья мисс Гастингс принимали новый оборот. Пылкая девушка грезила о сэре Уильяме Перси. Она не думала больше с ним видеться, краснела при мысли, что когда-то самонадеянно позволила себе вообразить, будто не вполне ему безразлична, и все же вспоминала его голос, слова, облик с тем романтическим чувством, о котором мало кто на земле имеет хотя бы самое отдаленное представление. Все связанное с ним хранилось в ее памяти как сокровище. Она могла отчетливо повторить каждое слово, могла как въяве увидеть его лицо, быстрый орлиный взор, привычные жесты. Упоминание в газете его имени или какого-то связанного с ним эпизода становилось для мисс Гастингс эпохою в жизни; все эти заметки тщательно сберегались и бесконечно перечитывались. В одной из них сообщали, что сэр Уильям включен в список офицеров для планируемой восточной кампании; живое воображение мисс Гастингс получило обильную пищу для фантазий. Она рисовала себе грядущие опасные и славные странствия сэра Уильяма, представляла его в самых разных ситуациях: перед боем, на утомительном переходе, на привале у реки. Вот он спит под луной, и тропические растения колышут над ним широкие листья. Без сомнения, думала мисс Гастингс, молодому гусару сейчас снится его любовь; в сновидении над походной постелью склоняется прекрасное лицо, виденное в столичных салонах и запечатленное в сердце.
Мысль прервала поневоле
Чудных грез волшебный сон,
В чащу дальних джунглей боле
Взор ее не погружен.
Скорей прогнать виденье,
Вернуться к прозе дней,
Сэр Вильям и в забвенье
Не может мечтать о ней.
Зачем влачить бесплодно
Оковы горьких грез?
Отныне сердце свободно
Иссяк источник слез.
Прочь, прочь, иначе погубит
Власть неотвязных чар!
Но блаженна та, кого любит
Младой ангрийский гусар!
Высшее счастье земное
Жребий кому-то дал —
Встретив, прижать героя
К сердцу, что он избрал.
О сладостные признанья,
Клятвы и пламень уст!
Горше смерти таить страданье
Неразделенных чувств.
Так думала мисс Гастингс; такие или почти такие слова ложились на музыку у нее в голове. Однако вслух они не прозвучали. Мисс Гастингс не смела признаться в своем безумии даже самой себе. Она лишь на миг помедлила у открытого фортепьяно, тронула пальцами клавиши и, сыграв ноту-другую печальной мелодии, пропела последние строки последнего куплета:
Горше смерти таить страданье
Неразделенных чувств.
Но тут же отдернула руку, захлопнула инструмент и довольно резко высказалась вслух по поводу чистейшего безумия, потом зажгла свечу и, поскольку часы уже пробили одиннадцать, взбежала по лестнице в спальню так быстро, словно за нею гналось привидение.







