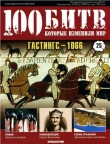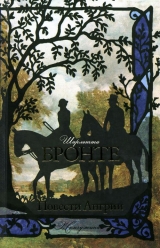
Текст книги "Повести Ангрии"
Автор книги: Шарлотта Бронте
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 27 страниц)
Предисловие
В сборник вошли юношеские произведения Шарлотты Бронте, написанные в 1838–1839 годах, когда она работала учительницей в Роухедском пансионе, затем гувернанткой. Они завершают Витропольскую сагу, которую Шарлотта с братом сочиняли на протяжении многих лет. В 1826 году преподобный Патрик Бронте, вернувшись из поездки по церковным делам, привез детям игрушки: паяца шестилетней Анне, игрушечную деревню – восьмилетней Эмили, набор солдатиков – девятилетнему Брэнуэллу и кегли – десятилетней Шарлотте. Солдатики получили имена и стали персонажами бесконечной сказочной истории; судьба остальных игрушек (за исключением кеглей – они изображали туземцев, с которыми сражались герои) неизвестна. Двенадцать искателей приключений – двенадцать деревянных солдатиков – основали в Африке, в устье Нигера, Витропольскую федерацию, и началась жизнь, полная политических, литературных и любовных интриг. В Витрополе издавались журналы и выходили книги – написанные микроскопическим почерком и сшитые в крошечные тетрадки («чтобы солдатики могли их читать»). Первоначально героем Шарлотты был герцог Веллингтон – кумир ее отца (который в политике придерживался сугубо консервативных взглядов, а в воспитании детей – самых передовых, то есть позволял им читать и делать что захотят), но постепенно герцог отошел на второй план, уступив главное место своему старшему сыну, Артуру Августу Адриану Уэллсли, маркизу Доуро, юному поэту самой романтической внешности. Героем Брэнуэлла стал Александр Перси, он же Александр Шельма, пират и революционер, инфернальный злодей, наделенный, помимо бешеных страстей, тончайшим вкусом к музыке, и (как и Доуро) неотразимый для женщин. У обоих авторов были свои литературные маски; подобно журналистам – современникам Бронте они безостановочно высмеивают друг друга и поливают грязью, дают прямо противоположные отчеты об одних и тех же событиях и не останавливаются перед прямой клеветой. Все произведения Шарлотты, вошедшие в сборник (за исключением «Мины Лори»), написаны от лица Чарлза Тауншенда, младшего брата Доуро, порвавшего с семьей и жившего литературным трудом; это ехидный и ненадежный хронист, для которого желание очернить ненавистного брата гораздо важнее правды. Действие происходит в королевстве Ангрия, основанном маркизом Доуро к северу от Витрополя. Вместе с ангрийским троном и новым титулом – герцог Заморна – повзрослевший маркиз получил и новый характер, более соответствующий байроническим увлечениям своей создательницы. К началу «Мины Лори» ему двадцать пять; он женат на дочери своего давнего друга и врага Александра Перси, графа Нортенгерленда, похоронил двух жен и двух сыновей от первых браков, потерял трон в результате мятежа, поднятого его тестем (в ту пору – премьер-министром Ангрии), и вернул себе корону в ходе кровопролитной Гражданской войны, подробно, в стихах и в прозе, задокументированной Брэнуэллом (брат писал преимущественно о политике и сражениях, сестра предпочитала светскую хронику и описание чувств). В сборник включены также отрывки из Роухедского дневника, написанные Шарлоттой в 1836–1837 годах.
Основные даты жизни Шарлотты Бронте
1816 – 21 апреля– В Йоркшире родилась Шарлотта Бронте.
1820– Отец Шарлотты получает место священника в Хауорте.
1821 – 15 сентября– Смерть матери Шарлотты.
1824– Шарлотта вместе с сестрами Марией, Элизабет и Эмили поступает в школу-пансион для детей духовенства.
1825 – Май– Смерть Марии.
Июнь– Смерть Элизабет. Шарлотту и Эмили забирают домой.
1829– Шарлотта пишет первые заметки, из которых впоследствии вырастет Витропольская сага.
1831 – Январь– Шарлотта поступает в Роухедскую школу.
1832 – Май– Шарлотта заканчивает обучение и возвращается домой, чтобы учить сестер.
1835 – Июль– Шарлотта поступает в Роухед учительницей.
1838 – Май– Отказывается от места и возвращается домой.
1842 – Февраль– Шарлотта и Эмили едут учиться в Брюссель.
Ноябрь– Смерть тетушки Элизабет. Брэнуэлл заставляет сестер вернуться в Хауорт.
1843 – Январь– Шарлотта вновь едет в Брюссель, чтобы учится и преподавать.
1844 – Январь– Шарлотта приезжает из Брюсселя. Сестры Бронте безуспешно пытаются основать собственную школу.
1846 – Май– Опубликованы «Стихотворения Каррера, Эллиса и Актона Белл». «Учитель» подготовлен к публикации, но получает один отказ за другим. В августе Шарлотта начинает писать «Джейн Эйр».
1847 – Октябрь– «Джейн Эйр» напечатана и восторженно принята читающей публикой; следом успех приходит к «Грозовому перевалу» Эмили и «Агнес Грей» Анны.
1848 – 24 июня– Смерть Брэнуэлла.
19 декабря– Смерть Эмили.
1849 – 28 мая– Смерть Анны. В октябре опубликована «Шерли».
1853 – Январь– Выходит «Городок».
1854 – 29 июня– Шарлотта выходит замуж за Артура Белла Николса, помощника своего отца.
1855 – 31 марта– Смерть Шарлотты.
1857 – Март– Опубликована «Жизнь Шарлотты Бронте» миссис Гаскелл.
Июнь– Посмертно опубликован «Учитель».
1925– Посмертно опубликовано собрание юношеских произведений Шарлотты – «Двенадцать искателей приключений и другие истории».
Шарлотта Бронте
Повести Ангрии
сборник
Мина Лори
Часть IПоследняя сцена моей предыдущей книги завершилась в Олнвик-Хаусе, и первая сцена нынешней открывается здесь же. Как я люблю утренние картины! Свежесть во всех и вся еще не сменилась утомлением от дневных трудов. Когда спускаешься из спальни, гостиная выглядит особенно опрятной, огонь в начищенном до блеска камине – особенно ярким, а завтрак на столе – особенно заманчивым. Все названное присутствует в обшитой дубовыми панелями комнате со стеклянными дверьми, куда моим читателям случалось заглядывать уже не раз. Сейчас она кажется еще более уютной из-за удручающего зрелища за окном. В потемневшем воздухе вихрем кружит снег, серое набрякшее небо – сгусток морозного бурана, обледенелые ветви хлещут друг друга под яростными порывами ветра, который мог бы заживо содрать кожу с несчастного, оказавшегося на улице без одежды. Но тсс! Обитатели дома проснулись. Посмотрим, в каком порядке они выйдут к завтраку.
Первым спускается господин в шлафроке малинового дамаста с меховой оторочкой. Ворот его рубахи расстегнут, шейный платок не завязан. Лицо раскраснелось – отчасти это румянец здоровья, но в большей мере – следствие ледяного обтирания. Волосы обильно сбрызнуты туалетной водой, тщательно расчесаны и завиты. Руки, белые и чистые, видимо, холодны как ледышки. Он трет их, идя к столику у камина; по дороге бросает взгляд на окно и присвистывает, словно говоря: «Ну и погодка!» Затем берет газету из кипы, только что доставленной почтальоном, бросается в кресло и приступает к чтению. Тем временем слышатся другие шаги и шелестение шелка. Входит графиня Зенобия в сером платье и белом газовом тюрбане на смоляно-черных кудрях.
– Доброе утро, Артур! – произносит она бодрым голосом, свидетельствующим, что у нее все хорошо.
– Доброе утро, Зенобия, – отвечает герцог, вставая. Он пожимает ей руку, и они стоят рядом на коврике у камина.
– Экое утро выдалось! – продолжает он. – Снег так и валит. Кабы не ветер, я бы вытащил вас на улицу поиграть в снежки – просто чтоб вы нагуляли аппетит перед завтраком.
– Да, – ответила графиня, – наша с вами комплекция – как раз для таких детских забав.
И она выразительно глянула сперва на «величайшего из пустозвонов короля Ангрии», затем на свой внушительный стан.
– Вы полагаете, мы слишком упитанны для такого рода упражнений? – спросил его величество.
Зенобия рассмеялась.
– Я так точно, – сказала она и добавила: – Ваша светлость в превосходной форме – какой торс!
– Так не годится, – покачал головой герцог. – Куда бы я ни пришел, меня поздравляют с тем, что я стал шире в груди. Пора принимать меры. Умеренность и упражнения – вот мой девиз.
– Нет, Адриан, пусть лучше будет «Изобилие и покой», – возразил его светлости куда более мягкий голос. К ним присоединилось третье лицо – молодая дама. Она стояла чуть поодаль и не могла погреться у огня, потому что графиня в пышном платье и герцог в просторном шлафроке совершенно закрывали от нее камин. В сравнении с этими величественными особами она казалась очень маленькой и субтильной, а когда герцог подтащил ее ближе к огню, чтобы и ей перепало хоть немного тепла, совсем затерялась между ними.
– Изобилие и покой! – воскликнул его светлость. – Таким манером у вас вместо мужа скоро будет человек-гора!
– Да, я хочу, чтобы вы стали по-настоящему солидным. На мой взгляд, вы чересчур худы – совсем тростиночка.
– Вот видите! – сказал Заморна. – Мэри всегда за меня заступается.
Следом спустилась леди Хелен Перси, а вскоре и граф медленно и беззвучно сошел по ступеням, чтобы занять свое место за накрытым к завтраку столом. Ели в полном молчании. Заморна читал. Он раскрывал газету за газетой, проглядывал и швырял на пол. Одна упала на ногу лорду Нортенгерленду. Тот отпихнул ее, словно боялся подхватить заразу.
– Отпечатано в Ангрии, если не ошибаюсь, – пробурчал граф. – Кто принес в дом эту пакость?
– Газеты – мои, – отвечал его зять, отправляя себе в рот столько еды, сколько тестю хватило бы на весь завтрак.
– Ваши?! Зачем вы их читаете? Чтобы разжечь аппетит? Коли так, они свою задачу выполнили. Артур, вам следует лучше пережевывать еду.
– Мне некогда. Я очень голоден. За весь вчерашний день ел только один раз.
– Хм! А теперь наверстываете, как я понимаю. Только отложите газету, пожалуйста.
– Нет. Я хочу знать, что говорят обо мне мои любящие подданные.
– И что же они о вас говорят?
– Вот, некий достойный джентльмен выражает опасения, что их обожаемый монарх вновь подпал под влияние роковой звезды, чей восход принес Ангрии столько бедствий; желая прослыть остроумцем, этот джентльмен именует звезду нордической. Другой утверждает, что их отважный государь – Гектор на войне и Парис во дни мира. Он вспоминает Самсона и Далилу, Геркулеса и прялку и смутно намекает на опасности женского правления – это, Мэри, в ваш огород камешек. Третий угрожающе ворчит про старых негодяев, обессиленных годами и разгульной жизнью, которые, подобно Беньянову великану, сидят у входа в пещеру и силятся угрозами либо посулами заманить путников поближе, туда, куда достают их кровавые когти!
– Это я? – тихо осведомился граф.
– Нимало не сомневаюсь, – последовал ответ. – А вот четвертая газета, «Военный вестник», известная своею пылкостью, напоминает, что Ангрия вполне способна избрать себе нового государя, если недовольна старым. Зенобия, еще чашечку кофе, пожалуйста.
– Полагаю, вы напуганы, – сказал граф.
– Трепещу с головы до пят, – ответствовал герцог. – Впрочем, меня утешают две пословицы: «Собака лает, ветер носит» и «Стриг черт свинью: визгу много, а шерсти нет». Очень по существу, если вспомнить, что я всегда называл ангрийцев свиньями. И кто я, если не черт, который их стрижет?
Со времени завтрака прошло примерно четверть часа. В комнате было совершенно тихо. Графиня и герцогиня читали отброшенные Заморной газеты, леди Хелен писала агенту своего сына, сам граф мрачно расхаживал из угла в угол; что до герцога, никто не знал, где он и чем занят. Впрочем, довольно скоро на лестнице послышались его шаги, затем голос, отдающий какое-то распоряжение в передней. Через мгновение герцог вошел в комнату. Он сменил малиновый шлафрок на черный сюртук и клетчатые панталоны. Наряд дополняли большой синий плащ с меховым воротником и меховая шляпа. В руках его светлость держал перчатки. Короче говоря, он был полностью одет для путешествия.
– Куда это вы? – спросил граф останавливаясь.
– В Витрополь, оттуда – в Ангрию, – был ответ.
– В Витрополь! Под таким снегом! – воскликнула графиня, глядя на кружащий за окном белый вихрь.
Леди Хелен подняла глаза от письма.
– Какая нелепость, милорд герцог! Вы шутите.
– Ничуть. Мне надо ехать; карета сейчас будет у дверей. Я зашел попрощаться.
– С чего такая спешка? – спросила леди Хелен, вставая.
– Никакой спешки, мадам. Я пробыл здесь неделю и теперь хочу уехать.
– Вы и слова не сказали о своем намерении.
– Я не собирался объявлять его заранее. Впрочем, карста уже подъехала. Счастливо оставаться, мадам.
Он взял леди Хелен за руку и поцеловал, как всегда при встрече и расставании. Затем подошел к графине.
– До свидания, леди Зенобия. Приезжайте в Эллрингтон-Хаус, как только убедите нашего друга вас сопровождать.
Ее он тоже поцеловал. Теперь настал черед графа.
– Прощайте, сэр, и будьте вы прокляты. Вашу руку?
– Нет. Вы всегда так больно ее стискиваете. Счастливого пути. Надеюсь, гнев ваших хозяев не так силен, как вы опасаетесь. Впрочем, вы правильно сделали, что поспешили к ним при первых признаках неудовольствия. Сожалею, что стал его причиной.
– Неужто мы так и расстанемся? – спросил герцог. – И вы на прощанье не подадите мне руки?
– Нет!
Заморна побагровел, однако же повернулся к двери и натянул перчатки. У крыльца стоял четырехместный экипаж, конюх и камердинер ждали. Заморна, по-прежнему мрачнее тучи, двинулся к ним, но тут вперед выступила его жена.
– Адриан, вы забыли про меня, – промолвила она очень тихо, однако глаза ее выразительно блеснули. Герцог вздрогнул, поскольку и впрямь позабыл о Мэри за мыслями об ее отце.
– Что ж, до свиданья, Мэри, – сказал он, торопливо обнимая и целуя жену. Она удержала его руку.
– На сколько я остаюсь? И почему вы не берете меня с собой?
– В такую-то метель? – воскликнул он. – Как только распогодится, я за вами пришлю.
– Как скоро это будет? – спросила герцогиня, выходя за ним в переднюю.
– Очень скоро, мой ангел, – наверное, даже завтра или послезавтра. Ну же, не глупите. Вы не можете ехать сейчас.
– Могу и поеду, – быстро возразила герцогиня. – Я не хочу оставаться в Олнвике. Вы не должны меня бросать.
– Идите в комнаты, Мэри. Дверь открыта, и в нее задувает снег. Видите, сколько уже намело?
– Никуда я не пойду. Если вы не дадите мне времени на сборы, я сяду в карету как есть. Возможно, вам достанет человечности укрыть меня полой вашего плаща.
Говоря, Мэри дрожала. Холодный ветер, который дул в открытую дверь, неся с собой снег и мертвые листья, развевал ее волосы и платье. Его светлость при всей своей черствости все же встал так, чтобы заслонить жену от ледяных порывов.
– Я не позволю вам ехать, – сказал он. – И не упрямьтесь.
Герцогиня взглянула на него с тем встревоженным выражением, которое в последнее время редко сходило с ее лица.
– Интересно, почему вы не хотите взять меня с собой? – проговорила она.
– Кто вам сказал, что я не хочу? – был ответ. – Смотрите сами, какая метель! Как можно подвергать хрупкую женщину таким тяготам?
– Тогда, – с жаром произнесла герцогиня, выглядывая в снежную круговерть, – вы могли бы подождать, пока метель уляжется. Я не думаю, что вашей светлости стоит ехать сегодня.
– Но я должен ехать, Мэри. Рождественские каникулы закончились, и дела не ждут.
– Тогда возьмите меня с собой. Я уверена, что выдержу.
– Исключено. Можете сколько угодно стискивать свои глупенькие маленькие ручки, такие тонкие, что они почти просвечивают, можете трясти кудряшками, чтобы они падали на лицо, скрывая от меня его бледность. А это что? Неужели слезы? Черт побери, что мне с нею делать? Ступайте к отцу, Мэри. Он вас избаловал.
– Адриан, я не могу жить в Олнвике без вас, – пылко возразила герцогиня. – Это слишком живо пробуждает воспоминания о самых горестных моих днях. Я не расстанусь с вами по доброй воле.
И она одной рукой стиснула его локоть, а другой принялась торопливо утирать слезы.
– Нет, ей нельзя стоять на пороге, она простынет. – Заморна открыл боковую дверь в комнату, которая на время приезда служила ему кабинетом. Здесь горел огонь, к камину была придвинута кушетка. Сюда герцог отвел жену и принялся ее увещевать, что было нелегко: его обманы, холодность и нескончаемые измены рождали в сознании Мэри чудовищные фантазмы ревности; нервическое состояние сделало герцогиню жертвою неопределенных страхов, которые отступали лишь в те минуты, когда супруг сжимал ее в объятиях или хотя бы оставался у нее на виду.
– Я же сказал, – произнес Заморна, улыбаясь наполовину ласково, наполовину досадливо, – я же сказал, что пришлю за вами через два-три дня.
– А я застану вас в Уэллсли-Хаусе? Вы говорили, что едете из Витрополя в Ангрию.
– Да, и пробуду там от силы неделю.
– Неделю! По-вашему, это небольшой срок? Для меня он будет целой вечностью! Впрочем, я должна покориться; вашу светлость не переубедить. Однако же я могу поехать с вами. Я не буду вам мешать! Я не часто докучаю вашей светлости.
– Лошади застынут, если будут так долго стоять, – заметил герцог, пропуская мимо ушей ее последние слова. – Ну же, вытрите слезы и будьте снова моим маленьким философом. Дайте мне на прощанье увидеть вашу улыбку. Неделя пролетит мигом. Я же не на войну ухожу.
– Не забудьте послать за мной через два дня, – взмолилась герцогиня, когда Заморна выпустил ее из объятий.
– Не забуду. Завтра же и пошлю, если метель уляжется, и, – тут он немного передразнил ее голос, – не ревнуйте меня, Мэри, если не опасаетесь, что чарующие прелести Энары, Уорнера, Керкуолла, Ричтона и Торнтона заставят меня позабыть о некой белокурой и кареглазой особе, которая вам не совсем чужда.
Он вышел. Мэри подбежала к окну. Через несколько минут ландо бесшумно проехало по заснеженной лужайке, выкатилось на дорогу и вскоре пропало в сгустившемся вихре вьюги.
Герцог Заморна добрался до Уэллсли-Хауса глубокой ночью. Его сильно замедлила необходимость то и дело менять лошадей, которые быстро выбивались из сил. За день на дороге намело такие сугробы, что господину и слуге не раз приходилось вылезать из кареты и брести по колено в снегу. Любой другой путешественник остановился бы на ночлег в отличной придорожной гостинице, однако герцог славился своей твердолобостью, и препятствия лишь подстегивали его в намерении быстрее добраться до цели. Сегодня это свойство проявилось особенно сильно. Напрасно Розьер намекал, что неплохо бы задержаться на постоялом дворе, где они меняли лошадей, тщетно уговаривал не ограничиваться стаканом мадеры и половинкой печенья, которыми его хозяин не столько утолял, сколько растравлял неукротимый голод. Наконец, оставив его светлость в одиночестве наслаждаться своим упрямством в отдельной комнате постоялого двора, которую тот мерил шагами с поспешностью, вызванной отчасти пронизывающим холодом, отчасти нетерпением, Эжен направился в общий зал. Здесь, поглощая курицу с шампанским, он немного утешился тем, что пробормотал сквозь зубы: «Пусть хоть совсем себя уморит».
Выпрыгнув из ландо перед собственным домом, герцог, отнюдь не в кротком состоянии духа, прошел через анфиладу освещенных комнат, где еще отдавался эхом двенадцатый удар домового колокола, начавшего отбивать полночь в ту самую минуту, когда карета подкатила к крыльцу. Звук, казалось бы, звал немедленно улечься в постель, однако Заморна не внял его убеждению. Обернувшись на первой площадке широкой мраморной лестницы, под бронзовой лампой, в окружении мраморных статуй, которые своей неподвижностью являли полный контраст его собственной нетерпеливой фигуре, герцог крикнул:
– Розьер, пусть мистер Уорнер явится ко мне немедленно. Отправь кого-нибудь из слуг в Уорнер-Хаус.
– Ваша светлость хочет сказать, сегодня же ночью? – спросил камердинер.
– Да, сударь.
Месье Розьер выпятил языком щеку, однако ж поспешил исполнить приказание.
– Хатчинсон, отправь кого-нибудь сию же минуту. Ты слышал повеление его светлости. И еще, Хатчинсон, скажи кухарке, пусть пришлет мне в комнату стакан глинтвейна, я весь закоченел. И вели ей приготовить для меня горячий ужин: телячье фрикандо или омлет. А главное, Хатчинсон, – тут молодой джентльмен понизил голос до тихого доверительного тона, – передай мадемуазель Харриет, что я вернулся. Можешь добавить, что я приехал совсем больной – застудил горло на ледяном ветру. А вот и она! Я сам ей все скажу.
Пока всевластный Эжен говорил, в галерее, опоясывающей внутренний зал, показалась юная дама с фарфоровым кувшином. Французский гарсон запрыгал по лестнице как блоха.
– Ma belle! – воскликнул он. – Permettez moi porte cette cruse-là! [1]1
Дорогая, позвольте мне отнести этот кувшин (фр.).
[Закрыть]
– Нет, месье, нет, – со смехом отвечала юная дама, вскидывая голову в очень красивых темных кудряшках. – Я сама отнесу. Это для герцога.
– Я должен вам помочь, – ответил учтивый Розьер, – и тем заслужить поцелуй.
Барышня мотнула головой и отступила на шаг, выставив напоказ хорошенькую ножку, которую отнюдь не скрывала короткая, до щиколоток, пышная юбка розового муслина и еще более короткий черный передник. Шею служанки украшал скромный платочек из тонкого кружева. К описанию ее облика необходимо добавить бойкие глазки, хорошенькое личико и ладную пухленькую фигурку. В конце галереи завязалась презанятная любовная сцена, когда очень громко зазвонил колокольчик.
– Черт! Это герцог! – воскликнул Розьер. Он тут же выпустил свою милую из объятий, и она стремглав побежала к личным покоям герцога. Эжен следовал за нею настороженно, если не сказать ревниво. По лабиринту комнат горничная добралась до королевской опочивальни, откуда была дверь в туалетную. Его светлость сидел в кресле перед огромным, в человеческий рост, зеркалом. Лицо герцога немного осунулось от усталости, однако его оживляла игра тени и света от камина.
– Харриет, – сказал Заморна, когда вошла горничная. – Я ждал воду гораздо раньше. Поставь кувшин и налей мне стакан. Где тебя носило?
Харриет, покраснев, поднесла стакан с освежающей влагой к пересохшим губам хозяина (лень мешала ему сделать это самому) и принялась с запинкой лепетать какие-то оправдания, но тут взгляд герцога упал на дверь. Там стоял Розьер.
– А! – воскликнул его светлость. – Все понятно! Осторожнее, Харриет, не дай ему вскружить тебе голову. А теперь можешь идти, и передай своему ухажеру, чтобы он подошел ко мне, иначе я вышибу ему мозги.
Эжен подскочил к хозяину, громко мурлыкая какой-то мотивчик. На его лице не было и тени смущения. Как только Харриет вышла, герцог принялся выговаривать слуге, который тем временем как ни в чем не бывало помогал хозяину переодеться из дорожного платья в домашнее и так далее.
– Пес, – начал добродетельный господин, – полегче с этой девицей. Я не потерплю в своем доме ничего предосудительного.
– Поскольку я беру пример с вашей светлости, мои поступки никак не могут быть предосудительными, – усмехнулся камердинер, который прекрасно знал многие слабости хозяина и потому частенько безнаказанно говорил то, что не сошло бы с рук никому другому.
– Если ты ее обольстишь, я заставлю тебя на ней жениться, – продолжал Заморна.
– А если жена мне прискучит, – ответил Розьер, – я всегда смогу найти утешение на стороне.
– Держи себя в узде, голубчик, – тихо посоветовал герцог.
– Должен ли я обуздывать язык или свои чувства?
– Научись различать сам! – воскликнул Заморна, сопроводив эти слова приложением руки, от чего месье отлетел на другую половину комнаты, но, впрочем, быстро оправился и через мгновение уже вновь расчесывал длинные и мягкие темно-каштановые кудри своего господина.
– Я принимаю особое участие в Харриет, – добродушно заметил герцог. – Я не особо приглядываюсь к другим горничным, но иногда встречаю эту нимфу в коридоре или в галерее, и она всякий раз производит на меня впечатление девицы скромной и порядочной.
– Она была служанкой в гостинице «Стэнклиф», – с намеком произнес Розьер.
– Знаю, сударь. У меня были причины запомнить ее на этом постоялом дворе. Она подала мне стакан холодной воды в то время, когда ни одна живая душа в мире не шевельнула бы ради меня пальцем.
– Я слышал эту историю от мадемуазель, – ответил Розьер. – Ваша светлость тогда были в плену у мятежников и вас доставили к Мактерроглену. Еще мадемуазель рассказывала, что через полгода вы вновь остановились в Стэнклифе и в благодарность за услугу взяли ее горничной в свой дом, а в придачу, коли она не лжет, еще и наградили поцелуем ваших августейших уст.
– Да, черт тебя побери, сударь! Поцелуй – не большая награда за стакан холодной воды и слезы сострадания, пролитые от чистого сердца.
– Всецело с вами согласен, – ответил Розьер, но она, возможно, думает иначе. Знатные дамы за один по целуй вашей светлости готовы выцарапать друг дружке глаза, так что не знаю, как отнеслась к нему простая девушка из гостиницы.
– Эжен, вашу нацию отличает склонность к самоубийствам. Поди утопись, – ответил Заморна.
– Если ваша светлость больше во мне не нуждается, я немедля исполню ваше веление и обрету кончину в том превосходном кларете, который виноградники милой Франции производят в особо удачном расположении духа.
Как только блистательный слуга убрался прочь с очей еще более блистательного господина, через другую дверь вошел человек, нимало на него не похожий: коротышка в меховом плаще. Сбросив это одеяние, гость огляделся и приметил Заморну. Тот, в шлафроке малинового дамаста, которым сменил неудобное дорожное платье, полулежал на низком твердом ложе, готовясь уронить кудрявую голову на подушку, и одной рукой уже тянул на себя бархатное, подбитое мехом одеяло. Уорнер застал его перед отходом ко сну.
– Я думал, ваше величество звали меня по делу! – воскликнул министр. – А я прихожу и вижу вас в постели!
Заморна потянулся, скрестил руки на груди, зарылся щекой и темными локонами в подушку и слабым голосом попросил расправить одеяло, а то у него нет на это сил.
Губы премьера дрогнули, силясь побороть улыбку, что не составило большого труда, ибо это выражение было для них несвойственно.
– Ваше величество прогнали месье Розьера и позвали меня, чтобы я заменил его при вашей особе?
– Ну вот, теперь мне хорошо, – сказал герцог, когда одеяло было расправлено, к его удовольствию. – Прошу вас, садитесь.
Уорнер придвинул кресло к постели его светлости.
– Почему ваше величество так бледны? – спросил он. – Чем вы занимались? Кутили?
– Да простит вас Бог за ваши слова! Конечно, нет! Я не щадя сил трудился на благо Ангрии!
– Вот как? Должен ли я понимать, что ради блага Ангрии надо было ехать в Олнвик и сидеть у постели больного Нортенгерленда?
– Не правда ли, весьма самоотверженный поступок с моей стороны, а, Говард? Надеюсь, мои подданные мною восхищаются?
– Не шутите, милорд герцог. Чувства, вызванные вашим опрометчивым шагом, не дают повода для веселья. Что за дух противоречия побуждает вас совершать те самые ошибки, которые приписывают вам враги? Какой толк от проявлений вашего блистательного таланта, если в промежутках ваша политическая жизнь заполнена такими чудовищными промахами?
– Успокойтесь, Говард. Что такого я натворил?
– Милорд, я вам расскажу. Вспомните: ваши недруги всегда утверждали, что вы человек слабый, подверженный дурным влияниям. Сколько раз Ардрах и Монморанси объявляли вас игрушкой в руках Нортенгерленда! Они тщетно пытались доказать свое обвинение, и вы с поистине христианской добротой взяли этот труд на себя. Теперь оно доказано окончательно и бесповоротно.
– Как так, мой дорогой Говард?
– Милорд, вы сами это видите и чувствуете. В каком состоянии была Ангрия год назад? Припомните: она лежала в руинах. Мор, глад и междоусобная брань состязались за скипетр, вырванный из вашей руки опустошительной войной. И я спрашиваю, милорд, кто вверг Ангрию в эту пучину бедствий?
– Нортенгерленд! – без запинки отвечал герцог.
– Истинная правда! Так что – слабость или упрямство – увлекло вас к одру болезни развращенного мятежника и заставило склоняться над ним с заботливостью нежного сына? – Уорнер помолчал, но ответа не последовало. Он продолжил: – Что этот человек умирает, я не сомневаюсь, – умирает, подточенный беспутствами, позорящими любую природу, не только человеческую, но и скотскую. Так почему вы не даете ему умереть в одиночестве, в тоске и отчаянии, как заслуживают его преступления, его пороки? Что заставило вас мчаться туда и считать пульс безвременного старика? Можете ли вы продлить биения его сердца? Зачем вы мешаете свое свежее дыхание с последними ядовитыми вздохами развратника? Неужто в надежде очистить то, что отравлено безудержным разгулом? Зачем вам марать юные руки прикосновением к липким безвольным пальцам умирающего? Неужто ваше касание вернет силу его мышцам, заставит кровь быстрее бежать по жилам? Или вам недостает силы духа остаться в стороне, дабы тот, кто всю жизнь был рабом порока, встретил свою кончину?
Герцог приподнялся на локте.
– Вы очень грубо выражаетесь, Говард, – сказал он. – Так не годится. Я отлично знаю, что реформаторы, конституционалисты и мои собственные излишне самоуверенные ангрийцы говорят о решении своего короля провести рождественские каникулы в Олнвике. Я заранее знал, что они скажут и, в частности, что скажете вы. Однако же поехал я не в пику общественному или частному мнению и не под влиянием внезапного неодолимого порыва. Нет, поездка была предпринята по зрелом размышлении. Мои ангрийцы имеют на меня определенные права. Мои министры – тоже. А у меня есть определенные права независимо от них, независимо от кого-либо из живущих под небесами. Я утверждаю, что вменяем. Я не умалишенный и не безмозглый дурачок, как бы всесовершенный Харлау ни силился доказать обратное. И покуда это так, есть два-три вопроса, о которых я могу судить без чужой подсказки.
Первый из них – степень моей близости с милордом Нортенгерлендом. В общественном смысле я давно с ним порвал. Разрыв был для меня мучительным, ибо по двум-трем конкретным пунктам наши взгляды созвучны и никто не заменит мне его, а ему – меня. И хотя мне пришлось выкорчевывать чувства, пустившие глубокие корни в самые недра моего сердца, разве я с тех пор словом или взглядом выказывал желание примириться? Нет, этого не было и не будет. Я выбрал свой путь, и он не пересекается с дорогой Нортенгерленда. Реки крови, пролитые Ангрией в прошлом году, горы хладных трупов, которые наша страна повергла к алтарю свободы, навсегда, бесповоротно разделили нас духовно. Однако телесно мы можем – и будем! – встречаться, доколе не вмешается смерть. Знайте, Уорнер, что ни ропот подданных, ни насмешки врагов, ни укоры друзей не поколеблют мою решимость в этом вопросе.
Говард, вы не похожи на Нортенгерленда, и все же позвольте шепнуть вам один секрет. Вы тоже любите подчинять себе людей. Дай вам волю, вы бы опутали меня чарами своего острого ума, заключили в магический круг, очерченный вашим разумением. Этому не бывать. Презирайте Нортенгерленда, коли вам так угодно, ненавидьте его, гнушайтесь им – у вас есть на это все основания. Он не раз обходился с вами жестоко, говорил о вас уничижительно. Если у вас есть такое желание и представится случай, застрелите его. Только не смейте навязывать мне ваши обиды, не требуйте, чтобы я за них мстил. Отплатите ему сами! С вашей стороны это будет благородно, с моей – подло. Точно так же я не склонюсь перед Ардрахом и перед грязным рогоносцем Монморанси. Я не стану по их указке подавлять лучшие движения очень скверной натуры, не отрину те чувства, которые только и делают меня сколько-нибудь терпимым для окружающих. Я не оставлю человека, который как-то был моим товарищем, моим другом, умирать в тоске одиночества из-за того, что Ангрия бунтует и Витрополь презрительно кривится. Мое сердце, моя рука, мои силы принадлежат народу, мои чувства – только мне. И не трудитесь меня переубеждать.