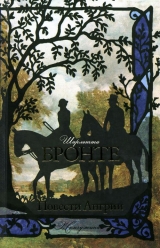
Текст книги "Повести Ангрии"
Автор книги: Шарлотта Бронте
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц)
– Ребята, – нарушил молчание герцог, – не пора ли по домам?
Тон и выражение лица не предвещали беды. Казалось, толпа готова слушать дальше, и герцог не обманул ее ожиданий.
– Кто из вас объяснит мне, что за представление вы тут устроили? – продолжил Заморна, запустив длинные пальцы в пышную гриву волос.
– Я! Я могу! – раздались голоса.
– Сомневаюсь. Неужто весь этот бедлам из-за того, что я навестил дальнего родственника, дряхлого и немощного старика?
– Ваша светлость снова привечает Нортенгерленда, а мы его ненавидим!
– Что ты сказал, приятель? – переспросил герцог, словно не расслышал.
Смельчак из толпы повторил.
– Привечаю Нортенгерленда? Выражайся яснее. Я был на юге по семейным делам и политикой интересовался не больше, чем ваш брат – религией.
– Вы стакнулись с Нортенгерлендом? – строго вопросил один из знаменосцев.
Герцог повернул к нему внезапно посуровевшее лицо, заметил флаг и холодно промолвил:
– Уберите это.
– Ни за что! – воскликнул знаменосец. – Это народный стяг!
– Уберите, – повторил герцог и яростно воззрился на магистратов. Шесть констеблей, исполняя монаршую волю, бросились к мятежному флагу. Громадное алое полотнище зашаталось, толпа взревела, подалась вперед – и внезапно герцогская коляска затрещала. Последовала ужасная сцена. Джентльмены, облепившие ступени и окна, спрыгнули в толпу. Обезумевшие лошади, не слушаясь форейторов, рванули куда глаза глядят; кто-то пронзительно завизжал. Развевающиеся гривы и оскаленные лошадиные морды вздымались над морем человеческих голов, подкованные копыта крушили все вокруг. Я с ужасом взглянул на герцогиню – откинувшись назад, она зарылась лицом в подушки. Заморна стоял стиснув зубы, и лишь яростно вспыхивали глаза из-под пышной гривы волос. Не удостаивая словом ни герцогиню, ни лорда Ричтона, он возвышался над толпой, уставившись в одну точку. Заслышав наконец грохот копыт и узрев облако пыли там, куда был направлен его ищущий взгляд, герцог обратился к толпе, отчетливо выговаривая каждое слово:
– Граждане Заморны, сюда скачут три сотни всадников! Я их вижу. Если вы не сдадите назад, через пять минут они втопчут вас в грязь.
Времени на размышления не оставалось: летели по ветру лошадиные гривы, сверкали широкие сабли, и под громогласное «ура!» и цокот копыт кавалерия неслась прямо на толпу. Лорд Стюартвилл, размахивая шляпой и яростно пришпоривая коня, скакал впереди. Никто бы не устоял перед этим натиском, даже остервенелые ремесленники и фабричные рабочие! Они развеялись как мякина, словно вихрь поднял и закружил прах пустыни. Улицы и переулки вмиг опустели, широкие площади плавились под солнцем. Нескольких пострадавших в давке унесли в лазарет, их кровь отмыли от мостовой, и ничто более не отмечало место недавних волнений. Когда я перевел взгляд на коляску падишаха, она стояла напротив гостиницы, пустая; плащ валялся на сиденье, грумы распрягали лошадей. Sic transit etc. [23]23
Так проходит и так далее (лат.).
[Закрыть]
К вечеру жизнь в гостинице вернулась в обычное русло. В поисках прохлады я вышел в сад, ища защиты от солнца в тени пышных кустов. По дорожкам уже прогуливались несколько джентльменов, а в беседке я обнаружил сэра Уильяма Перси.
– Итак, полковник, где вы изволили прохлаждаться сегодня утром?
– Я отыскал местечко в здании суда, откуда и любовался представлением. Отличное развлечение для зимы – летом для таких игр жарковато. Сброд как ветром сдуло!
– Что скажет ваш брат, когда услышит об этаком разгроме?
– Хм, полагаю, выругается от души, а после потребует бренди, чтобы охладить свой пыл. Скажите, Тауншенд, как я выгляжу? По-моему, я, как говорится, слегка подвял.
– Вам виднее. Похоже, жара и впрямь вас одолела.
– Возможно. Пребывание в компании Великого Могола утомляет, знаете ли.
– Как? Заморны?
– Кого ж еще! В полдень он велел нам явиться в общий зал гостиницы. Когда я. Стюартвилл, Торнтон, Сиднем, Уокер и еще человек десять предстали пред его ясные очи, герцог разгуливал между камином и окном с лицом черней дыма из трубки Эдварда. Когда мы вошли и сняли шляпы, он остановился и опустил руку на стол. Герцог не предложил нам сесть, вот мы и стояли в рядок, словно двадцать четыре горшочка с медом.
Первым делом герцог спросил Стюартвилла, вернулись ли войска в казармы.
Тот выступил вперед и ответил утвердительно: войска отозваны, за исключением небольшого отряда, патрулирующего ту часть города, где волнения еще не улеглись.
– Должен сказать, милорд, я весьма удивлен тем небрежением, в коем пребывает провинция под вашим руководством, – процедил Заморна, обдав графа холодом, и замолчал в ожидании ответа, ни словом, ни взглядом не пытаясь смягчить свою речь.
Стюартвилл, не мудрствуя лукаво, отвечал, что «в народном умонастроении преобладает недовольство графом Нортенгерлендом».
– Позвольте перефразировать ваши слова, – сказал его светлость. – Сдается мне, что в народном умонастроении преобладает идея полной вседозволенности. Ваш долг – а равно и тех господ, что стоят позади вас, – подавлять подобны, умонастроения, разъясняя заблудшим душам всю пагубность их опасных воззрений.
На что генерал Торнтон заметил, что, по его мнению, сегодня утром они с честью исполнили свой долг.
Ответ его светлости свидетельствовал, что генерал пребывает в прискорбном заблуждении относительно своих заслуг.
– Напротив, я вижу ваши старания совершенно в ином свете, – заявил Великий Могол. – Простой бдительности с лихвой хватило бы, чтобы предотвратить скопление мерзавцев на площади. Простой решительности – чтобы переломить древко флага, коим люди, порученные вашему попечению, осмелились размахивать у меня над головой.
После паузы герцог спросил, здесь ли градоначальник.
Мистер Мод поклонился и выступил вперед.
– Ваши констебли не справились со своей работой, – заявил герцог без церемоний. – Торговое товарищество Заморны бездействует и должно быть распущено. Все вокруг свидетельствует о вопиющем попустительстве, преступном недосмотре и манкировании обязанностями. Если в ближайшее время я не увижу перемен к лучшему, мне придется всерьез задуматься о лишении Заморны торговых привилегий.
Засим последовала еще одна леденящая душу пауза, после чего в разговор вступил мистер Сиднем, заявивший, что «его светлость судит о городе слишком строго». По мнению мистера Сиднема, нынешнее народное возмущение должно считаться не проявлением изменнических настроений, а всего лишь выражением несогласия. При этих словах его светлость оскалил зубы, как сарацин.
– Извольте держать ваше мнение при себе, покуда находитесь со мной в одной комнате, – сверкнув глазами на мистера Сиднема, промолвил он. – Выходит, те, кто осмеливается диктовать правителю, как вести себя в частной жизни и кого выбирать в друзья, выражают таким образом свои верноподданнические чувства? Принимая ангрийскую корону я не давал обещаний отчитываться о своих приватных знакомствах. Когда вы наконец поймете, что, став монархом, я не перестал быть человеком? Ваша страна даровала мне сладкое бремя власти, но взамен я не обещал отказаться отличной свободы.
Никто ему не ответил, и после еще одной тягостной паузы он продолжил нас отчитывать:
– Лорд Стюартвилл, я недоволен тем, как вы управляете Заморной. Вы не оправдали моих ожиданий. Мне придется сместить вас, если вы не станете исполняться свой долг с большим рвением.
Вспыхнув, граф выпалил:
– Ваша светлость, к чему проволочки? С этого мгновения я слагаю с себя полномочия. Никогда бы не подумал, что…
Тауншенд, вы не поверите: тут он запнулся и всхлипнул.
Побагровевший Торнтон пробормотал, что дела зашли слишком далеко, а наш падишах продолжал распекать своих подданных:
– Ваши магистраты себя опозорили: один не явился, другой бездействовал, остальные четверо являли собой пример нерешительности и недальновидности. Джентльмены, я вас долее не задерживаю.
Не проронив более ни слова, герцог отвернулся к окну, а мы вышли из комнаты. Торнтон уехал в Гернингтон мрачней тучи, Стюартвилл с порога вскочил на своего горячего жеребца и унесся так, словно черти гнались за ним по пятам. Сиднем и Уокер наверняка направились в Эдвардстон и сейчас поминают падишаха недобрым словом за бокалом лучшего Эдвардова вина.
Что до меня, то я заказал фрикандо и вышел в сад нагулять перед ужином аппетит.
– Верное решение, – заметил я, – но скажите, что с герцогиней? Наверняка она перепугана до смерти.
– А как же иначе! Когда началась заварушка, герцогиня побледнела как полотно. Говорят, войдя в гостиницу, она лишилась чувств.
– Вы ее видели?
– Мельком. Она поднималась по лестнице, опираясь на руку Ричтона.
– Они разговаривали?
– Нет. Она была ни жива ни мертва и никого не замечала вокруг. А вот и слуга, должно быть, мое фрикандо готово. Присоединяйтесь, Тауншенд!
Меж тем вечер длился, не желая уступать место ночи. Ах, как прохладен, как сладостен был ветерок, унесший полуденный жар! Солнце село, улицы стали сумрачны и пустынны, а молодая луна взирала с небес на башни собора, протянувшего к ней белые фронтоны и острые шпили. Бриз заставлял трепетать ставни большой гостиной. Занавешенные окна охраняли тишину и покой алькова, где на широком диване, утонув в подушках, спала бледная дама с распущенными волосами. Вся ее фигура выражала крайнюю степень утомления.
Но кто там склонился над диваном? Кто хочет потревожить покой дамы? Некому остановить супостата, некому сберечь ее сон! Чему он улыбается? Что забавного нашел в осунувшемся мраморном лице и этих невинных, бледных, истонченных руках? Не смей прикасаться к ней, негодяй! Вот он отводит от ее лица выбившуюся прядь, и улыбка вновь озаряет его черты – иной упал бы на колени пред этим высоким лбом, этой безмятежностью и чистотой, словно пред статуей Девы Марии! Незнакомец убирает от спящей свои нечестивые ладони и сует их в карманы. Прочь, ты не годишься на роль хранителя этой святыни! Твое присутствие разрушает гармонию. Вокруг тихо и темно, а она так прекрасна, что кажется святой, а комната походит на часовню. Однако не стоит обольщаться, покуда здесь этот человек: мужчина с усами, бакенбардами и шевелюрой столь густой, что непонятно, есть ли у него лоб, – вот он откидывает волосы назад, открывая широкое чело, слишком гладкое и молодое для почтенного священнослужителя.
После сурового разговора с губернатором провинции и представителями торгового товарищества Заморны, а равно и иных событий тревожного дня, герцог, движимый противоречивыми чувствами, направился в апартаменты, куда удалилась его герцогиня. Отчасти он желал узнать, как пережила она утренние события, столь противные ее натуре, отчасти – успокоить собственную смятенную душу близостью этого кроткого и нежного существа. Кроме того, у герцога шевелилась смутная, едва осознаваемая мысль, что именно родственные связи герцогини стали причиной его разногласий с подданными. Заморне хотелось полюбоваться ее красотой и провести часок в приятном раздумье о том, как опасны женские чары и как неразумно отдаваться им сполна, без оглядки.
Герцог отодвинул алую занавеску, позволив солнечному лучу упасть на спящую герцогиню. Неслышно передвигаясь по гостиной, он то и дело бросал на жену пылкие взгляды. К тому времени он любил Мэри Перси дольше, чем любую другую женщину, и, осмелюсь предположить, ее лицо давно стало для него родным. Это ясно читалось во взгляде герцога, скользившем по бледным тонким чертам жены с мечтательным наслаждением. Ее хрупкие прелести всегда имели над ним власть.
Герцогине был свойственен изменчивый нрав, и она частенько изводила мужа слезами и ревнивыми попреками. Сомневаюсь, что герцог стерпел бы подобное обращение от другой женщины, но стоически сносил перемены в настроении герцогини. Заморна находил забавным играть ее страхами и, повинуясь мимолетному капризу, усиливать или ослаблять подозрения.
Герцогиня и не думала просыпаться. Тогда герцог разнял ее руки и сжал одну в ладони. Она отдернула руку и повернулась на другой бок, бормоча во сне. Он расхохотался – смех разбудил ее, герцогиня привстала и улыбнулась мужу. Она все еще выглядела утомленной, и, когда Заморна опустился на диван рядом с нею, уронила голову ему на плечо, собираясь вновь погрузиться в сон. Однако подобное развитие событий не входило в планы герцога: он явился за ежевечерним развлечением и намеревался получить его во что бы то ни стало. Заморна принялся тормошить жену, не давая ей снова уснуть.
– Адриан, я устала, – сказала герцогиня.
– Так устали, что не можете разговаривать?
– Могу, только позвольте мне опереться на ваше плечо.
Герцог был непреклонен.
– Просыпайтесь, – велел он жене. – Откройте глаза и поправьте прическу. Вы похожи на русалку.
Герцогиня поднесла руку к волосам, и впрямь растрепанным, и принялась их заплетать. Это занятие окончательно прогнало сон. Уложив каштановые локоны в косы и разгладив складки на платье, дабы придать ему безупречный вид, она отошла к окну.
– Солнце село, – сказала Мэри. – Я проспала закат. – Герцогиня задумчиво улыбнулась, разглядывая сияние, которое закатившееся солнце оставило на небосклоне. – Это Запад! – воскликнула она и, обернувшись к Заморне, быстро спросила: – Что, если бы вы родились огромным сентиментальным ангрийцем?
– Я бы свалял дурака и женился на маленькой сентиментальной дочери Сенегамбии.
– Тогда бы я испытывала к вам иные чувства, чем те, что испытываю сейчас, – продолжила рассуждать герцогиня, словно разговаривая сама с собой. – Я вообразила бы, что вам нет дела до моей далекой страны с ее дремучими лесами. Решила бы, что ваше сердце навеки отдано этой земле, богатой и плодородной, полной жизненных сил, но лишенной романтики Запада.
– А что вы думаете обо мне сейчас, моя Сафо?
– Что для меня вы не грубый чужестранец, живущий лишь нуждами своей отчизны, который смотрит на меня как на экзотическое растение, почитая мои восторженные патриотические речи за избыток чувствительности, а сын Сенегамбии, как я ее дочь, чем горжусь несказанно, ибо вы – величайшее сокровище, порожденное ее удобренной огнем землей. Я смотрела на вас, когда эти ангрийцы бесновались вокруг кареты, и гордилась тем, что вы не их, а мой сородич, – равно и они ощущали в вас нечто глубоко чуждое их духу и образу мыслей, и именно это чувство подвигло их к бунту.
– Мэри! – воскликнул Заморна, со смехом приблизившись к жене. – Мэри, да что с вами сегодня? Куда девалось беззаботное выражение на вашем хорошеньком личике, к которому я привык?
Он взял ее за подбородок и всмотрелся в лицо, но герцогиня отвела глаза.
– Не надо, Адриан. Мне снился Перси-Холл. Когда вы позволите мне туда отправиться?
– Хоть сейчас. Велите закладывать карету.
– Вы шутите, а я серьезно! Вы никогда не разрешаете мне действовать по своему усмотрению.
Отнюдь! Разве то, что вам позволено мне перечить, не говорит о моей снисходительности?
– Позвольте мне уехать, а через месяц, покончив с делами в Адрианополе, присоединяйтесь ко мне. Обещайте, Адриан!
– Вас я отпущу охотно, – заявил герцог, все более раздражаясь. – Но просить меня вновь оставить Ангрию до истечения хотя бы года и одного дня – что это, если не каприз чрезмерно избалованной жены?
– Каприз? Вовсе нет! Кажется, вы ждете не дождетесь моего отъезда. Неужто вы думаете, что, будь моя воля, я отпустила бы вас от себя на расстояние в полторы тысячи миль?
– Или в полторы тысячи ярдов, – отвечал его светлость. – Вы обращаетесь со мной, будто я китайская статуэтка в вашем будуаре. Оставьте этот тон. Что на вас нашло?
– Адриан, за что вы на меня сердитесь?
Герцог взял с подоконника книгу и погрузился в чтение. Герцогиня некоторое время постояла рядом, хмуря красиво изогнутые брови. Что до бровей ее мужа, то они свидетельствовали о крайней степени сосредоточенности – Заморна перелистывал страницу за страницей, весь уйдя в книгу. Ее светлость отнюдь не раба своих капризов, даже если время от времени и позволяет себе играть с огнем. Непогрешимое чутье подсказало ей, что она зашла слишком далеко. Присев рядом с Заморной, герцогиня склонилась над книгой. То был томик Байрона. Поэтические строфы вслед за мужем захватили и ее. Шуршали страницы: заглянув супругу в лицо и получив его соизволение, герцогиня переворачивала их тонким пальчиком. Она была сама покорность, ее нежная ручка так и норовила дотронуться до его мужественной руки, ее волосы мягко касались его щеки, а шелковое платье шелестело так маняще, что герцог, не в силах противиться очарованию, сменил гнев на милость. Не прошло и получаса, как она решительно захлопнула надоевший том, почти не встретив отпора: Заморна лишь покорно-досадливо покачал головой.
Более мне почти нечего сказать о герцоге и герцогине Заморна; по крайней мере их дальнейшая беседа не предназначена для чужих ушей. В гостиной сгущались сумерки, последние отблески заката скользили по золоту стен. Они сидели рядом в глубокой оконной нише, и луна взирала на них с небес, озаряя лица своей улыбкой. Довольная Мэри склонила голову на грудь того, кому доверяла, счастливая в своем неведении. Заморна был добр с нею, почти нежен. Он хранил ей верность (как мнилось герцогине) с их благословенной встречи в Адрианополе, и она блаженствовала, свернувшись в объятиях супруга и не страшась, что утратит его любовь именно тогда, когда так в ней нуждается. Во время их последнего визита к Нортенгерленду Заморна был к ней подчеркнуто внимателен, уверенный, что ласковость, которую он демонстрирует дочери, вернее всего завоюет сердце отца. Язык бессилен передать чувства герцогини, когда, сидя между мужем и отцом, она ощущала себя светом их очей. Их нежная привязанность выражалась не в речах: ее родитель не отличался любовью к чувствительным излияниям, не говоря уже о супруге, столь решительном в поступках, но не щедром на слова, – однако в присутствии Мэри Нортенгерленд был неизменно мил и любезен, а Заморна с утра до ночи не сводил с жены преданного взгляда.
Кто стучится в дверь? Неужели Ханна Роули? Говорит, что пора пить чай, а мистер Сурена торопится вернуться в лавку. До встречи, читатель!
28 июня 1838 года
Герцог Заморна
В глуши, вдалеке от городской суеты, провинциальной или столичной, я постепенно забываю треволнения прошедших весны и зимы. Платан, качающий большими листьями на ветру, – единственная живая душа перед моим взором. Подняв глаза к узкому оконцу, я различаю в утренней дымке пасущиеся на холмах стада, однако же здесь, в моем домике с его садом и деревом, царит полная тишина. В доме есть женщина, но я не вижу ее и не слышу. От кухни, где она потихоньку хлопочет, меня отделяют две или три закрытые двери. Я в Ангрии, но в какой из ее провинций? Не спрашивайте. Ни один товарищ не разделяет мое уединение. Я умер для мира.
Когда мы мало думаем о настоящем, когда веселые картины недавнего прошлого тают в памяти, как розовые облачка, или, вернее, как театральные декорации, которые на время ослепили нас блеском золота и багрянца, – быть может, сцены восточной пышности, сказочные в своем великолепии, – так вот, когда они отступают, мы либо устремляемся мечтами в будущее, либо припоминаем видения давно ушедших времен. Под платаном есть скамья; вчера я полдня лежал на ней в неге июльского зноя, перед чистым, покойным домом, в котором сейчас живу, размышляя не о виденном, а о слышанном, припоминая анекдоты, рассказы о событиях почти легендарных (не по древности, но по своей романтичности), странные и страшные намеки, которые мне никто до конца не разъяснил, тусклые отблески, улавливаемые не по годам развитым ребенком. Тогда я не мог оценить их по достоинству, хотя, когда в словах говорящего мне, как бы сквозь тусклое стекло, представала сцена любви в великолепном салоне либо в тени парка, я готов был отдать все, чтобы узреть ее участников напрямую, лицом к лицу!
Я говорю не о литературном вымысле и не о традиции целиком ушедшего поколения. Нет, я имею в виду куда более пикантные слухи, новости, которыми обменивались между собой слуги во всех аристократических домах Запада. Как часто я, никем не замеченный, ловил перешептывания дворецкого и камеристки: мисс Фанни сидит в гостиной на диване, белее полотна, и горько рыдает неведомо о чем, а мистер Дорн уже много дней не улыбается и не разговаривает с дочерью. Так я узнавал, что в сумерках у ворот Чатем-Гроув видели даму и джентльмена, которые прощались с поцелуем; у джентльмена было дерзкое и порочное лицо, и в нем вроде бы узнали мистера Артура О’Коннора, а в даме, бледной, с жгуче-черными волосами, – леди Анну Вернон. Или одна служанка говорила другой, что мистер Сент-Джон Янг вернулся из Витрополя, и, захлебываясь от волнения, добавляла, что он проиграл в этом году больше половины состояния; великий аукционист мистер Джонс едет оценивать Сент-Джон-Грейндж. На вопрос, а как же миссис Янг, рассказчица, приложив палец к губам, отвечала, что та осталась в городе и вряд ли скоро последует за майором. Он собирается подать на развод; поговаривают, что на майорше женится молодой лорд Кавершем, однако ему ни в коем случае нельзя верить. Далее подробно обсуждалась красота миссис Янг, великолепные бриллиантовые серьги, которые она надела в оперу накануне побега с лордом Кавершемом, после чего разговор переходил на ее детей: старшенькая, говорят, вся в мать, писаная красавица, но такая резвушка, что никакого с нею сладу, а единственного сына отец послал учиться в пансион и не разрешает бедняжке приезжать домой на каникулы. Все это и многое другое я часами слушал в постели, когда нянька, сидевшая у меня в ногах, и ее приятельница горничная сплетничали без опаски, думая, будто я сплю.
Дурные нравы царили в западной столице, очень дурные. В солнечной Франции легкомысленная жажда удовольствий превращает веселую парижскую жизнь в один нескончаемый вихрь блистательных светских забав; иным был удел наших аристократов. Они бездумно бросались в водовороты страстей, бушующих в обществе, и успевали пережить краткие миги пьянящего восторга, пока стремительная воронка не затягивала их в черную пучину и не швыряла об острые подводные скалы, где неосторожных пловцов подстерегает акула-смерть.
Эта участь не обходила и женщин. Так погибла Сеговия. Она приняла насильственную смерть в самом расцвете лет и ослепительной красоты. Среди садов, подобно древней царице, окруженная пышностью, какой не ведал античный мир, она испустила дух в мучениях, как и тот, кто, умирая от того же яда средь сельских рощ, в предсмертных хрипах назвал ее своей убийцей. А кто она была, если не убийца? Указания поступили из ее салона в Веллингтоне. В роковую ночь видели, как Сеговия встала с кресла, и покуда трое ее советчиков – старый лорд Кавершем, мистер Симпсон и мистер Монморанси – смотрели затаив дыхание, она, величаво-обворожительная, взяла под руку Роберта Кинга и шепнула ему на ухо слова, которые никто другой не осмелился бы произнести.
Думая об этом, я взял со стола бумажник, открыл его и разложил перед собой содержимое: пожелтелые письма с чернилами, расплывшимися от сырости и выцветшими от времени. Не спрашивайте, как они ко мне попали. У меня острые глаза и ловкие пальцы: я искал эти эпистолы наудачу в давно заброшенных домах, в старых секретерах и бюро, которые не открывали десятилетиями. Как странно смотреть на записочку у меня в руках. На ней значится: «Вилла „Джордан“, август 1811». Почерк женский, бисерный, слов совсем мало:
«Мистер Симпсон, мне сообщили, что Перси не получил от вас требуемых денег. Вы премного меня обяжете, если выдадите их ему незамедлительно.
Они ему нужны, и срочно. Или вы боитесь их потерять? В вашей власти поправить дело. Есть способ, однако вам всем недостает отваги к нему прибегнуть. Так или иначе, лорд Кавершем долго ждать не будет. Дайте Перси, сколько он хочет.
А. ди Сеговия».
Итак, этой бумаги касалась ее рука. Ее пальцы выводили строки, которые я читаю, ее взор их направлял. Двадцать семь лет назад это было написано на вилле «Джордан» в Сенегамбии. Где теперь писавшая? Ничто не даст ответа. Даже из ее родни никого уже нет в живых. Вот ответ: на нем множество клякс, чернила смазаны в спешке.
«Досточтимая мадам, сколько можно требовать от меня денег для юного вертопраха, которому вы покровительствуете? Доколе вы будете подливать масло в огонь его безрассудств? Ей-богу, мадам, как на духу, он должен мне уже 5000 фунтов. Лорд Кавершем проглотит и больше, а Перси-старший по-прежнему в добром здравии. Ваш протеже был у меня сегодня утром, и я, вам в угоду, позволил вытянуть из себя еще 400 фунтов. Больше он не получит, даже если придет за подаянием с туфелькой вашей милости. Ищите другие источники средств.
ВашДжеремайя Симпсон».
И снова почерк Сеговии:
«Мистеру Вуду, управляющему Королевским театром.
Сэр, вчера вечером ваша примадонна меня оскорбила. Мы встретились на частном концерте у лорда Вернона, и, повторяю, мисс Хантер меня оскорбила. Садясь за арфу, она повернулась к джентльмену из моего окружения и взглядом, который я не могла не заметить, пригласила его переворачивать ноты.
Сэр, вы сами наверняка видели, как мисс Хантер ведет себя по отношению к этому джентльмену. В прошлый вторник, играя в вашем театре Джульетту, она не сводила глаз с моей ложи и обращала страстные речи не к Ромео, а к молодому человеку, опиравшемуся на спинку моего кресла. Этот молодой человек, сударь, принадлежит мне. Я ему покровительствую и не позволю, чтобы ваша Хантер развращала его своими дерзкими вольностями.
Сударь, извольте принять меры. Если вы немедленно не разорвете контракте примадонной, я откажусь от ложи в Королевском театре, и ноги моей там больше не будет.
Остаюсь
А. ди Сеговия».
Есть у меня и ответ на эту записку, вышедший, впрочем, не из-под пера мистера Вуда. Почерк женский; некоторые слова написаны с ошибками.
«Леди Августа ди Сеговия!
Вуд – джентльмен и дал мне прочесть ваше бесценное письмо. Так вы думаете, что управляющий Королевским театром расстанется с примадонной в середине сезона? Вуд скорее дал бы содрать с себя кожу. Вы ревнуете своего юного Адониса, не правда ли? Что ж, у вас есть все основания. Позвольте шепнуть вашей милости на ушко: после концерта у лорда Вернона я давала небольшой ужин у себя дома, и ваш птенчик был моим гостем. На следующее утро он очень учтиво прислал мне пару жемчужных браслетов.
Если вашей милости угодно разрешить наш спор, мы можем сделать это завтра вечером в зеленой гостиной. Меньше недели назад мы встретились там ненароком с итальянкой Габриэлой Чина. Еще никогда в жизни она не брала таких высоких нот. Вуд и граф Эллрингтон будут моими секундантами, вы можете пригласить юного Монморанси или кого вам угодно.
Остаюсь и проч.
Элиза Хантер».
Эти письма делают честь своим авторам, не так ли, читатель? Как, спросишь ты, оказались они у меня в руках? Не важно. Такого рода пустяки рассеяны по всему миру; клочок бумаги легок, и его может подхватить даже самый слабый ветерок. Память о свершенных гнусностях живет долго, марая имена усопших. К тому же «дела дурные мы чеканим в бронзе, а добрые мы пишем на воде». [24]24
Шекспир. Генрих VIII. Пер. В. Томашевского.
[Закрыть]
Вот еще письмо. Он подписано: «Харкорт, июнь, 1810» и адресовано:
«Майору Стейтону, Оуквуд
Дорогой майор, я назвал в Харкорт гостей, просто чтобы вдохнуть новое веселье в стены старого дома. Султанша везете собою всю свиту, в том числе крошку Харриет. Дозвольте предупредить, что ее я присмотрел для себя. Можете приударить за Мэри Дорн или за кем пожелаете, но Харриет – моя спутница на утренних верховых прогулках, и вечерами она танцует со мной.
Вы, разумеется, приедете. Султанша запрещает играть в кости, но мы проверим, насколько она будет тверда. Монморанси говорит, что при виде стаканчика с костями у нее начинают чесаться пальцы. Привычка – вторая натура. Правду сказать, я еще не видел, чтобы женщина так предавалась этому пороку.
Конечно, с нею будет голубок.
Неоперившийся, любимый всеми нами.
Как видите, я заделался поэтом. Симпсон клянется, что дела не позволяют ему отлучиться из конторы, но попомните мои слова: он будет наезжать к нам каждый второй вечер. Не забудьте, что я сказал про нашего общего знакомца Гарри.
Искренне ваш, Джордж Вернон».
Следующее послание, от лорда Кавершема Эдварду Перси, эсквайру, в Перси-Холл, написано очень неразборчиво, буквы спотыкаются.
«Дорогой Перси!
С прискорбием слышу, что Александр по-прежнему ведет себя беспутно. Боюсь, что в Веллингтоне он связался с дурным обществом. Леди Августа, о которой я вам писал, одна из самых испорченных женщин в столице. Александр с нею постоянно; она его будто околдовала. Он чуть не каждодневно получает вызовы от ее прежних поклонников. Мистер Кинг сказал мне, что за прошлый месяц Александр стрелялся трижды. В числе его противников был некий синьор ди Росси, итальянский скрипач, прежде бывший в большом фаворе у ее милости.
Александр вместе с нею отправляется к лорду Джорджу Вернону, который устраивает в Харкорте большой прием. Я тоже приглашен и, коли вам угодно, могу поехать, дабы приглядывать за вашим сыном и елико возможно ограждать его от сетей этой воистину ужасной женщины. Кинг смутно намекает на дурное состояние финансов своего молодого господина: ему, мол, сильно досаждают кредиторы. Несмотря на все эти прискорбные обстоятельства, желаю вам беречь здоровье и по возможности гнать от себя тревожные мысли. Прошел ли кашель, который беспокоил вас в нашу последнюю встречу?
Положитесь на меня.
Искренне ваш, Кавершем».
Чья эта торопливая записка, адресованная «мисс О’Коннор в О’Коннор-Холл», чей несформировавшийся, почти школьный почерк?
«Гарри, душа моя!
Вы знаете, что я принимаю в вас самый живой интерес, и потому не удивитесь, что я с утра первым делом пишу вам записку с вопросом: отчего вы вчера были так печальны? Всякий раз, поднимая глаза, я ловил ваш взгляд, исполненный необъяснимой муки.
Неужто ваша мегера-мачеха сделала вашу жизнь еще более невыносимой? Или (я говорю как друг, Гарри) вы влюблены? Коли так, просто назовите мне предмет ваших воздыханий. Надеюсь, вы не намерены со мною соперничать и не имеете честолюбивых видов на мою несравненную Августу? Выбирайте кого угодно, Гарри, мой свет, только не ее.
Если вечер будет такой же погожий, как утро, набросьте шаль и выходите с закатом на вашу нижнюю плантацию. Встретимся там и побеседуем дружески при свете луны. Тогда можно будет подробнее обсудить затронутую мною тему.
Укрепите свое отважное сердечко. Забудьте про свой пол и доверьтесь мне.
Ваш искренний друг и брат, Александр Перси».
А вот письмо, написанное очень красивым женским почерком и адресованное Роберту Кингу, эсквайру:







