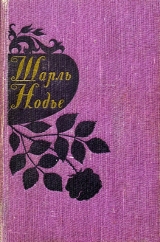
Текст книги "Избранные произведения"
Автор книги: Шарль Нодье
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 40 страниц)
Мы совсем не являлись завсегдатаями того общества, что называют дурным, но по характеру наших интересов редко попадали в то общество, что называют хорошим. Кочующие странники жизни, мы в поисках приключений каждый вечер разбивали нашу палатку на границе двух миров, в равной степени принадлежа каждому из них: с одним мы были связаны воспитанием и привычкой, а в другой нас ежеминутно влекли легкие удовольствия и безопасные победы. Если вам недостаточно хорошо известна топография этих двух полушарий мира, то мне будет принадлежать заслуга сообщить вам, что место их соприкосновения – театр, а говоря точнее – ложи бельэтажа в добрых провинциальных городках. Едва занавес успевал подняться, как дюжина черных или голубых глаз (я имею в виду сцены, где участвует толпа) разыскивала нас на нашем диване и приветствовала иногда соблазнительными обещаниями, а иногда прелестными укорами. Взгляд, который бросала нам красотка, украдкой вздыхавшая в кулисах перед своим выходом на сцену, то тайно следил за нами из-за «плаща Арлекина», то сверкал, подобно молниям, сквозь огромные щели в плохо прилаженных декорациях или между двумя кустами роз из крашеного холста. Наконец она выходила, расточая богатства своего соловьиного горлышка – или любого другого горлышка, какое вам будет угодно поставить взамен. Она выходила под лестный шепот присутствующих, которые, казалось, и аплодировали-то только для нас, ибо мы относили к себе половину всех рукоплесканий. Сдается мне, что подчас мы получали также и свою долю свистков, но ведь приходится применяться к обстоятельствам. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что из нас двоих я гораздо ближе принимал к сердцу все эти напасти, так как благодаря моему нетерпеливому и непоседливому нраву был приучен ко всевозможным превратностям судьбы; но мы с Амандусом все делили по-братски и никогда не считались. Так, чтобы не ходить далеко за другими примерами, я вспоминаю, что в тот месяц злополучная судьба навязала мне некую девицу Дюгазон, пяти футов и семи дюймов ростом и соответствующего веса, чья фигура, казалось, скроена была скорее для того, чтобы носить раззолоченный мундир тамбурмажора полка швейцарцев, чем корсаж пастушки. Когда она изображала Бабетту (черт возьми, ничего себе Бабетточка!) и когда она, бывало, перебирая в корзинке своими ручищами безобразные цветы и распевая голосом, который, к счастью, был чуть потоньше, чем ее угрожающих размеров особа, —
Для тебя я букет составлю
испепеляла меня любезно состроенными глазками, то я готов был благословить – о, вы можете мне поверить! – спасительный кинжал, который пронзил бы мне грудь! Но что поделаешь? Ведь в том и заключалось одно из существеннейших условий моего счастья: то была одна из надежнейших защит моей невинности. Забыл сказать: эта девица была здорово некрасива, причем косила она отчаянно.
Другая половина вселенной находилась в ложах; если бы вы соблаговолили проследить за моей метафорой до конца, то вам все стало бы ясно. Что же касается лож, то наши нравственные принципы запрещали нам туда смотреть; именно смотреть, а не видеть, потому что уж если увидишь там что-нибудь стоящее того, чтобы его видели, так начинаешь туда смотреть. Дело в том, что в одной из лож сего маленького театра некоего городка, какого точно – я вам не скажу, а не то вы начнете его искать на западе, – итак, говорю я, в третьей ложе с правой стороны виднелось ангельское личико, одно из тех, что обрекают людей на погибель, а святых превращают в мечтателей. Я плохой живописец, зато вы, когда палитра у вас в руках, сумеете чудесно написать портрет. Но даже когда вы изобразите вашу модель шестнадцатилетней, гибкой как тростинка, с белой и в то же время чуть рдеющей кожей, под которой гуляет кровь, как некий дух жизни, все нежно окрашивающий и нигде не проступающий резко, со светлыми кудрями, что, подобно дымке, обволакивают плечи и ласкают взор, так же, как они ласкали бы и руку; даже если бы вы захотели оживить этот образ не знаю каким налетом небесности, не поддающейся описанию, придать ему черты, при виде которых ваятель Венеры от зависти пронзил бы себе грудь собственным резцом; даже если бы вы написали глаза большими и синими, чарующими как небо и палящими как солнце, – то и тогда вы не получили бы представления о тысячной доле совершенств Маргариты.
Маргарита очень рано лишилась родителей. Бедняжка осталась с восьмьюдесятью тысячами франков годового дохода и на попечении тетки с материнской стороны, все еще привлекательной вдовушки, которой стукнуло сорок так недавно, что об этом не стоило и говорить, и которую нельзя было упрекнуть в бесчувственности к воздыханиям влюбленного сердца. За год или за два до описываемых событий я оказался весьма глубоко и весьма знаменательно влюбленным в нее (я говорю о тетке), и это мне стоило бог весть скольких мучительных часов смертельных страданий, надежд и планов, но не привело ни к каким последствиям, ибо чувство это овладело мною как раз накануне того достопамятного дня, с которого начинается эра моих философических увлечений. С тех пор я обо всем этом не подумал ни разу, даже в те восхитительные моменты, когда дремлющая душа, не успев проснуться, вновь засыпает; и моя ничем не возмутимая память, столь верная бабочкам и мушкам, наверное забыла бы самое имя тетки, если бы у нее не было племянницы. Мне не приходится говорить, что возраст и невинность этого очаровательного ребенка (о племяннице сейчас идет речь) разверзали между нами непреодолимую пропасть. Но восемьдесят тысяч франков годового дохода! – вот что было много хуже, ибо если я и обладал подобной суммой, то только в виде долгов.
– Ты не выполняешь наших условий, – сказал мне однажды Амандус, – ты смотришь на ложи!
– Лишь подобно тому, как души детей, умерших без крещения, снизу взирают на божью обитель, – отвечал ему я, – и не требуя в ответ взгляда из сих горних мест. Впрочем, у меня к тому есть основания, и я не собираюсь делать из этого тайну. Время бежит беспощадно, а мы мним остановить его, отдаваясь часам безумных наслаждений; и сколь бы мы ни были сейчас молоды и хороши собой, есть опасность, что, подобно семерым мудрецам Греции, состаримся и мы. У тебя еще есть надежда на мирное существование среди приятных досугов праздности и благородного времяпрепровождения – охоты на лисиц в чащах Вюльпиньера; все это, конечно, в том случае, если твой дядюшка, обезоруженный поведением более примерным, чем твое нынешнее, соблаговолит оставить тебе после своей смерти, которая не заставит себя долго ожидать, обветшалый замок, голубятню и заросли кустарника. Мне же не приходится рассчитывать ни на дядюшку, ни на вотчину, ни на голубятню, ни на кустарник, ни на лисиц; было бы уж и то хорошо, если б вслед за тем, как мои кредиторы поделят оставшиеся после меня пожитки, удалось найти публику достаточно приличного свойства, чтобы читать, а главное, покупать мои романы! Стало быть, мне необходимо вдохновиться образом, который навсегда поселится в моем сердце, необходимо мечтать о каком-нибудь прелестном личике, лелеять его и мысленно ласкать; и раз оно мне встретилось, я беру его!
– Малютка Маргарита! – произнес Амандус, настраивая бинокль и наводя его с наглой бесцеремонностью на то небесное личико, на которое, преисполненный чувства восторга и преклонения, я не смел и взглянуть. – А ведь, право, она чертовски хороша. Спасибо, что ты мне ее показал. В ней, если говорить твоим языком, есть нечто волнующее воображение и в то же время успокаивающее сердце, какая-то рафаэлевская нежность, не правда ли? Когда смотришь на нее, то сам делаешься более чистым, а когда думаешь о ней, становишься лучше. Чудесное преимущество невинности, необъяснимое влечение, которое вызывают в нас души возвышенные! Увы, мой добродетельный друг! Какой жемчужиной, каким алмазом сверкала бы она где-нибудь за прилавком в магазине мод или в толпе фигуранток! Все испортила слепая фортуна, но ведь она никогда иначе и не поступает. Право же, судьба глупо и зло подшутила, поместив эту прелестную мордашку в собственную карету, вместо того чтобы показать ее нам сегодня, освещенную лампами, в кулисе вздохов.
Меня передернуло от возмущения: кулиса вздохов была четвертая слева.
– Итак, вдохновись, – продолжал Амандус, положил голову мне на плечо и развалившись на диване, к моему великому возмущению, ибо Маргарита могла нас увидеть. – Вдохновись Маргаритой, если только это тебе подходит, потому что более чем когда-либо я нуждаюсь в твоем вдохновении. Пиши романы, Максим, пиши романы! А мой роман, если только не ошибаюсь, идет к счастливой развязке. Мой дядюшка сейчас ко мне достаточно благорасположен, и я знаю, что он намерен обеспечить меня своим жиденьким состоянием в день, когда я совершу свой первый благоразумный поступок – вступлю в законный брак.
– Вступить в законный брак! – воскликнул я. – Этого не может быть, Амандус. Неужели ты думаешь жениться?!
– А почему бы мне и не жениться? – продолжал он расхохотавшись. – Неужели ты думаешь, что я неспособен на серьезные поступки и твердые решения?.. Бог мой, до чего же Аглая сегодня худо одета, и как ее гадкий костюм великолепно сочетается с ее слоновьими ужимками!.. Когда у человека нет больше денег, Максим, то он должен покончить с беспечной жизнью, и сделать это он должен благоразумно, серьезным, самым серьезным образом. Таково мнение моего дядюшки, так повелевает житейская мудрость. Ты ведь и не знаешь, что такое мудрость; но это придет… Ну, что ты скажешь! Вот теперь она начинает фальшивить!.. Итак, вдохновись и напиши для меня коротенькое и четко составленное объяснение, достаточно нежное и достаточно искреннее, понимаешь? Откровенное признание в моих слабостях, ошибках и во всем, в чем тебе угодно; я не стану придираться. Режь! Отсекай! Прибавляй, если можешь! Отсекай вновь, если смеешь! Ты моя совесть, моя душа, ты знаешь, сколько нежности и благородных чувств скрыто в том братском сердце, что сейчас бьется рядом с твоим!.. Ты заметил? Лаура-то целый вечер, сумасшедшая, не сводит с меня глаз. И зря она поджимает губки: все равно видно, что у нее не хватает двух зубов.
– Для того чтобы мои письма отвечали твоим намерениям, – сказал я, не обращая внимания на отступления Амандуса, – мне было бы весьма кстати узнать, кто же та счастливица, на которую пал твой выбор. Est modus in rebus; sunt certi denique fines.[74]74
Есть мера в вещах; существуют, наконец, пределы (лат.).
[Закрыть] И вообще, не могу же я угадать…
– Никаких ребусов и чертей здесь нет, Максим. А если бы ты мог угадать, ты поистине знал бы больше меня самого о моем будущем, в которое я, спасаясь от настоящего, бросаюсь сломя голову. Если б ты мог угадать, я попросил бы тебя сказать мне, о ком я думаю, кто та женщина, которая впервые для меня явилась предметом настоящей любви. Но, черт возьми, я не прошу тебя заниматься догадками, а прошу написать изящное послание, составленное в приличествующих выражениях и по всем правилам, на манер «Телемаха»[75]75
«Телемах» – точнее: «Приключения Телемаха» – роман французского писателя Фенелона (1651–1715).
[Закрыть] или «Принцессы Клевской»,[76]76
«Принцесса Клевская» – известный роман французской писательницы г-жи де Лафайет, вышедший в 1678 году.
[Закрыть] письмо, квинтэссенцию твоей изобретательности, которое можно послать по любому адресу, дающее доступ в любой дом, такое письмо, чтобы я на него мог сделать ставку в лотерее брака. Пусть речь в нем идет о невинности, добродетели, красоте; не вздумай распространяться о цвете волос, это может привести к недоразумениям. Я все перепишу тщательнейшим образом, а там уже почта и моя счастливая звезда займутся осуществлением моих надежд. И мой достойный дядюшка, который хочет, чтобы я обзавелся женой, ни в чем не сможет меня упрекнуть, когда я ему докажу, что мне было отказано пятьдесят раз! Или же, наоборот, их окажется две, три, дюжина, не знаю сколько, и тогда сразу вслед за мной выберешь и ты, а может быть, ты это сделаешь даже лучше моего – у тебя ведь такая счастливая рука!
Ах, негодник! И это в то время, как пела Аглая!
– Я? Полно, – ответил я с досадой. – У меня ведь нет Вюльпиньерского поместья!
– Как? Неужели столь слабая надежда могла бы тебя так волновать? Я готов поставить ее на карту взамен твоей лошади или взамен Аглаи при первом же случае.
– Лошадь я продал вчера, Аглаю, если хочешь, можешь получить сегодня же вечером, а письмо я напишу, если только не забуду.
Завязалась переписка, ибо, к нашему величайшему удивлению, – моему, а также, без сомнения, и Амандуса, – дело не кончилось его первой попыткой, а имело последствия. Так как Амандус стал теперь очень скрытным, да и я никогда не отличался любопытством, то о его успехах я мог судить лишь в той мере, в какой он надоедал мне своими просьбами. В общем, я спустился со своих заоблачных высот на землю только тогда, когда дело дошло до бабушек и дедушек. Теперь решение всех трудностей зависело только от них, и я не мог прийти в себя от изумления при мысли, что вот нашлась женщина, достаточно неустрашимая, чтобы решиться поверить невероятным клятвам Амандуса.
Мы продолжали ходить в театр, но очень редко, в особенности Амандус; как он это и обещал, он начал в своем поведении проявлять некоторую отменно благопристойную сдержанность. К несчастью, я был связан, как известно, другими путами. Моя колоссальная пастушка все еще не проломила подмостков, и не находилось человека достаточно отважного, чтобы сменить меня на посту, хотя для кавалеристов это могло бы быть чудесным времяпрепровождением. А когда прибыл драгунский полк, сверкающий эполетами, весь в облаках пыли и в сиянии славы, с лошадьми, нетерпеливо бьющими копытами под ее окнами, то я не помнил себя от радости. Пустые мечты! Вслед за драгунами приехали гусары, и эти бабочки наслаждений и войны, берущие добычу всюду, где они ее находят, не удостоили даже задеть Аглаю крылышком. Надежды, которые я возлагал на испытанную храбрость кирасир, тоже оказались напрасными. В сем длительном искусе Аглая сумела сохранить незапятнанную верность и твердо решила отстаивать свои права. То была женщина неприступная и убийственно постоянная в своих чувствах. Среди всех злоключений, которые мне привелось претерпеть от любви, самым страшным была эта ее добродетель; вот от этой-то добродетели у меня появлялось порой желание пустить себе пулю в лоб.
Я искал только предлога, чтобы навсегда покинуть свет, и случилось так, что именно самое чистое из всех моих душевных чувств дало мне его, и в такой момент, когда я менее всего этого ожидал. Я уже заметил, что Маргарита стала проявлять к нам больше интереса, чем мне бы того хотелось. И с некоторых пор это ее внимание к нам приобрело характер, который начал меня несколько беспокоить: оно приняло форму заботливого участия, мечтательной чувствительности, чего-то неопределенного, нежного и идеального, что на чистом челе девушки является признаком зарождающегося влечения. «О, горе! О, злая судьба! – подумал я. – Неужели твоя несчастная звезда заставит тебя полюбить одного из нас, бедное и очаровательное дитя? Но, по крайней мере, не я буду потворствовать этой жестокой судьбе! Наступает пора экзаменов, а я еще даже не раскрыл ни одной книги, чтобы к ним подготовиться. Ну так вот, ради занятий я отказываюсь от всех мимолетных разочарований, что зовутся наслаждениями. И если нужно, так я прочту десять томов Якобуса Куйациуса[77]77
Куйациус Якобус – он же Кюжас (1522–1590) – французский юрист, автор сочинений по вопросам римского права, написанных по-латыни.
[Закрыть] в издании Аннибала Фаброти, cum promptuariis;[78]78
С готовностью (лат.).
[Закрыть] я прочту их (horresco referens[79]79
Повествуя, содрогаюсь (лат.).
[Закрыть]) раньше, чем позволю себе тратить время на женщин, – призываю в свидетели тень Юстиниана!» Засим я вышел из театра и направился домой, чтобы послать окончательный отказ Аглае. Нет нужды говорить вам, что это решение избавило меня от большой обузы.
Вероятно, в моих словах, когда на следующий день я разговаривал с отцом о намерении начать совсем новую жизнь, было так много убедительной силы, что он тут же, в награду за мою жертву, подарил мне всю свою библиотеку вместе с изящным павильоном, который она занимала. То были две вещи, любимые им больше всего на свете после меня. День я провел, расставляя все то, что могло бы мне понадобиться в моих занятиях или же украсить мое добровольное изгнание, и по тому глубокому чувству удовлетворения, которое доставили мне эти отрадные заботы, я понял, что счастье многолико. Да что я говорю! Чистое счастье души, довольной собой, всегда одерживает верх над счастьем воображаемым как по своей длительности, так и по своей сущности. Я был счастлив до самого вечера; никогда раньше я не бывал счастлив так долго.
Вечером я начал зевать; за десять минут я двадцать раз взглянул на часы: меня преследовали первые звуки оркестра; в моих ушах раздавался почти столь же нестройный стук открывающихся и захлопывающихся дверей, и я тщетно старался различить в воздухе – увы! – слишком чистом, тот чуть затхлый аромат, в котором смешивается запах коптящих ламп с испарениями духов. Я искал прелестный взгляд Маргариты и на потолке и на карнизах, я искал его по всем полкам и столикам библиотеки, но мои глаза наталкивались только на Якобуса Куйациуса, изданного Аннибалом Фаброти.
– Хотелось бы мне знать, – воскликнул я наконец, – предназначались ее взгляды ему или мне? А поскольку сегодня утром он взял себе место в почтовой карете, стало быть сейчас он должен быть в отъезде. Никогда мне не представится лучшего случая развеять мои сомнения, и каков бы ни был исход, это только укрепит меня в моем благом намерении. Завтра потружусь!
На этот раз я не мог обмануться, и я заявляю вам это со всем самодовольством, которое может внушить глупцу неожиданная удача в любви: ее взгляды предназначались лишь мне, мне одному! Вы скажете, что ведь я был тогда один и являлся для Маргариты лишь чем-то вроде болонского камня; и подобно тому, как это чудесное ископаемое, чьи поры, влюбленные в свет, долгое время после захода солнца выделяют бледное сияние, так и от меня должны были исходить флюиды Амандуса. Это не пришло мне в голову, а кроме того, если я только разбираюсь в подобных вещах, – да и есть ли на свете мужчина, который думает, что он в них не разбирается? – то в этом небесном личике, таком умном и выразительном, угадывалась мысль, которая могла относиться только ко мне и только от меня ожидала ответной мысли. Я попытался разгадать ее; поняв – я содрогнулся, героически призвал на помощь храбрость и в конце концов бежал, унося в груди смертельную тоску; и все оттого, что я возомнил себя счастливым!
Нет, Маргарита, о нет! Я не вторгнусь в святыню твоей невинной души для того, чтобы зажечь и поддерживать в ней пламя страсти, которая погубит нас обоих! Нет, я не перенесу в бесплодную пустыню моей жизни твой нежный и свежий стебелек с его душистыми цветами! А в то же время кто, кроме меня, сможет тебя любить так, как ты того заслуживаешь! Я стал бы алтарем твоих ног, арфой, звучащей от твоих вздохов, сосудом, бережно хранящим твой аромат! Я бы стлался перед тобой волнами фимиама! И, подобно капле росы, испаряющейся от полуденного зноя, я сгорал бы в огне твоих лучей! О, никогда я не посмел бы руками мужчины развязать пояс твоего девственного платья! Раньше чем приблизиться к тебе, я прошел бы через всеочищающее пламя клокочущего вулкана, и мои губы прикоснулись бы к твоей груди только через покров, из боязни осквернить ее!.. Но ты богата, Маргарита, и ничто не в силах полностью лишить тебя всех ненужных благ и сделать тебя равной мне по состоянию! И даже тогда ты оставалась бы слишком недосягаемой, была бы достойна одних только королей!.. Нет, Маргарита, я вас больше не увижу никогда… Разве только в том случае, если вмешается сам дьявол.
Заканчивая эту поэтическую тираду, тривиальный конец которой немного портит начало, я в полном изнеможении рухнул в кресло, которое, к счастью, было мягким, покойным и на пружинах. Дина поставила на письменный стол три зажженных свечи, роскошь, к которой я не привык в своих ночных бдениях, и это еще раз явилось доказательством того, что мои родители были мною довольны. А затем она оставила меня в моем прилежном одиночестве.
Я вышел ненадолго на балкон и облокотился о перила. Небо было прозрачно, как озеро, усыпано звездами, как луг цветами. В ветвях молодых деревьев моего сада чуть слышно было дуновение ветерка, и, казалось, он пробегал по ним, играя, лишь для того, чтобы принести оттуда сладостный аромат. Вдали щелкал соловей, ночные бабочки с легким шорохом порхали под листьями. Была чудесная ночь, созданная для любви, иной, чем та, которую я до сих пор знал, ночь, подобная дивному эмпирею, по бесчисленным сферам которого мне хотелось тогда промчаться с быстротой огней, пересекающих его во всех направлениях, но глубины его были недоступны как моей душе, так и моим глазам. Я затворил все окна, чтобы не отвлекаться этими необъятными красотами, и уселся с твердым намерением приняться за работу, окинув последний раз удовлетворенным взором мой кабинет, где царил столь безупречный порядок. Описание его в такой же степени здесь необходимо, как и карта Лациума для «Энеиды» Вергилия.[80]80
Лациум – в древности страна, расположенная на территории нынешней Центральной Италии, где жили латины, впоследствии завоеванные Римом. В эпической поэме «Энеида» римского поэта Вергилия (70–19 до н. э.) герой поэмы троянец Эней после взятия Трои находит в Лациуме свою новую родину.
[Закрыть]
Павильон, где находилась библиотека, был выстроен моим отцом в более счастливые времена. Расположен он был в стороне от линии домов и возвышался над широкой аркой ворот, чьи недра свободно могли бы вместить кабриолет, которого у меня так никогда и не было. Само здание состояло из длинной прямоугольной комнаты, освещавшейся с востока и запада стрельчатыми окнами и имевшей с южной стороны дверь, которая выходила в небольшой, но правильно разбитый сад, отделявший его от улицы. Это был единственный вход, через который можно было проникнуть в мою комнату, независимо от того, шли вы через двор или со стороны сада; последнее было совсем нетрудно, так как в тесной садовой ограде со всех сторон были калитки, всегда открытые настежь в соседние садики. Для милейших старичков, с детства привыкших видеться, это было местом философических встреч – вроде встреч Академуса и его друзей.[81]81
Академус (или Академ) – легендарный афинянин, в садах которого близ Афин собирались для бесед философы. По преданию, эти беседы положили начало знаменитой Академии Платона.
[Закрыть] Двойная витая лестница, ведущая на балкон, насчитывала не более шести ступеней, так как она шла не непосредственно от пола, а от террасы. У противоположной входу короткой стены стояла моя кровать, скромное ложе студента, а вокруг кровати ниспадал тяжелыми складками белый полог в форме колокола, переброшенный под потолком через золоченую стрелу. Скользя вдоль стен павильона, взор мог встретить лишь корешки старых книг. Мой черный письменный стол, повторявший в миниатюре пропорции этого маленького здания-комнаты, о котором я с нежностью вспоминаю и по сей день, стоял как раз посредине; впрочем, там оставалось достаточно места, чтобы свободно ходить вокруг стола, делая полный оборот в двадцать четыре или двадцать пять шагов – то есть проходя этот путь то медленнее, то быстрее, в зависимости от силы переживаний того, кто его проделывает. В тот день я там изрядно нагулялся.
В конце концов я уселся и, небрежно протянув руку к столику с книгами, стоявшему позади моего кресла, попытался достать оттуда первый том великолепного «Трактата о гражданском судопроизводстве» Роберта-Жозефа Потье,[82]82
Потье Робер-Жозеф (1699–1772) – французский юрист, труды которого были использованы при составлении гражданского кодекса Франции.
[Закрыть] а вместо того вытащил «Историю привидений» преподобного Кальме,[83]83
Кальме (или Кальмет) Августин (1672–1757) – ученый монах-бенедиктинец, автор многочисленных исторических и богословских исследований. Автор известных в свое время комментариев к Библии.
[Закрыть] являющуюся, как это всем известно, самым лучшим из всех существующих сборников рассказов о чертовщине. Страничка оказалась любопытной. Шесть раз перечел я листок с обеих сторон. «Как жаль, – подумал я, – что столь крупный ученый попался на удочку всех этих небылиц, подобно простой деревенской старухе, которой повсюду чудятся злые и добрые духи, когда она собирает валежник и опавшие листья на опушке леса!» Нет, в самом деле, я хотел бы увидеть дьявола, да ведь и вызвать его вполне в моих силах, раз у меня здесь есть «Клавикула царя Соломона» и «Энхиридион» папы Льва в рукописном оригинале, бесценное наследство, доставшееся от одного нашего родственника, доминиканского монаха, тысячу раз пользовавшегося этой кабалистикой для излечения одержимых. Беседа с дьяволом в его естественном обличии должна бы быть, если не ошибаюсь, столь же занятной и назидательной, как беседа с Потье или Кюжасом; конечно, от него трудно добиться удовлетворения той просьбы, за исполнение которой дороговато заплатили Агриппа[84]84
Агриппа – Агриппа фон Неттесгейм, Корнелий (1486–1535), философ, живший в Германии, а затем в Англии. Наряду с медициной занимался богословием и кабалистикой.
[Закрыть] и Кардан,[85]85
Кардан (или Кардано) Иеронимо (1501–1576) – итальянский математик, философ и медик, являвшийся сторонником религиозно-мистического объяснения природы.
[Закрыть] но все же эта просьба достойна того, чтобы на нее решился смелый ум.
И действительно, все это зависело только от небольшого усилия воли с моей стороны: чертова рукопись лежала перед самым моим носом, между чернильницей и песочницей. Не знаю, какой дьявол подбросил мне ее под руку!
Я потянулся к ней дрожащими пальцами, как если бы от одного прикосновения к истертому пергаменту в меня должно было войти некое проклятие. Но пергамент оставался холодным, грязным и сморщенным. Он был сложен в восемь раз, и когда я его развернул, то не появилось даже и намека на запах серы или горящей смолы. Земля ничуть не содрогнулась, белое пламя свечей продолжало спокойно гореть над синим огоньком, окружающим фитиль, а мои неколебимые фолианты непробудно дремали под ученой паутиной пауков-библиофилов. Тогда я стал посмелее, попробовал прочесть написанное и произнес громким голосом торжественные формулы пифийского оракула, который начинал меня воодушевлять; я произнес их так громко, что задрожали невинные стекла моего кабинета, никогда не слыхавшие подобных слов. Но эта кабалистическая рукопись оказалась совсем иной, чем я думал. Не успел я пробежать и двенадцати строк роковой книги, как был вынужден остановиться и перевести дух перед непонятными и поистине дьявольскими знаками, перед неразгаданными символами и буквами, не существующими ни в каком из земных алфавитов.
Другой на моем месте растерялся бы при виде этих причудливых монограмм, этих иероглифов из иного мира, которые, в конечном счете, могли оказаться всего-навсего плодом фантазии невежественного переписчика. Безрассудно, но твердо решившись добиться своего, я встал в гордую позу посреди своих свечей и воскликнул зычным голосом:
– Придите ко мне, о святой и доверчивый Сперберус, всезнающий Кунрат, бессмертный Кнорр фон Розенрот! И ты, добрый Габриэль де Колланж, потративший во время оно всю свою жизнь только на то, чтобы стать темным переводчиком темного Тритема! Придите и растолкуйте мне всю эту тайную премудрость, бояться которой может лишь одно невежество!
Дьявол, как и раньше, ничем не проявил своего присутствия; здесь мне следует разъяснить моим читателям, что произносил я имена отнюдь не демонов, а всего-навсего ученых-кабалистов.[86]86
Кабалисты – последователи так называемой кабали, мистического учения, возникшего среди евреев в начале н. э. и основанного на особом толковании священного писания. Сохранившаяся вначале в виде устных преданий, кабалистика в VII–XVI веках развилась в обширную литературу. Под влиянием кабалистического учения находился ряд христианских писателей-богословов XV века.
[Закрыть]
Вероятно, впервые за все время своего существования достойные авторы этих трудов увидели, как на страницах, освещенных мерцающим пламенем свечей, на страницах, стертые углы которых обветшали под слоем пыли, замелькали порыжевшие знаки, когда-то начертанные ими. Я не мог прийти в себя от изумления, когда, совершив длинное путешествие по лабиринту этой безумной науки, я понял, как много нужно было досуга, терпения, а главное, охоты, чтобы разыскать все эти утерянные языки, не исключая и языка ангелов, самого надежного из всех языков; но когда работа меня забавляет, она мне не страшна. А с этой работой я справился в двадцать минут – время, если им правильно воспользоваться, вполне достаточное, чтобы узнать все, что там есть полезного, – и начал читать вслух рукопись, не сбиваясь и, смею сказать, без ошибок. Когда я кончил чтение, пробило полночь, а дьявол, столь непокорный в своей сущности, дьявол все не приходил. Дьявол приходит очень редко; он уже более не приходит в том обличии, которое вам знакомо; но не следует быть слишком доверчивым, ибо у него достаточно изобретательности, чтобы принять самый соблазнительный вид, когда он уверен, что можно что-то заполучить себе в лапы.
– Признаемся, – произнес я, снова погружаясь в кресло, сплошь заваленное подушками, – что я многим рисковал, предпринимая эти безрассудные опыты. И в сколь затруднительном положении я оказался б, если бы он явился передо мной, вопрошая, согласно обычаю, своим глухим и ужасным голосом, чего мне от него нужно! Ведь его не вызывают безнаказанно; а когда он задает вопросы, ему следует отвечать. Это такой противник, от которого не избавишься, как от незадачливого истца, простым непринятием жалобы. Какую бы милость испросил я у черной силы в обмен за мою несчастную душу, которую я бросил на стол проклятия, как ничего не стоящую ставку? Денег? Но для чего? Всю эту неделю мне так везло в игре, что сейчас у меня в кошельке их в десять раз больше, чем стоит мой конь, даже лишняя золотая монета там теперь не поместилась бы; и пожелай я расплатиться с тремя из моих кредиторов, я легко бы мог это сделать. Знании? По я могу сказать без ложного тщеславия, что для моих собственных нужд я знаю даже больше, чем надо; а те добрые люди, которые настолько любезны, что проявляют некоторый интерес к моим будущим успехам, не стесняются предсказывать, что излишняя ученость придаст моим сочинениям, – если я только когда-нибудь их напишу, – налет педантичности довольно дурного тона. Власти? Да сохранит меня господь, ведь она дается лишь ценой счастья и покоя! Быть может, дара предвидения? Страшное преимущество, за которое приходится расплачиваться всей сладостью, что нам дает надежда, всею прелестью неведения. Разве туманная завеса, окутывающая нашу жизнь, не составляет все ее очарование? Женщин и успеха в любви? Но, право, это значило бы злоупотреблять его любезностью; можно сказать, что до сих пор бедный чертяка только и делал, что усердствовал на этом пути. «И все же, – продолжал я рассуждать, наполовину уснув, – если бы он показал мне въявь юную Маргариту, столь свежую, тоненькую, белокурую, с ее нежным румянцем… Черт возьми! Как говорил господин де Бюффон, это совсем другой разговор!… Если бы Маргарита, взволнованная, трепещущая, со слегка растрепанными волосами, с прядью, ниспадающей на грудь, и с грудью, едва прикрытой небрежно завязанной косынкой… Если бы Маргарита легкими шагами вбежала по моей лестнице и, дойдя до двери, постучала в нее робкой рукой, страшась и в то же время желая быть услышанной, – тук, тук, тук…»
Я уже, как вам известно, наполовину спал, и, засыпая совершенно, я тихо произнес: тук, тук, тук…
– Тук, тук, тук… – И это – о, непостижимое чудо! – происходило уже не в темном царстве моего дремлющего сознания. Но на мгновение мне показалось, будто это именно так, и, чтобы убедиться, что я не сплю, я до крови укусил себе руку.
– Тук, тук, тук…
– Стучат! – воскликнул я, дрожа всем телом. Часы на камине пробили час.
– Тук, тук, тук…
Я встаю, стремительно иду; я призываю на помощь все свое мужество, собираюсь с мыслями.
– Тук, тук, тук…
Я беру одну из свечей, решительно направляюсь к балкону, открываю ставень… О, ужас! Никогда природа не являла ничего более обворожительного глазам влюбленного; мне показалось, что я умру от испуга.








