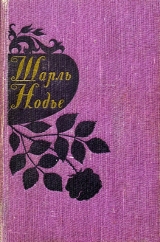
Текст книги "Избранные произведения"
Автор книги: Шарль Нодье
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 40 страниц)
29 апреля
Есть люди, одержимые просто какой-то манией казаться знатными, манией, которая толкает их порой на столь неблаговидные поступки, что трудно было бы даже поверить этому, если бы не приходилось ежедневно быть тому свидетелем. И у меня подобные поступки вызывают такое жестокое возмущение, что я не в силах сдержать его и выхожу из себя, как только замечаю что-либо подобное.
Отец мой особенно гордился одним из своих предков, жившим в конце шестнадцатого века; то был скромный служитель закона, но при этом – писатель, обладавший незаурядной ученостью, который отличился весьма ценными сочинениями о законах и обычаях прошлых времен и с отменной проницательностью истолковал некие, весьма важные, но неясные документы, чего не решались сделать до него самые искусные ученые. Замечу мимоходом, что именно этому достойному человеку обязан наш род своей известностью, что от него мы и ведем свое дворянство, – обстоятельство, отнюдь не свидетельствующее о том, что мы ведем его издалека, но свидетельствующее зато о том, что оно восходит к чистому источнику; не будь это так, я бы чувствовал себя поистине несчастным.
Сегодня я случайно забрел в одну из гостиных замка, стены которой, помню, были когда-то сплошь увешаны фамильными портретами; я вновь увидал здесь всех высокорожденных предков моей матери со всеми их гербами, орденами и подбитыми горностаем мантиями; но тщетно мои глаза искали того, кто больше всех вызывал мой интерес в этой генеалогической галерее, – того достойного ученого мужа, чьи обширные и полезные труды заложили основу моему состоянию и принесли мне в дар еще в колыбели имя, высоко ценимое обществом. Портрет этот был мне тем более памятен, что отец мой, как я уже говорил, относился к нему с особым благоговением и всегда охотно показывал его гостям, впервые посещавшим наш дом. Я мог бы указать пальцем то место, где я его видел прежде. Теперь это место пустовало, и я предоставляю тебе самому догадываться о причинах, по которым портрет был снят. Мне стыдно было бы сообщить их тебе, настолько это, по-моему, смешно и свидетельствует о неблагодарности.
Вернувшись в комнату моей матери, я осведомился о причинах столь странной перемены; увы, она ответила мне именно так, как я того и ожидал; но я со всей почтительностью настоял на своем, и портрет водворен на прежнее место.
2 мая
Сегодня поутру Эдокси приезжала к нам с ответным визитом. Ее сопровождал один местный дворянин по имени Форреоль де Монбрёз. Я еще ничего не сказал тебе об этом человеке, хотя здесь все о нем говорят. От роду ему лет тридцать шесть, не более, однако его спокойная учтивость, невозмутимая серьезность, общепризнанные высокие добродетели и строгие правила могли бы сделать честь человеку и более преклонных лет. Мне в свое время говорили о предстоящем знакомстве с ним как об одном из преимуществ моего пребывания в Турени, а между тем я не слишком искал этого знакомства. Я высоко ценю все совершенное, но в совершенных людях мне недостает того обаяния, которое способно пленить сердце, а его-то и жаждет мое сердце, ибо оно ни к чему не способно привязаться, если не чувствует любви. Ты единственный из моих друзей, обретенных в обществе (природа даровала мне другого), единственный, говорю я, заставивший меня терпеливо переносить и прощать этот прискорбный, этот несносный порок – совершенство; но в твоем совершенстве есть нечто столь естественное, столь непроизвольное и неосознанное самим тобой, оно так неотделимо от тебя, что к нему привыкаешь, сам того не замечая, и начинаешь догадываться о нем, лишь когда уже не волен быть равнодушным или не в силах забыть. Как бы ни обстояло дело с достоинствами г-на де Монбрёза, он, как говорят, имел счастье одно время занимать мысли благородной Эдокси, и эти две высокие души должны были соединиться. Однако этому помешали их расстроенные состояния. До чего прискорбно наблюдать, как семьи, испытавшие одни и те же превратности судьбы, соседи, родственники, друзья, пораженные одними и теми же несчастьями, после революции не следуют примеру мореплавателей, выброшенных бурей на необитаемый остров, и не делают общим все то, чем они владеют. Зачем остался я таким богатым!
Меня так обрадовало известие о том, что госпожа настоятельница чувствует себя уже почти совсем здоровой, что я не в силах был дождаться завтрашнего дня и захотел сразу же выразить ей свою радость. Я проводил мадемуазель Валанси в ее замок с готовностью, которую она, возможно, приписала другим причинам. Тетушка ее сидела в глубоком кресле в той части террасы, которую так приятно прогревают солнечные лучи, пробиваясь сквозь ветви сирени, нежно колеблемые ветерком. Она хотела было встать, увидав меня, но я поспешил подойти к ней, чтобы помешать этому. Мы долго и оживленно беседовали на тысячу различных тем. Она взяла с меня обещание рассказать ей о моих путешествиях, а также о моих друзьях. Я уже назвал твое имя. Она со своей стороны довольно настойчиво советовала мне продолжать знакомство с г-ном де Монбрёз, которого, как она считает, можно упрекнуть лишь в том, что в самоотречении он заходит слишком далеко, принимая во внимание его возраст. Между тем наступил вечер, а мы все еще беседовали; только вечерняя прохлада заставила меня наконец вспомнить, что настоятельнице пора вернуться в комнаты. Одной рукой она оперлась на меня, а другой – на плечо девочки, к которой очень привязана. Она не может нахвалиться ею, называет ее своей подругой, своей маленькой благодетельницей, ангелом-спасителем, в благодарность за заботу, которую та проявила, ухаживая за ней во время ее болезни; да и в самом деле, дитя это – настоящий ангел. Не помню, приходилось ли мне видеть прежде что-либо более ласкающее сердце, чем эти грациозные, нежные черты. Это одно из тех пленительных, исполненных гармонии и спокойствия лиц, на которые приятно смотреть. Видел ли ты что-нибудь подобное? Встречались ли тебе когда-нибудь эти ангельские лица, на которых запечатлено столько безмятежного счастья и чье неземное выражение словно зачаровывает душу? Я дорого дал бы, чтобы ты мог увидеть это личико.
Чудесное совпадение! Взгляд мой случайно встретился с глазами ангела. И если бы ты видел, как опустились эти прекрасные глаза, как осенили их ее длинные ресницы, как вспыхнула она вся живым румянцем! Ангел покраснел и вдруг превратился в простую смертную, причем очаровательную, – чуть было не сказал: очаровавшую меня!.. Ну, что я за безумец!
Вот что о ней рассказывают. Это – бедная сиротка, которую бросили ее родители, никто так и не знает почему. Вот уже лет восемь – десять, как, покинув селение, где они жили трудами своих рук, они ушли неизвестно куда. Кое-кто готов даже допустить, что они довольно дурно кончили, – впрочем, я рассказываю об этом со слов людей, возможно плохо осведомленных. Несомненным в этих рассказах является лишь то, что маленькую Адель приютила у себя настоятельница, – она приходится ей крестной, – и распорядилась дать девочке некоторое образование. Если история моей Адели заинтересует тебя, я расскажу об этом в другой раз поподробнее, хотя, собственно говоря, речь ведь идет только о горничной мадемуазель де Валанси, ибо я забыл прибавить, что Адель живет в замке в качестве горничной.
Так как я приехал в карете мадемуазель де Валанси, то домой я возвращался пешком, через лес, – он великолепен, сейчас в нем все в цвету. Вечер был восхитительно ясен, предзакатное небо прозрачно и светло. Пленительные, чарующие образы проносились в моем мозгу, сменяя друг друга, словно в прекрасном сне, и все мои чувства блуждали во власти какой-то сладостной неопределенности. Я и сам не знаю теперь, отчего чувствовал себя таким счастливым, – ведь ровно ничего не изменилось с тех пор в моей жизни, а между тем… Что за непонятное существо человек!
Это блаженное состояние доказывает, во всяком случае, что я ошибался, когда писал тебе, что мирная жизнь в деревне превосходно соответствует моему теперешнему положению и что все мое счастье отныне заключается только в том, чтобы незаметно прожить здесь остаток моих дней. Ты видишь теперь, что романический склад моего ума и восторженность мыслей происходили от причин, не имеющих ничего общего с безумными страстями юности, – этого все вы никогда не хотели понять. Я хорошо знаю себя и редко ошибаюсь в своих чувствах.
3 мая
Вчера вечером, как раз в то время, как я кончал письмо к тебе, в комнату мою вошел Латур с встревоженным и даже немного растерянным видом. Он уселся поодаль, некоторое время мрачно молчал, после чего начал ворчать что-то сквозь зубы.
«Что случилось, добрый мой Латур? – спросил я его. – Ты, я вижу, чем-то очень встревожен!» – «Пусть никто никогда больше не назовет меня Латуром, по прозванию Королевское Сердце, – отвечал он, – если это не Можи, этот подлый, этот гнусный Можи! Помните ли вы, сударь, того пройдоху, что явился к нашему генералу с фальшивой бумагой; он воспользовался ею, подлец, чтобы выдать врагу большой отряд наших людей, а потом, на нашу беду, успел удрать, ускользнув от заслуженной кары?» – «Да, я слыхал об этом мерзавце, и ты, кажется, прав, Латур, он в самом деле называл себя Можи, быть может для того, чтобы скрыть свое настоящее имя, а может быть, подчиняясь тогдашнему довольно странному обычаю наших офицеров; но какое отношение…» – «Какое отношение? – вскричал он. – Да ведь этот чертов Можи, которого я узнал бы среди тысячи других и мог бы, если бы понадобилось, нарисовать, не кто иной, как ваш благонравный Форреоль де Монбрёз, с которым вы вчера виделись, и я поклялся бы миллионом покойников, что не существует никакого другого Можи. Проклятье! Какой позор, что провидение допускает, чтобы подобные люди дышали воздухом и любовались солнцем!»
Мне с большим трудом удалось успокоить рассерженного Латура и уверить его в полной необоснованности его подозрений. Он ушел, скорее удивленный тем, что я не поверил ему, нежели убежденный моими доводами.
Мне пришлось выдержать сегодня более трудный спор – спор, к которому ты, быть может, окажешься более подготовленным всем тем, что я писал тебе последние дни, чем был я сам. Мать моя призвала меня к себе для серьезной – да и в самом деле, оказывается, весьма серьезной – беседы. Речь шла о том, что мне необходимо упрочить свое имя, придав ему больший блеск посредством брачных уз. Ты понимаешь? Придать больший блеск имени моего отца! Я должен узнать, было мне сказано, что происхождение мое со стороны отца не совсем соответствует тому большому состоянию, которым я ныне располагаю. И если богатство имеет некоторые преимущества, то разве не состоят эти преимущества прежде всего в том, что оно способствует получению почетных должностей, которые возвышают наши дворянские имена и дают возможность передавать их потомкам, еще более знаменитым? Вслед за тем мне пристойнейшим образом было дано понять, что именно таким благоразумным брачным расчетам я обязан тем, что у меня есть мать. А я-то полагал, что обязан этим лишь любви и природе… Что сказать тебе еще? Валанси не так богаты, как мы, Эдокси менее богата, чем я, но она принадлежит к знатному роду, так же как и моя мать, с которой она имеет честь состоять в родстве. Об остальном ты догадываешься.
Все это произвело на меня такое сильное и такое тягостное впечатление, что я долго не в состоянии был собраться с мыслями и еще дольше не мог найти, что сказать в ответ. Единственное, что я довольно смутно припоминаю из тех, как видно, весьма бессвязных слов, которые вырвались у меня в ту минуту смущения и уныния, это то, что я, кажется, просил несколько месяцев на размышление; вероятно, я заявил, что в противном случае от меня ничего не добьются, и к тому же таким тоном, который устранял малейшие сомнения на этот счет, ибо матушка, покидая комнату, взглянула на меня еще более сурово, чем обычно. Однако она, как видно, поняла, что ничего не выиграет, принуждая мое сердце, ибо сразу же снизошла к моей просьбе, хотя я еще не успел собраться с силами, чтобы повторить ее. Впрочем, о моем решении я должен буду уведомить ее через полтора месяца; и вряд ли можно ожидать, что за это время оно изменится…
Другими словами, решение мое уже принято – оно останется таким же неизменным, как те правила, которыми я руководился в жизни до сегодняшнего дня. Нет, я не стану покупать ценой своего счастья, – а я убежден, что Эдокси не сделала бы меня счастливым, – ценой своего покоя, ценой своей свободы, своих – пусть неверных, но сладостных – надежд нелепую честь связать свое имя с именем женщины, которую я никогда не смогу полюбить. Если я придаю какое-то значение своему богатству и положению в обществе, то главным образом потому, что они дают мне независимость и предоставляют полную свободу выбрать ту, которую я захочу; ибо в конце концов… к чему скрывать? Если уж идти на мезальянс, то я сто раз предпочел бы снизойти до кого-то, чем мириться с тем, чтобы кто-то снизошел до меня. Я слишком горд; я никогда не соглашусь стать чьим-то должником ради того, чтобы набить себе цену в обществе, и поставить себя тем самым в зависимость от женского тщеславия. Чем подобное унижение, я согласился бы жениться даже на Адели… Адель!
Право же, это так!
5 мая
Бывают дни – дни слишком быстротечные! – словно приносимые нам в дар провидением, когда нашему сердцу, уставшему от печалей, становится необходимо омыться счастьем, чтобы вовсе не изнемочь.
Один такой день – вознаграждение за целую вечность одиночества и горя. Да, сказал бы я судьбе, пусть повторится он, этот день, пусть наступит он вновь во всем своем очаровании, со всеми его обманчивыми иллюзиями; пусть будет мне дано пережить его снова, до конца насладиться им, вкусить все его радости – и с той же доверчивостью, с тем же самозабвением, что и в первый раз; а там… пусть приходит оно – Небытие!
Неподалеку от замка Валанси, в лесу, я заприметил прелестный тенистый уголок, куда сходятся тропинки, ведущие сюда от обоих селений и тянущиеся дальше, к равнине, где они теряются вдалеке. Здесь, в этой своеобразной зеленой горнице, где потолком служит широкий лиственный свод, а полом – ковер цветущих трав, источающих сладчайший аромат, есть нечто вроде скамеек, созданных самой природой, столь удобных, как если бы они были сделаны руками человека. Совсем близко отсюда виднеется сквозь ветви блестящая гладь пруда с удивительно прозрачной водой, который словно хрустальным поясом обрамляет лес своими заливами, привлекая на свои берега бесчисленные стаи птиц.
Я сидел в этом уголке, добросовестно пересчитывая тычинки на незнакомом мне цветке, когда чьи-то легкие шаги и шелест женского платья отвлекли меня от моих занятий. Это была Адель; и хотя в том, что она оказалась в лесу, не было, собственно, ничего удивительного (я почему-то даже ожидал встретить ее здесь), да и к тому же я видел в ней не больше чем привлекательную, правда, но все же совсем почти незнакомую девушку, – сердце мое бурно заколотилось; я задрожал, какой-то трепет охватил меня, перед глазами заплясали все цвета радуги, непонятная слабость овладела всем моим существом, и я невольно замедлил шаги, ибо незаметно для самого себя я встал и подходил к Адели; не глядя ей в лицо, во всяком случае не различая его черт, я предложил проводить ее, не догадавшись даже осведомиться, куда она идет. Когда пелена, застилавшая мне глаза, немного рассеялась и я смог увидеть лицо Адели, мне стало ясно, что она удивлена моим предложением, – да, по правде сказать, я и сам был немало удивлен им; но все же я повторил его – на этот раз, вероятно, более уверенным тоном. Несколько мгновений Адель колебалась, потом вдруг, словно подчиняясь приказу, а не уступая просьбе, легонько оперлась на мою руку; тогда я решительно удержал эту доверившуюся мне ручку, прижал ее к груди, и мы быстро зашагали в ту сторону, куда она, по-видимому, направлялась.
Когда мое волнение немного улеглось, предоставив некоторую свободу рассудку, я заметил, что и Адель взволнована не менее моего; я понял это не по глазам ее, взгляда которых все еще избегал, а по дрожанию ее пальчиков, – сжав их бессознательным движением, правая моя рука держала их теперь у самого сердца. Ничто не могло лучше вывести нас из состояния смущения, чем безразличный и вполне естественный в подобных обстоятельствах вопрос, который я не подумал задать в первую минуту; к тому же я рассудил, что разговор, который, несомненно, будет менее страстным, менее тревожным, нежели наше молчание, поможет нам окончательно вернуть спокойствие. Поэтому я спросил у Адели, куда она идет; она ответила с лукавой, но бесхитростной улыбкой, что это большой секрет. Таинственность эта не смутила меня. Смысл ее ответа не успел дойти до моего сознания: прежде чем отзвучали ее последние слова, я уже не помнил, что она мне сказала. Я мысленно искал – поверишь ли ты этому? – искал какого-нибудь нового предмета разговора, чтобы как-то скрыть от нее и от самого себя то, что со мной происходит. Мне и хотелось, чтобы она угадала мои чувства, и в то же время я боялся, что она угадает их. Я был так счастлив, что она рядом со мной, и вместе с тем так нетерпеливо ждал минуты, когда останусь один и смогу подумать о всем том, что мне нужно сказать ей. Прошла минута молчания; не найдя лучшей темы, я повторил свой вопрос. На этот раз Адель охотно сообщила мне, что идет в соседнее селение, чтобы отнести одной бедной больной семье то небольшое вспомоществование, которое добрая настоятельница постоянно посылает через нее. Мне следовало бы догадаться об этом, но я был так занят другим!
Не стану описывать тебе во всех подробностях нашу прогулку – пленительный час, которому следовало бы продлиться вечность, тогда как пролетел он словно одна минута. Я опускаю их, эти подробности, потому что, остановившись на них, не сказал бы главного; потому что они утратили бы под моим пером тот пламень, которым горят в моем сердце; потому что есть во всем этом какая-то сладостная нега, которую невозможно передать с помощью несовершенных средств, данных человеку для того, чтобы говорить и понимать; потому что, как мне кажется, счастье мое стало бы менее безграничным, если бы я ограничил словами расплывчатые очертания моих воспоминаний; потому что в таком рассказе, где все должно быть связано с одной только Аделью, могли бы встретиться подробности, не имеющие к ней прямого касательства, которые отвлекли бы меня от мыслей о ней, а между тем – решено: ей, Адели, принадлежат сегодня все мои помыслы, ей будут принадлежать они отныне – и всю мою жизнь!
6 мая
Как бы там ни было, приличие требовало от меня, чтобы я посетил Эдокси. Сердце влекло меня к ее тетушке. Я был у них и видел обеих. Я видел и Адель… Ах, да что я говорю! – увы, я видел одну только Адель…
Да, дорогой Эдуард, было бы излишне, да и недостойно меня, скрывать от тебя далее охватившее меня чувство – чувство, которое переполняет меня всего, которое поглотило всю мою жизнь. О, силы ада и рая! Кто бы мог подумать, что в двадцать восемь лет мое сердце окажется в плену, как в те далекие времена, когда оно было еще слабым и неопытным, при одном только виде этой простенькой, скромной и почти незаметной девушки? Как передать тебе тот исступленный восторг, который охватывает меня всякий раз, как только я вспоминаю ее прелестные черты, как только я слышу ее имя! Но не только восторг… Я парил в небесах такого безоблачного счастья, грудь мою переполняла такая высокая и такая новая для меня радость… Ибо все стало новым для души, возрождающейся из развалин прошлой жизни для любви и страданий…
Страданий… Знаю, сколько позора, сколько горя может принести мне эта любовь. Я не скрываю от себя, я ясно отдаю себе отчет в том, что странным образом даю воображению увлечь меня на ложный путь, что безжалостная судьба упорно толкает меня к тому, чего мне следовало бы бежать, повергает меня в бездну гибельных решений, тем более глубокую, чем более они бесповоротны. Я готов проклинать безумство своих помыслов, безмерную слабость своего рассудка, готового предаться любому обольщению, уступить любой фантазии. Я негодую на самого себя, а между тем отдаюсь во власть увлекающей меня страсти, не пытаясь даже сопротивляться ей. Больше того – если бы мне известна стала сила, способная навсегда избавить меня от нее, вырвать из груди моей самое воспоминание о ней, я не в состоянии был бы воззвать к этой силе. Именно то, что может показаться в моей избраннице низким и достойным презрения, свяжет меня с нею неразрывными узами; и я должен сознаться тебе – чувство это обрело такую власть над моим сердцем, Что все советы и убеждения дружбы лишь удвоили бы его пылкость.
Эдуард, милый Эдуард, ты, в ком небо даровало мне брата, наставника и покровителя средь треволнений нашей юности, ты, бывший долго светочем, ведшим мой разум, и силой, обуздывающей мои страсти, – о, не покидай меня теперь в том состоянии смятения, в котором я нахожусь. То, что я только что сказал, не относится к твоим советам.
О мой друг! К чему приведет это неистовое столкновение противоборствующих мыслей, которые с каждой минутой приносят мне все новые тревоги? Кто поможет мне победить очарование этого образа, что следует за мной повсюду; кто изгонит его из моей памяти, где он властвует безраздельно – и эти полные благородства большие черные, такие трогательные глаза, и эти уста, столь упоительно прекрасные, и это постоянное выражение сердечной доброты, которое словно излучает ее личико, и ее мелодичную, немного протяжную речь, и этот искренний голос, один звук которого так глубоко трогает меня?








