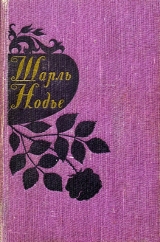
Текст книги "Избранные произведения"
Автор книги: Шарль Нодье
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 40 страниц)
IV
И вот появляются странные, всеми ненавидимые, беснующиеся существа; и невозможно понять, кто это – люди или бесы, и что породило подобное наваждение – бодрствование во сне или сон наяву.
Прогулки в Фарнедо не прекратились; но только теперь г-жа Альберти старалась уходить туда пораньше и возвращаться в Триест еще до заката солнца. Лето было знойное, и тенистая листва дубов едва давала достаточно прохлады, чтобы умерить солнечный жар, когда африканский ветер дул над заливом. Огромные тускло-желтые и все же ослепительные облака громоздятся в какой-нибудь одной стороне неба, катятся и низвергаются, подобно огненным лавинам, с гигантских вершин, стелятся по небу, распластываются и замирают. Глухой гул сопровождает их и стихает, когда они останавливаются. Вся природа цепенеет тогда от страха, подобно животному, которому грозит гибель и которое прикидывается мертвым, чтобы избежать смерти. Ни один лист не дрогнет, ни одно насекомое не прожужжит в неподвижной траве. Если обратить взор туда, где должно быть солнце, то увидишь, как в косом столбе бесчисленных светящихся пылинок пляшут частицы той мельчайшей пыли, которую сирокко принес из пустыни и о происхождении которой можно догадаться по кирпично-красному оттенку. А больше не видно никакого движения – только коршун кружит высоко в небе, издали намечая свою жертву, обессилевшую под тяжестью этой гнетущей атмосферы. Не слышно ни одного голоса – только пронзительный, жалобный рев хищных зверей, которые охвачены свирепым инстинктом и, думая, что настал конец света, требуют останки обреченных им жертв. Сам человек, несмотря на свою нравственную силу, отступает перед этой мощью, с которой никогда не пытался вступить в единоборство. Благородное чело его клонится к земле, ноги слабеют и подкашиваются; утратив мужество и бодрость, он опускается на землю в непреодолимом томлении и ждет, чтобы благотворный воздух вновь вдохнул в него жизнь, вернул мысли ее ясность, крови – жар и принес всей природе обновление.
Г-жа Альберти с Антонией часто отдыхали под сенью деревьев в живописном уголке, откуда видна часть Триеста до самой греческой молельни и где земля покрыта короткой и свежей травой, которая так и манит вкусить отдых. Хрупкий организм Антонии плохо сопротивлялся действию сирокко, и однажды она уснула здесь, в то время как сестра ее собирала цветы неподалеку, плетя для нее венок из мелкой голубой вероники, по примеру истрийских девушек, делающих это весьма искусно. Так как ей недостало цветов, чтобы доплести его, она вышла за ограду; когда же она спохватилась, что отошла слишком далеко от сестры, то уже не могла найти это место, и каждый шаг уводил ее все дальше от него. Сначала эти поиски забавляли г-жу Альберти, и она не видела в них ничего страшного. Затем она стала немного беспокоиться, и тревога, ускоряя ее шаги, лишала их уверенности. Наконец беспокойство это сменилось еще более тягостным чувством, которое отступило, однако, перед доводами рассудка. Самым верным средством найти сестру было громко окликнуть ее; но это потревожило бы ее отдых и могло оказаться опасным для этой нервной, впечатлительной натуры, всегда болезненно воспринимавшей всякую неожиданность. Напротив, куда проще было предположить, что Антония, проснувшись, сама окликнет сестру, еще не успев испугаться ее отсутствия. Успокоенная этой мыслью, г-жа Альберти села и продолжала плести венок.
Меж тем Антония действительно проснулась. Сон ее был внезапно прерван легким шорохом, пронесшимся неподалеку в листве; приоткрыв веки и отведя немного руку, которая защищала ее глаза от света, она сквозь кудри, падавшие ей на лицо, увидела двух мужчин, внимательно глядевших на нее; ее слабому зрению они показались какими-то особенно страшными. Один из них широкий султан, ниспадавший со шляпы, закрывал его лицо – опирался на другого, который сидел подле него на земле, поджав под себя ноги, как сидят обычно отдыхающие рагузцы. Антония, охваченная страхом, вновь закрыла глаза и затаила дыхание, чтобы ее вздымающаяся грудь не выдавала волнения, которое она испытывала.
– Вот она, – сказал один из незнакомцев, – вот девушка из Саsа Монтелеоне, которая решила мою судьбу.
– Хозяин, – отвечал ему второй, – вы то же самое говорили о дочери горского князя, у которого мы перебили стольких людей, и о любимой рабыне того турецкого пса, который заставил нас заплатить за крепость Читима такой дорогой ценой. Клянусь святым Николаем, если бы нам вздумалось столько же сделать ради того, чтобы покорить Валахию, вы бы теперь были господарем и нам не приходилось бы…
– Замолчи, Жижка, – ответил тот, кто заговорил первым. – Твои дурацкие возгласы разбудят ее, и я лишусь счастья созерцать ее – счастья, которым никогда уже, быть может, не смогу более наслаждаться. Остерегайся же потревожить даже воздух, окружающий ее, не то я покараю не только тебя, но и твоего старика-отца, который горько раскается, что зачал тебя. Смеешься, Жижка… Согласись, однако, что моя Антония прекрасна…
– Недурна, – сказал Жижка, – но все же не настолько, чтобы так расслабить мужское сердце и задерживать целый отряд храбрецов в рощице для гулянья, где ничем не разживешься. Хозяин, – продолжал он, поднимаясь, – куда прикажете отнести эту девчонку?
Антония вздрогнула, и рука ее невольно опустилась на грудь.
– Несчастный! – приглушенным шепотом воскликнул хозяин Жижки. – Кто просит тебя о твоих гнусных услугах? Знай, что девушка эта – супруга моя перед богом, и я поклялся, что никогда рука смертного, даже моя собственная рука, Жижка, не сорвет ни единого цветка с ее венца девственницы! Нет, никогда не будет у меня с ней общего ложа в этом мире… Что я говорю? Ах! Если бы я узнал, что наступит день, когда губы мои осквернят эти невинные уста, приоткрывавшиеся только в ответ на чистый отцовский поцелуй, я бы выжег их каленым железом. Наша юность была взлелеяна на буйных и неистовых помыслах; но эта девушка священна для моей любви, и ни один волос не упадет с головы ее. Пойми, моя душа устремлена к ней, парит над нею, следует за ней по краткой этой жизни сквозь все козни людей и судьбы, – и в то же время она не замечает меня. Это моя победа над вечностью; и раз моя жизнь загублена, раз я лишен права разделить ее с таким благородным и нежным созданием, как она, я завладею ею навечно. Клянусь тем сном, который она сейчас вкушает, – последний сон ее соединит нас, и она будет спать подле меня до самого обновления мира.
Волнение Антонии все возрастало, однако постепенно к нему стало примешиваться и любопытство. Ей захотелось взглянуть на говорящих, но слабые глаза плохо служили ей; она слегка приподняла голову – незнакомцы уже удалялись. Она встала и устремила глаза на то место, где только что звучали их голоса; она увидела одного из них; согнувшись, он пробирался сквозь кусты. Он показался ей отвратительным.
Едва неизвестные скрылись, как г-жа Альберти, привлеченная шумом, вышла к дубу, под которым уснула Антония. Она выслушала рассказ сестры, но не поверила ему, приняв его за видение или сонную грезу, ибо слишком часто уже убеждалась в слабости рассудка Антонин. Однако сама эта мысль ее чрезвычайно расстроила. Антония между тем превратно поняла причину ее волнения. Жалость, которую обычно внушает помутившийся разум, она сочла за сочувствие, вызванное грозящей опасностью. Она была вся во власти охвативших ее представлении, и ее обычное беспокойство превратилось теперь как бы в навязчивую идею.
– Так что ж, несчастная! – воскликнула наконец г-жа Альберти. – Кем же, по-твоему, ты любима? Уж не приспешником ли каким-нибудь Жана Сбогара? Прости меня, господи!
– Жана Сбогара, – повторила Антония, отпрянув, словно она наступила на ядовитую змею. – Может быть.
После этого прогулки в Фарнедо стали уже невозможны. Антония почти перестала выходить из дому. Только иногда, когда ее душевный покой не был нарушаем страхом, предмет которого сестра ее считала игрой воображения, она отправлялась одна в порт подышать свежим вечерним ветерком. Иногда, остановившись под стенами дворца св. Павла, она старалась разглядеть оттуда тот самый замок Дуино, о котором так часто говорили ей отец и сестра. Вступив на мол, откуда он был виден лучше всего, Антония как-то бессознательно доходила до того места, где дорога заканчивалась небольшой насыпью; здесь стояла узенькая скамейка, обращенная к морю, на которой мог поместиться только один человек. Ей нравилось это безлюдное место между населенным городом и пустынным морем. Здесь ей не было страшно. Она любила смотреть, как после туманного дня вода в заливе начинает заметно прибывать, как внезапно разрывается то здесь, то там ее иссиня-серая поверхность и пенистые валы, громоздясь друг на друга, устремляются к берегу, как волна вздымается, вскипает и рушится под другой, набегающей вслед за ней, и, поглощая ее, уносит к еще более далеким волнам; как морские чайки то взмывают вверх, исчезая из глаз, то падают, вращаясь подобно веретену, выскользнувшему из рук пастушки, и носятся над самой водой, касаясь ее крылами, или словно бегут по ее поверхности.
Однажды, задержавшись дольше обычного, Антония, зачарованная лунной ночью, которая никогда еще, казалось, не была столь безмятежно ясной, любовалась сиянием мирного светила, струившимся с горных вершин серебристой пеленой, едва тронутой голубоватым отливом. Этот неподвижный свет луны словно сочетал воедино и землю, и море, и небо. Среди безмолвия побережья, нарушаемого лишь каждый час сигналами береговой стражи, слышалось только шуршание волн, тихо плескавшихся у ног Антонии, да постукивала привязанная к краю мола шлюпка, которую море равномерно ударяло о берег. Мысли Антонии, растворившись в туманной беспредельности, подобные стихии, раскинувшейся перед ее глазами, увели ее далеко от окружающего мира, когда внезапное ощущение испуга вновь повергло ее в прежнее состояние тревоги. Это ощущение было вызвано воспоминанием, возникшим стремительно, как молния, по какой-то необъяснимой связи мыслей с воспоминанием о том, что случилось с ней во время последней прогулки в Фарнедо, о загадочном появлении человека, присвоившего себе право на ее жизнь. И такова сила воображения, что Антония тотчас же ясно представила себе эту сцену, и через мгновение все чувства ее, введенные в заблуждение, находились уже во власти иллюзии. Ей казалось, что она вновь все это видит и слышит. Яркий свет, внезапно блеснувший со стороны Дуино и сопровождавшийся глухим взрывом, нарушил это наваждение, но полностью иллюзия не рассеялась. Сердце Антонин сильно билось. Холодный пот струился с ее лба, беспокойный взгляд искал по сторонам кого-то, кого она страшилась увидеть; слух ее внимал безмолвию, которое раздражало своей беспредельностью. Ей хотелось, чтобы какой-нибудь реальный повод для боязни рассеял этот беспричинный страх. Она напрягла все свое внимание, и ей показалось, что рядом с ней кто-то вполголоса разговаривает. Она поднялась и снова села; колени ее дрожали. Голоса зазвучали несколько громче и в то же время приблизились. Антонии показалось, что она узнает голос рагузца, который спрашивал тогда в лесу: «Куда прикажете отнести эту девчонку?» И в то же мгновение ей почудилось, что он опять произнес те же слова. Антония с трудом убедила себя, что все это не сон; она наклонилась, чтобы лучше слышать. Но, как видно, эти слова не были произнесены до конца или же их повторили вновь. Только теперь она отчетливо услышала их.
– Лучше смерть! – ответил другой голос, более громкий и прозвучавший еще ближе к ней. Она заключила из этого, что от говорящего ее отделяет лишь узкий выступ стены, стоявшей под углом к молу; еще немного, и она могла бы почувствовать его дыхание. Она поспешно отпрянула на другой конец скамейки и в это время увидела двух мужчин – они прыгнули в маленькую шлюпку и отплыли, сильно налегая на весла. Луна скрылась за жемчужно-серыми облаками, постепенно разлетавшимися на густые хлопья. Луч ее упал на челн и осветил белый султан, свешивавшийся со шляпы одного из путников и развевавшийся по ветру. Больше Антония не разглядела почти ничего. Торопясь вернуться в город, она в две-три минуты пробежала мол и как тень проскользнула мимо часового, стоявшего опершись на ружье.
– Храни вас господь, синьора, – сказал он ей. – Поздний час для девушки.
– Я думала, что на молу, кроме меня, никого нет, – ответила она.
– Конечно, никого, – сказал солдат. – Вот уже целый час, как сюда не подходила ни одна живая душа, разве уж только сам дьявол или Жан Сбогар.
– Сохрани нас небо от Жана Сбогара! – воскликнула Антония.
– Да услышит вас господь, – ответил солдат, перекрестившись.
В то же мгновение пушка вторично ударила со стороны Дуино.
Рассказ Антонии был встречен столь же недоверчиво, как и в первый раз. Было слишком очевидно, что сострадательное и скорбное внимание, с которым его выслушала сестра, не имело ничего общего с сочувствием, которое проявляют, когда верят. Пораженная этим, Антония стала настаивать на своем с благородным спокойствием, которое удивило, но тем не менее не убедило г-жу Альберти. Оставшись одна, Антония закрыла глаза руками и с глубокой горечью стала размышлять о своем положении.
Еще в детстве сложилось у нее мнение о том, что она не такая, как все, что она обездолена природой, – теперь оно подтверждалось отношением к ней близких и окончательно укрепилось, доведя до крайности недоверчивость и пугливость, составлявшие сущность ее характера. Ее слабость была своего рода нравственной болезнью, которую нетрудно излечить уходом и чуткостью, на что г-жа Альберти вполне была способна; однако она видела в недуге сестры нечто иное, и ее недоверие, как она ни боролась с ним, только возрастало от ее усилий. Антония была единственной ее мыслью, надеждой, любовью и целью ее жизни. Видеть, как все взлелеянные надежды рушатся из-за неизлечимого помрачения ее рассудка, значило для г-жи Альберти почти то же, что потерять эту любимую дочь. И как только появлялось основание опасаться последнего несчастья, она делала все, чтобы убедить себя, что оно невозможно. В роковом заблуждении, подсказываемом ей любовью, она отгоняла прочь преследовавшие ее мысли, потому что они убили бы ее; столкнуться с ними лицом к лицу, холодно обдумать их, отдать себе в них полный отчет было слишком опасно, – и она не смела на это решиться. Ей удалось отвлечься от этих подозрений, но не избавиться от них. Впрочем, воображение ее, живое и упорное во всех своих представлениях, сохранявшее по какому-то бессознательному и непреодолимому выбору именно те, верить которым было особенно тягостно, почти никогда не изменяло своим первым впечатлениям. Итак, сестры смотрели друг на друга с умилением, которое проистекало у одной от избытка робости, у другой – от избытка заботливости и делало их обеих одинаково несчастными.
V
О боже правый! Верша суровое свое правосудие, не смешивай виновного с невинным. Порази, порази эту давно уже осужденную голову: она отдается на суд твой; но пощади эту женщину и это дитя, оставшихся одинокими на трудных и опасных путях земных! Ужели не найдется среди светлых духов, первых творений рук твоих, милосердного ангела, благосклонного к невинным и слабым, который захотел бы неотступно следовать за ними в облике пилигрима, дабы защитить их от бурь мирских и отвести от сердец их острый кинжал разбойников?
Молитва путника.
В это время весьма важные дела, оставшиеся после смерти отца ее неразрешенными, потребовали присутствия г-жи Альберти в Венеции. Она сочла это обстоятельство как нельзя более удачным для Антонии, вновь убедив себя, что при том состоянии, в котором находится сестра, полная перемена обстановки и образа жизни поможет ей избавиться наконец от тех пагубных впечатлений, которые помутили ее рассудок и, казалось, были внушены ей местностью и воспоминаниями. Большое состояние, которым они располагали, открывало им возможность испытать в этом богатом и великолепном городе все удовольствия, доставляемые роскошью и искусствами, собранными здесь со всех концов света, а этот новый вид впечатлений, питаемых скорее воображением, нежели чувствительностью, представлял для легко возбудимой души несравненно меньшую опасность, нежели волнения, порожденные созерцанием естественных красот вселенной, внушительная величавость которых подавляет мысль. Итак, поездка в Венецию была решена; никакая другая новость не доставила бы Антонии большей радости. Триест казался ей теперь чем-то вроде волшебного дворца, где, живя под непрестанным наблюдением невидимых соглядатаев, она всецело зависит от милости некоего неведомого тирана, полновластного господина ее свободы и жизни, и где он уж несколько раз был готов оторвать ее от близких, чтобы перенести в какой-то новый мир, о котором она не могла подумать без содрогания, и завтра, быть может, осуществит свое роковое намерение, если только провидение не скроет ее от его глаз. Надежда избавиться от этого постоянно преследующего ее страха быстро оказала свое действие и в несколько дней вернула Антонии всю свежесть и грацию юности, поблекшие от непрестанной тревоги. На устах ее вновь заиграла улыбка, чело стало спокойнее; больше пылкой откровенности и ласковой непринужденности появилось в ее беседах с сестрой; г-жа Альберти, обрадованная тем, что уже одно ожидание отъезда дает результаты, явно подтверждающие ее предположения, делала все возможное, чтобы ускорить его. Однако отъезд пришлось отложить до того дня, когда собрались все путешественники, следовавшие в этом направлении, с тем чтобы служить друг другу конвоем, ибо проезжие дороги не были достаточно безопасны. Карета г-жи Альберти оказалась девятой на месте сбора – на песчаном плоскогорье Опскина, откуда взору открываются залив и неровные очертания окаймляющих его дюн. Антонию и ее сестру сопровождали священник, приказчик, старый доверенный слуга и две горничные. Внутри кареты оставалось еще одно свободное место. Тронулись в путь уже на исходе дня, ибо все утро дул бора, заставляя опасаться одного из тех ураганов, с которыми нельзя безнаказанно шутить в высоких горах Истрии, откуда они сметают увесистые глыбы, сбрасывая их на дно пропастей. Караван был, впрочем, достаточно многолюдным, чтобы не бояться разбойников, даже если в дороге его застигнет полнейшая темнота; заночевать рассчитывали только в Монтефальконе, расположенном в нескольких лье от Триеста, на поэтичных берегах Тимава. Погода к вечеру вдруг разгулялась, воздух стал свежим и чистым, небо безоблачным. Экипажи медленно двигались друг за другом по крутым и неровным склонам Триестских гор, сквозь обширные чащи, усеянные скалами, высокие и острые гребни которых поднимаются то здесь, то там из низкорослых сухих мхов. Единственная зелень, которую можно там заметить, – это глянцевитые листья падуба да кое-где кусты терновника, раскинувшие по песку свои покрытые шипами стебли. У подножия горной цепи виднеется несколько домиков самого жалкого вида, крыши которых с нагроможденными на них камнями свидетельствуют о разрушениях, причиняемых здесь ветром, несмотря на множество часто бесполезных препятствий, поставленных повсюду, где он обычно свирепствует.
Это была деревушка Сестиана, населенная лодочниками и рыбаками.
Пока отдыхали лошади, которым пришлось долго спускаться по крутой и скользкой дороге, то и дело сдерживая экипажи, наезжавшие на них всей своей тяжестью, к карете г-жи Альберти подошел старик, хозяин постоялого двора Сестианы, и попросил ее, христианского милосердия ради, подвезти до Монтефальконе изнемогавшего от усталости бедного путника, который уже не в состоянии продолжать свой путь пешком. Это, сказал он, молодой монах из армянского монастыря, что расположен на венецианских лагунах; он возвращается из миссии; его открытое и приветливое лицо невольно вызывает симпатию. Г-жа Альберти и ее сестра никогда не могли бы отказать в подобной просьбе, даже если бы у них было на то основание. Дверца открылась, и армянин, поддерживаемый добрым стариком, просившим за него, поставил ногу на ступеньку кареты и, пробормотав несколько слов благодарности, с трудом добрался до предназначенного ему места. Его рука, белая и нежная, словно у девушки, невзначай оперлась о руку г-жи Альберти, но он тут же поспешно отдернул ее; и, увидев, что карета почти полностью занята женщинами, он опустил на лицо громадные поля своей круглой войлочной шляпы, раньше чем кто-либо успел Разглядеть его. Вскоре после этого караван вновь пустился в путь. К этому времени уже совсем стемнело.
Путь между Сестианой и Дуино весь покрыт легким песком, мелким и сыпучим, разлетающимся из-под колес, в котором карета, то вздымаясь вверх, то вновь в него погружаясь, качается, словно на волнах. В неверном и обманчивом сиянии вечерних светил яркий блеск серебристого песка и туманная ширь горизонта, очерченного не столь четко, как днем, и расплывающегося во всей неопределенности этого сумрака, подобно безграничному морю, еще усиливает эту иллюзию. Кажется, будто лошади идут вброд по пространству, затопленному горными потоками. Антония, сидевшая в углу кареты, подняла стекло со своей стороны и вдыхала холодный, но бодрящий ночной воздух, наслаждаясь этим своеобразным обманом чувств. Лошади, с трудом продвигаясь по ускользавшему из-под их копыт глубокому песку, шли чрезвычайно медленно, и она ясно видела все, что происходило снаружи. Несколько раз Антонии, которой достаточно было малейшего повода для беспокойства, мерещилось, будто какие-то странного вида тени мелькают в неясной дали, простирающейся перед ней; испуганная, она всякий раз, затаив дыхание, прислушивалась – не сопровождается ли это движение шумом, как должно было быть, если только это не было обманом зрения. Вдруг кучер, который, возможно, испытывал подобное же чувство или боялся поддаться дремоте, затянул далматскую песню – своеобразный романс, не лишенный очарования для привычного слуха, но поражающий своим необычным и диким характером того, кто слышит его впервые; модуляции его столь причудливы, что одни лишь местные жители владеют их секретом, однако напев чрезвычайно прост, ибо состоит из одного лишь мотива, повторяющегося до бесконечности, по обычаю первобытных народов, да из двух-трех звуков, чередующихся все время в том же порядке; однако сама природа этих звуков, издаваемых словно не человеческим голосом, кажется непостижимой: с помощью приема, сходного с тем, которым пользуются французские жонглеры, называемые чревовещателями, но совершенно естественного для иллирийского певца, эти звуки поминутно меняют тембр, силу и источник. Это последовательное и стремительное подражание то самому глухому шуму, то самому пронзительному крику, в особенности же всем тем звукам, которые слышатся по ночам жителю пустынной местности в вое ветра, в свисте бури, в реве охваченных ужасом животных, в этом созвучии жалобных воплей, несущихся из безлюдных лесов перед ураганом, когда все в природе обретает голос и стоном стонет даже ветка, надломленная ветром, но не оторванная еще от родимого дерева, которая со скрипом раскачивается, повиснув на обрывке коры. Порою громкий, полнозвучный голос раздается совсем рядом; порою кажется, будто он гремит где-то под сводами, а иногда – будто воздух вознес его за облака и развеял в небесах, где он звучит столь чарующе, что ни одна мелодия, созданная человеком, не сравнится с этими звуками. Однако эта небесная музыка не обладает той безмятежностью, той умиротворяющей непорочностью, которую мы приписываем музыке ангелов, даже тогда, когда она больше всего приближается к ней: напротив, она сурова для человеческого сердца, ибо размышления, пробужденные ею, полны бурных воспоминаний, страстных чувств, тревог и сожалений; но она притягивает, увлекает, покоряет внимание, удерживая его в своей власти. Она напоминает то страшное и сладостное пение морских волшебниц, при звуках которого путешественников охватывало оцепенение, которое увлекало корабль на подводные камни, к неминуемой гибели. И чужестранец, наделенный пылким воображением, которому хоть раз довелось услышать где-нибудь на берегах Далматии вечернюю песню морлацкой девушки, дарящей ветру звуки, которым не способно обучить никакое искусство, не сумеет подражать никакой инструмент и не в силах передать никакие слова, поймет чудо с сиренами в «Одиссее» и, улыбнувшись, простит Улиссу его заблуждение.
Антония, которая, как это обычно свойственно всем слабым душам, испытывающим потребность в покровительстве, а главное, в любви (что, возможно, для них одно и то же), а потому охотно устремляющимся за пределы, поставленные природой, больше чем кто-либо способна была наслаждаться теми таинственными явлениями, что придают жизни двойственный характер и открывают уму некий новый мир. Она не верила в существование сказочных существ, занимающих такое значительное место в суевериях ее отчизны и удочерившей ее страны – ни в угрюмых великанов, царствующих на вершинах гор, где порой их можно увидеть восседающими среди туч с огромной сосной в руках, ни в сильфов, еще более воздушных, чем воздух, живущих в чашечках цветка и которых зефир, пролетая, уносит с собой; ни в ночных духов, что охраняют клады, спрятанные под скалой, перевернутой верхушкой вниз, или бродят вокруг, чтобы отвести воров, зажигая на пути их неверный огонек, который взвивается, падает, гаснет, чтобы снова разгореться, исчезает и вспыхивает вновь; но она любила эти сказки, и морлацкое пение, которому она не раз с удовольствием внимала, всегда воскрешало их в ее памяти. Она с живым, неотступным интересом прислушивалась к песне, как вдруг внимание ее было отвлечено необычным движением кареты, которая, покачнувшись, внезапно остановилась. Лошади попятились, и морлацкая песня замерла на устах кучера.
– Пока монах садился в нашу карету, передние экипажи ушли далеко вперед, – сказал он, – а дорога, если я не ошибаюсь, перерезана разбойниками.
– Что он говорит? – вскричала г-жа Альберти, бросаясь к дверце кареты.
– Что мы в руках разбойников, – ответила Антония, вновь откинувшись в угол и дрожа от страха.
– Разбойников! – с ужасом повторили г-жа Альберти и все те, кто был в карете.
– Да, разбойников! Мы погибли! Пропали! – продолжал кучер. – Это они, это шайка Жана Сбогара, а вон и этот проклятый замок Дуино, которому суждено стать нашей общей могилой.
– Клянусь святым Николаем Рагузским, – неожиданно произнес армянский монах проникновенным и страшным голосом, – не раньше, чем земля разверзнется под нашими ногами!
С этими словами он бросился в толпу разбойников. И в тот же миг раздался тот самый дикий вопль, что так напугал Антонию в Фарнедо. В ответ ему послышались тысячи ужасных голосов, повторяющих этот крик. Дверца захлопнулась за монахом; стекла были спущены, лошади стояли неподвижно, в карете царила мертвая тишина; лишь глухой шум доносился теперь снаружи. Шум этот все больше отдалялся, и вдруг послышался свист бича, лошади тронулись и помчались вскачь с такой резвостью, словно это предупреждение подействовало на них как заклинание. Они остановились только тогда, когда догнали остальных путешественников.
– А как же армянин! – восклицала Антония, наполовину высунувшись из окошка. – Ведь этот благородный, храбрый юноша пожертвовал собой ради нас… Боже мой! Боже мой! Неужели мы бросили его убийцам! Это было бы страшным делом!
– Страшным! – горячо повторила г-жа Альберти.
– Успокойтесь, сударыни, – ответил кучер, который слез теперь с козел и обрел прежнее спокойствие. – Этому монаху нечего бояться убийц, они не имеют над ним власти; и, да будет вам известно, это он велел мне погнать лошадей и вернул мне для этого силы и голос: недаром они так помчались, вы заметили? А что до него, то я разглядел его совсем близко, клянусь вам: ведь разбойники стояли вплотную вокруг меня, а он бросился между ними и мною и был так грозен, что некоторые из них попадали со страха, а остальные пустились наутек, даже не оглянувшись. Не прошло и минуты, как он остался один и стоял подле меня, подняв руку, словно повелевая. «Пошел!» – крикнул он мне таким властным голосом, что кровь застыла бы у меня в жилах, если бы он был в гневе; но это был голос заступника, тот голос, которым он всегда говорит с моряками…
– С моряками? – повторила г-жа Альберти. – Так ты, стало быть, знаешь этого армянина?
– Знаю ли я его? – ответил кучер. – Да разве он сам не назвал себя, когда крикнул: «Клянусь святым Николаем Рагузским!» Какой же другой святой испытывает путников и вознаграждает их? И какой другой святой мог бы одним словом, жестом, взглядом разогнать целую шайку разбойников, у которых в руках меч, а в сердце ярость и которые только и жаждут опасности, золота и крови? Скажите на милость!
Кучер умолк, глядя на небо, которое словно прорезала внезапная вспышка. Пушка грохотала в Дуино.








