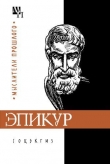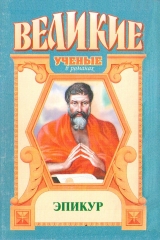
Текст книги "Эпикур"
Автор книги: Сергей Житомирский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
– Зачем ты так! – взмолился Эпикур. – У меня есть четыре мины, если жить экономно, этого хватит надолго.
– Четыре мины! – нехорошо засмеялась Филоктимона. – Что такое четыре мины! Успокойся, на тебя страшно смотреть. Мы расстанемся, но не сейчас. Если бы ты знал, как я люблю тебя! – И она с плачем прижалась к нему.
Прошло ещё немного времени, и утром, провожая Эпикура на службу, Филоктимона вручила ему холщовую дорожную сумку, на которой была вышита сходящая в аид Алкеста. В сумке лежали его книги и записки.
– Давай обнимемся на прощанье, – со вздохом проговорила она, – и очень тебя прошу, не возвращайся.
Эпикур пытался возражать, но Филоктимона остановила его жёстким холодным взглядом. Ему с трудом удалось уговорить её оставить на память «Пир» Платона.
– Смотри на это просто, – сказала она, прощаясь. – Ничего страшного ведь не случилось. Судьба подарила нам месяц блаженной жизни, только и всего!
Невольно или намеренно она повторила слова Стратокла.
Разбитый горем, Эпикур всё же нарушил запрет и, злясь на себя, вечером притащился к её дверям. Ему открыла незнакомая девушка. Он задал вопрос и услышал:
– Филоктимоны нет. Она переехала в Пирей к Агафону. Но если я тебе подхожу, выкладывай восемь драхм, и мы отлично проведём вечер.
Крушение
Эпикур сидел у рабочего столика с чернильницей и кипой несклеенных листов и, положив на колено свиток, начисто переписывал готовый кусок текста. Он заставил себя не думать о Филоктимоне, хотя чувствовал, что будет любить её всю жизнь, что это милое легкомысленное существо замкнуло его сердце и вряд ли кто-нибудь сможет изготовить к нему ключ. Он не знал, кто такой Агафон, и не стал узнавать. В конце концов она сама сделала выбор и, наверно, взвесила свои «приобретения и потери». Но при этом она не подумала об одной малости, об Эпикуре. Горе не сломило его, он остался таким, каким был прежде, только та, открывшаяся в его душе невидимая страна из приюта счастья превратилась в чёрную пустыню. Там поселились неугомонные демоны, которые постоянно искали повода, чтобы впиться зубами в его сердце.
Эпикур отгонял их, углубляясь в свои писания. С каким-то остервенением он трудился над книгой, словно хотел наказать себя, хотя и не очень понимал за что.
Дверь с шумом распахнулась. Эпикур обернулся и увидел Тимократа, возмужавшего, с отвердевшим лицом, в небрежно надетой выгоревшей накидке. Калам выпал из рук Эпикура; уронив на пол свиток, он бросился к другу и крепко обнял.
– Вернулся! А Менандр?
– Менандр дома. Я зашёл за тобой, отвести к нему. Мы только приехали.
– Отпущены?
– Да. Вместе со всеми, но поспели раньше. Вы готовы, Эпикур, Антипатру осталось только посыпать вас луком.
– Почему ты говоришь «вы»?
– Да потому, что мой Лампсак давно съеден, не знаю только кем. Сперва он вместе с Фригией был в желудке Леонанта, а когда того убили, всё это переехало в брюхо Антигону. Но сейчас Пердикка подарил Фригию Эвмену, а Антигон не отдаёт. Впрочем, Лампсак считается свободным. Ладно, набрасывай гиматий – и пошли.
По дороге Тимократ рассказывал Эпикуру о последних событиях, которые ещё не были известны в Афинах. К Антипатру присоединился Кратер, и наместник выступил против союзников. Кратер привёл к нему из Азии десять тысяч ветеранов, из них полторы тысячи конников и тысячу персидских лучников, теперь македоняне имели решающий перевес. Антифил отошёл и занял укреплённую позицию на южном берегу Пенея у селения Кронион выше Лариссы. Седьмого метагитиона, через шестнадцать лет после битвы при Херонее, день в день, произошло сражение. Конница снова одолела македонян, но пехота отступила в горы. Погибло пятьсот человек, из них двести афинян. Тимократ назвал имена двенадцати погибших эфебов, которых знал Эпикур, Каллий тоже был убит.
– Тут все заговорили о мире, – продолжал Тимократ. – К Антипатру послали парламентёров, но он ответил, что союза не признает, но согласен разговаривать с каждым государством в отдельности. И тогда союз распался. Все бросились заключать перемирия и расходиться по домам. У Антифила Антипатр потребовал выдачи Демосфена, Гипперида, Гимерия и других ораторов антимакедонской партии. Антифил велел войску идти домой и поскакал в Афины, а мы с Менандром втёрлись в его свиту.
Эпикур только качал головой.
Менандр ждал друзей в своей комнате, украшенной бюстами драматургов.
– Эх, и пообедаем мы сейчас! – воскликнул он. – Какое это счастье разлечься на своём ложе у своего стола, подсунуть под локоть подушку с вышивкой, знакомой с детства! Нет, милые мои, я навоевался досыта, от всей души надеюсь, что для меня эта война – последняя. Пусть воюют, кому нравится. Располагайтесь, друзья, будем есть и веселиться, вспомним доброе и забудем дурное...
– Я думаю, Леосфен не проиграл бы войны, – сказал Эпикур.
– Кто это знает? – отмахнулся Менандр. – Не хочу я даже думать о военных делах.
– Но что же теперь будет с Афинами?
– Что бывает с побеждёнными. Посадят кого-нибудь на шею и обложат данью. А не всё ли равно, Эпикур, кто правит городом – толпа, готовая ради подачек идти хоть за Стратоклом, или сам Стратокл в ранге наместника? Вон азиатские города давно так живут, и ничего. Правильно я говорю, Тимократ?
– А Демосфену снова придётся бежать, – сказал Тимократ. – Только подальше, у Антипатра руки длиннее, чем у Демада.
– Хватит, друзья, об этом. – Менандр подал Гилиппу знак наполнить килики вином. – Давайте отдохнём и попросим богов, чтобы они обошлись с нами милостиво.
Эллинскую войну стали называть Ламийской. Греческой армии больше не существовало, наёмники перешли на службу к Антипатру, ополченцы разошлись по домам. Македоняне заняли Фессалию, прошли Фермопилы и стали лагерем у Кадмеи. В Афинах состоялось шумное Народное собрание, настроенное на заключение мира. Кто-то предложил отправить к Антипатру его друга Демада. Послали за Демадом, но он напомнил, что лишён права выступать. Атимия была немедленно снята, тогда он пришёл в театр и предложил, чтобы его и Фокиона назначили послами с неограниченными полномочиями. Предложение было принято. Менандр не был на Собрании, сказав, что в зрелищах такого рода больше не нуждается. Эпикур пришёл, попался на глаза Фокиону и был включён в состав посольства в качестве писаря.
Они выехали на следующее утро. Кроме Фокиона и Демада на переговоры пригласили Ксенократа, который, как считалось, имел влияние на Антипатра и Деметрия Фалерского. Фокион и Деметрий ехали верхом, Демад и Ксенократ – в повозке. Эпикур ехал в другой повозке, нагруженной подарками. Посольство сопровождали слуги и небольшой конный отряд. Они проехали через Ахарны и Филу и заночевали в Панакте, горной крепости на границе Беотии. В начале следующего дня они пересекли плоскую влажную долину Асопа и достигли македонского лагеря. Эпикур с тяжёлым чувством глядел на развалины Фив. Среди бугристого пустыря, заросшего травой и кустами, здесь и там возвышались храмы, которые пощадили враги, но не время. Кое-где провалились крыши, обрушились углы. Купы деревьев отмечали брошенные сады, что-то вроде канав – бывшие улицы.
Среди всеобщего разорения на высоком холме высился фиванский акрополь – Кадмея.
Послов попросили подождать, полководцы приняли их только после дневного отдыха. В роскошном зале древнего дворца в драгоценных креслах восседали высохший желчный Антипатр и крупный здоровяк Кратер. Других кресел в зале не было, афинскому посольству пришлось стоять.
После обмена приветствиями Фокион предложил, чтобы переговоры были проведены здесь.
– Я думаю, не стоит соглашаться, – ответил Кратер. – Зачем обременять присутствием войска союзников, если можно – побеждённых?
– Сделаем эту уступку Фокиону, – улыбнулся Антипатр, – хотя бы из уважения к тому, как он разделал твоего Клита.
– Да, опоздай он хоть на день, мы бы закрепились, – сказал Кратер. – Я согласен. Поговорим здесь, тем более разговор будет недолгий.
– На каких же условиях может быть заключён мир? – спросил Демад.
– Мир заключён не будет, – продолжая улыбаться, ответил Антипатр. – Когда я предложил мир Леосфену, он потребовал от меня капитуляции, так вот того же я теперь требую от вас.
Афиняне молчали, Фокион тяжело вздохнул. Антипатр поднялся и принялся расхаживать по залу. Его лицо стало жестоким.
– Наши требования. – Наместник стукнул кулаком по раскрытой ладони. – Первое, в Мунихии размещается македонский гарнизон; второе, законы Афин меняются с современных на солоновские; третье, нам должны быть выданы враги Македонии – Демосфен, Гипперид, Аристоник, Гимерий и другие, кого мы укажем. Всё, – закончил Антипатр и улыбнулся.
Когда Антипатр произнёс имя Гимерия, Эпикур повернулся к Деметрию, но лицо философа осталось неподвижным, словно он не слышал имени брата.
Ксенократ запустил пальцы в седую бороду и, наклонив голову, проговорил:
– Такой мир для рабов слишком лёгок, а для свободных излишне суров.
– Тем не менее другого вы не получите, – ответил Антипатр.
Наступило молчание, потом Демад задал наместнику вопрос, что он подразумевает под изменением законов.
– Какое имущество обязывает у вас граждан нести бремя государственных расходов? – спросил тот.
– Две с половиной тысячи драхм.
– Хорошо. Пусть те, у кого имущества больше, чем на две тысячи, останутся гражданами. Остальные – нет!
– Но таких у нас больше половины!
– Демад, мне нужен город с устойчивой властью. С состоятельными я договорюсь, а нищие всегда готовы к переворотам.
– Но эти граждане, – вступился Фокион, – живут за счёт государства, и лишить их прав – значит уморить голодом.
– Можно переселить их во Фракию, – небрежно предложил Кратер, – там после войн Филиппа осталось много пустующих земель.
– Что это за общество, в котором платят за участие в судах и собраниях? – сказал Антипатр. – Гелиэя ваша упраздняется. Судить будет Ареопаг, важные дела – Собрание. Совет пятисот можете оставить или нет, как захотите.
– Есть ещё один вопрос, – напомнил Фокион, – Самос.
– Самос не в моей компетенции. Судьбу острова будет решать регент.
Они заговорили о подробностях, в конце концов афиняне согласились ехать домой и подготовить реформу. Антипатр пообещал явиться через несколько дней.
– Не забудьте сразу же арестовать преступных ораторов, – сказал он на прощание.
– Их уже нет в городе, – ответил Деметрий.
– Тогда вызовите их, пригрозите наказанием. – Антипатр начертил пальцем в воздухе полукруг. Было понятно, что он подразумевает чашу с цикутой.
Аудиенция закончилась, послы вернулись в свою комнату.
– Доставай принадлежности и пиши, – приказал Эпикуру Демад и, когда тот приготовился, стал диктовать: – В добрый час. Народ Афин благодарит наместника Македонии Антипатра, действующего по поручению царя Филиппа-Арридия, за мягкость и доброту, проявленную по отношению к городу, и постановляет...
– Не стану я этого писать, – хмуро ответил Эпикур.
– Мальчик! – сказал Фокион. – Сейчас надо думать не о красивых позах и словах, а о том, чтобы спасать то, что ещё можно спасти.
«Спасать то, что ещё можно спасти», – думал Эпикур, лёжа на носу лодки на куче сырых сетей. Лодка резво шла под парусом по волнам залива к острову Калаврии, который лежал у берегов Пелопоннеса напротив мыса Суний. Ликон, рыбак из Фалера, сидел на корме и правил веслом, Менандр и Тимократ расположились у мачты.
– А потом куда? – спросил Ликон.
– Точно не знаю, – ответил Менандр. – А на Родос можешь?
– Зависит от погоды. И от оплаты, конечно, – усмехнулся рыбак, – но ради такого дела можно и рискнуть.
Они задумали спасти Демосфена. Демосфен и другие названные Антипатром ораторы по предложению Демада были вызваны в город под страхом смертной казни для того, чтобы быть осуждёнными на неё же. Они не явились, может быть, и не узнали даже об этом постановлении, и оно вошло в силу. Тогда наместник взял исполнение приговора на себя. В это время он наводил порядок в Афинах, утвердил новые списки граждан, казнил пятьдесят шесть человек за измену Коринфскому договору, ещё больше изгнал из пределов Греции «между мысом Тенар (на юге Пелопоннеса) и Керавнскими горами (на севере Эпира)», как было сказано в постановлении. Оказалось, у Антипатра были списки афинян, выступавших против Македонии и даже голосовавших за особенно раздражавшие его постановления, и теперь он с наслаждением мстил. В последний день пребывания Антипатра в городе к нему явился актёр Архий и предложил, что найдёт и доставит наместнику бежавших ораторов. Антипатр обещал добровольному палачу щедрую награду, дал ему сотню фракийских воинов и отбыл назад в Кадмею. Оттуда с войсками он двинулся в Пелопоннес, обходя покорившиеся города, ставя к власти своих людей, казня, изгоняя, накладывая контрибуции.
Почти месяц назад, двадцатого боэдромиона, в день праздника Великих Элевсиний, пирейскую крепость Мунихий занял македонский гарнизон. По пути отряд македонян столкнулся с процессией, которая двигалась в Элевсин. Воины согнали афинян с дороги, их командир Менилл велел пустить в ход плётки. В начавшейся давке погиб учитель Эпикура Памфил, попавший под лошадь. Старик недотянул до посвящения нескольких часов. Праздник был испорчен. Многие вспоминали о дурных предзнаменованиях, другие считали, что Менилл нарушил священное шествие нарочно, может быть, даже по указанию Антипатра.
Позавчера стало известно о казни Гипперида, Гимерия и Аристоника в лагере Антипатра у города Келены. Архий нашёл их на Эгине в храме Эака и, нарушив священные законы, силой увёл оттуда. Демосфен пока ещё не был найден. И вот вчера Менандр узнал, что оратор скрывается в храме Посейдона на Калаврии. На свой страх и риск друзья наняли лодку и с рассветом двинулись в путь.
Храм Посейдона возвышался на крутом мысу, открытый ветрам. Ликон ввёл лодку в небольшую бухточку у самого мыса, Тимократ встал на повороте дороги, откуда был виден храм, чтобы дать рыбаку сигнал готовиться к отплытию, Менандр и Эпикур пошли наверх. В переднем нефе храма на каменной скамье у стены сгорбившись сидел Демосфен. Рядом с ним расположился другой старик – тот же слуга, которого Эпикур видел, когда они провожали оратора в первое изгнание. Менандр обнял Демосфена и быстро объяснил план бегства. Демосфен, не меняя позы, грустно улыбнулся:
– Благодарю, друзья мои, но уже поздно. Со вчерашнего вечера храм оцеплен фракийцами. Стоит мне выйти, они схватят, но сами войти боятся, ждут Архия. Что ж, будем утешаться тем, что сделали всё, что могли.
Демосфен опять погрузился в свои думы. В храме шла обычная жизнь, жрецы беседовали о знамениях, какие-то посетители просили скрепить торговую сделку.
– Пойти сказать Тимократу? – спросил Эпикур.
– Пожалуй, – согласился Менандр.
Но тут в раскрытые двери храма вошёл Архий. Эпикур сразу узнал актёра, рвавшегося играть главные роли, которого увидел в свой первый афинский день.
– Вот мы и встретились! – радостно крикнул Архий Демосфену. – Долго же ты скрывался от меня.
Демосфен распрямил спину, печальное выражение слетело с его лица, он смотрел на актёра с любопытством, как на диковинное животное:
– Дело в том, Архий, что я совсем не стремился тебя видеть.
– Ты зря опасаешься, – сказал актёр, – я пришёл не арестовывать тебя, а звать. Антипатр не сделает с тобой ничего дурного, он просто хочет пожурить тебя за проступки и показать, как ты был не прав, когда выступал против него.
– Плохо играешь, – засмеялся Демосфен, – твоя игра никогда не казалась мне убедительной, эта – тоже.
Архий вспылил.
– Ах вот ты как! – крикнул он. – Ты думаешь, я не смогу доставить тебя к наместнику силой? Ты всегда мешал мне и получишь за это сполна!
– Уже лучше, – кивнул Демосфен и, словно перед ним был театр, полный народа, проговорил: – Вот они, истинные прорицания с македонского треножника, а раньше ты просто играл роль. Подожди, – добавил он примирительно, – я хочу послать пару слов своим.
Слуга подал Демосфену клочок папируса и калам, его рука, державшая чернильницу, дрожала. Демосфен обмакнул калам в чернила и, обдумывая, надкусил конец тростинки. Потом он поднялся, бросил перо и неверными шагами двинулся к выходу. Обеспокоенный Архий поспешил за ним, друзья вышли следом. Эпикур понял, что в тростинке скрывался яд.
Демосфен стоял у колонны бледный, с недоброй усмешкой на посиневших губах.
– Вот теперь, Архий, – с трудом проговорил он, – ты, если угодно, сможешь сыграть роль Креонта и бросить это тело без погребения.
Глаза оратора закрылись, и он повалился на ступени.
«Письмо»
Эпикур волновался. В первый раз он решился прочитать друзьям своё «Письмо». Книга была не готова, несколько глав надо было дописать, кое-что додумать. Но откладывать он не мог, завтра они с Тимократом покидают Афины.
Эпикур потерял права гражданства и не имел средств платить налог в качестве иностранца-метека. Он хотел вернуться на Самос, но постановлением Пердикки афиняне изгонялись с острова, так что и Неокл с семьёй оказывался на положении изгнанника. Тогда Тимократ пообещал, что поможет Эпикуру и его родным устроиться в Лампсаке.
Они оставляли опустевший и погрустневший город, где люди отворачивались друг от друга и девять тысяч оставшихся гражданами ещё ощущали стыд перед двенадцатью тысячами, лишившимися родины. Теперь всем в Афинах заправлял Демад. Не последнюю роль при нём стал играть Демия. Это отразилось и на Софане, который смог за бесценок приобрести прекрасный дом, конфискованный у кого-то из изгнанных друзей Македонии. Эпикур не раз встречал на улице неразлучных Софана и Демию, высокомерных, одетых в дорогие ткани. Софан уже не узнавал старого приятеля.
Эпикур со многим прощался в эту осень. Кроме Памфила и Демосфена, не стало ещё двух великих стариков, которых он чтил как учителей: в Халкиде на Эвбее умер Аристотель, в Коринце – Диоген.
С грустью Менандр глядел на уезжавших. Языки пламени колыхались в многофитильной лампе и оживляли каменные лица драматургов, которые, казалось, тоже выражали печаль.
– Слушайте, – сказал Эпикур, – то, что я прочту, – это заготовка, основа без утка или доска без картины, скорее даже половина доски. Но не в этом суть. Кажется, – не мне судить, – я действительно сумел понять, что такое жизнь согласно человеческой природе, какова эта природа и почему именно такова, а значит, нащупать и путь к счастью.
– Однако ты преуспел в красноречии, пока мы с Тимократом скитались по Фессалии, – заметил Менандр.
– Что – я! Вы бы послушали Софана, когда он обличал Фрину.
– Не отвлекайся, – попросил Тимократ, – а то предисловие получится длиннее книги. Ты начал о дороге к счастью.
– Хорошо, – кивнул Эпикур. – Так вот, Диоген нашёл своё счастье, но сам сказал мне, что его путь не каждому по силам. А путь Аристиппа мало кому по средствам, да и куда он ведёт, видно по Стратоклу. Мой путь годится для большинства, он избегает нищеты и роскоши, скал и пропастей, железных цепей и колдовских снадобий. Он ведёт человека вместе с друзьями по цветущим лугам под ясным небом.
– Ну, прямо элевсинские острова блаженных, – улыбнулся Менандр.
– Так и есть. Мы все живём на них, только, занятые суетой, не желаем этого видеть. Мы ещё дойдём до этого, а сейчас давайте я всё-таки почитаю.
Эпикур развернул свиток и подсел поближе к лампе.
– Прежде всего, – начал он нетвёрдым от волнения голосом, – ничто не возникает из ничего, – иначе всё возникало бы из всего, не нуждаясь ни в каких семенах. И если бы исчезающее разрушалось в ничто, всё давно бы уже погибло. Какая Вселенная теперь, такая она была вечно и вечно будет, потому что изменяться ей не во что, – ведь, кроме Вселенной, нет ничего, что могло бы в неё войти и внести изменения.
Вселенная же состоит из тел и пустоты. Что существуют тела, подтверждает наше ощущение, а если бы не существовало того, что мы называем пустотой или простором, то телам не было бы где двигаться и сквозь что двигаться. А кроме тел и пустоты, нельзя найти никакой самостоятельной сущности.
Некоторые тела – сложные, а другие – те, из которых сложные составлены. Это атомы, неделимые и неизменяемые. Они не содержат пустоты и поэтому совершенно плотны и несокрушимы.
Далее, Вселенная беспредельна. В самом деле, что имеет предел – имеет край, а край – это то, на что можно смотреть со стороны, стало быть, края и предела Вселенная не имеет. Беспредельна она и по множеству тел, и по обширности пустоты. Атомы же разнообразны по виду, и в каждом виде количество атомов беспредельно, но количество разных видов имеет предел. Атомы не имеют никаких иных свойств, кроме вида, величины и веса. Величина для атомов возможна не всякая: так, никакой атом не доступен чувству зрения. Движутся атомы непрерывно и вечно, потому что начала этому быть не могло.
Миры бесчисленны, и некоторые схожи с нашим, другие – нет. В самом деле, так как атомы бесчисленны, они разносятся очень далеко и не могут израсходоваться ни на один мир, ни на любое ограниченное число миров, схожих с нашим или несхожих.
– Это всё по Демокриту? – спросил Тимократ.
– Не совсем. Во-первых, ход рассуждений. Я начинаю с неуничтожимости вещей, факта безусловного. Из этого вытекает существование вещей и пустоты. Дальше разбирается и то и другое. Ещё я отошёл от Демокрита вот где: он считал число видов атомов бесконечным и допускал, что они могут иметь любую величину. Я же считаю число видов ограниченным, а величину – неощутимо малой, потому что предложение Демокрита не подтверждается фактами.
– И ты считаешь, что таких миров, как наш, множество? – с сомнением проговорил Менандр.
– Конечно, гораздо труднее представить себе, что наш мир один-одинёшенек.
– А что подразумевается под непохожими?
– Дело в том, – принялся объяснять Эпикур, – что миры образуются сами собой без помощи разума или воли. Собирается облако летящих атомов, в нём возникает вихрь, как в быстрой реке, а дальше атомы начинают сцепляться, создавать массы, вытеснять друг друга. Но на образование каждого мира может собраться неодинаковое количество атомов, тогда они получатся другого размера с другим числом светил. Без Луны или Солнца, или с несколькими Солнцами, или совсем без звёзд. А может оказаться нехватка или избыток атомов какого-нибудь вида, и получится мир, весь залитый водой без единого островка, или, наоборот, из одной только земли, совершенно безводный. Похожие на наш обязательно должны быть – раз уж один такой появился, значит, нет запрета на появление похожих. А о непохожих можно только гадать, но особого смысла я в этом не вижу.
– Образуются сами? – покачал головой Тимократ.
– Да. Это я позаимствовал у Эмпедокла. Он заметил, что целесообразное прочнее беспорядочного и может накапливаться.
– А скажи-ка мне, – остановил Эпикура Менандр, – как ты ухитрился, сохранив демокритовскую множественность миров, объяснить естественные движения тел? Ведь нельзя же отрицать стремление всего тяжёлого к центру Мира.
– Очень просто. Никакого центра не существует, есть только направление сверху вниз, в котором и идёт естественное движение атомов.
– Но тогда они бы давно упали.
– А куда? Ведь Вселенная не знает края, и всё в ней вечно падает из бесконечности в бесконечность.
Но Менандра, прошедшего перипатетическую школу, не так-то легко было сбить. Он стал доказывать, что поскольку воздух и огонь стремятся вверх, а земля и вода – вниз, то, если бы Эпикур был прав, вещество Вселенной давно бы расслоилось. Эпикур возразил, что, по Демокриту, движение воздуха вверх происходит за счёт вытеснения более лёгких атомов более тяжёлыми, и воздух стремится туда же, куда земля. Камень тонет в воде, тесня её вверх, вода в свою очередь вытесняет воздух, а воздух – огонь. И как крабы живут на дне водяного моря, так мы – на дне воздушного.
– И Земля, по-твоему, не шарообразна?
– Конечно нет. Все эти пифагорейские построения противоречат очевидности. Я, как и Демокрит, принимаю анаксагоровскую систему Мира. Она лучше других позволяет объяснить его саморазвитие.
– Скажи, – вмешался Тимократ, – если всё развивается само собой, то выходит, ты отрицаешь существование богов?
– Вовсе нет, – ответил Эпикур. – Ведь мы иногда ощущаем их присутствие или видим во сне. Причём все согласны, что боги блаженны и вечны. Но если это так, то они не могут воздействовать ни на наш мир, ни на другие. Боги – это какие-то существа, построенные из тонкого вещества, похожего на атомы света, они живут в пространстве между мирами, иногда навещают нас, чтобы разделить нашу радость и насладиться красотой земли, но не вмешиваются в наши дела. Они для нас – идеалы красоты и блаженства, но не больше, иначе придётся считать их смертными и знающими страдание.
– Вводить таких богов – всё равно что от них отказаться, – сказал Тимократ.
– Но это же и прекрасно! – воскликнул Эпикур, – Это значит, что человек властен над собственной жизнью и собственным счастьем. Только он, и никто, кроме него! Но слушайте дальше.
Он читал об ощущениях, об атомах света, уходящих от тел и уносящих как бы их тончайшие оболочки или оттиски, которые воспринимаются глазами, о природе слуха и обоняния, о тончайших атомах души, рассеянных по телу и составляющих в нём чувствующую и мыслящую основу.
– «Бестелесное» в обычном понимании, – читал он, – есть то, что можно понять как нечто самостоятельное; но ничего бестелесного, кроме пустоты, не существует, пустота же не может ни действовать, ни испытывать действие. Поэтому, когда разрушается весь наш состав, то душа рассеивается и не имеет больше ни прежних сил, ни движений, ни ощущений.
Поэтому смерть для нас – ничто: ведь всё, и хорошее и дурное, заключается в ощущении, а смерть есть лишение ощущений. Если держаться этого мнения, то смертность жизни станет для нас отрадна, не оттого, что к ней прибавится бесконечность времени, а оттого, что от неё отнимется жажда бессмертия. Поэтому ничего нет страшного в жизни для того, кто по-настоящему поймёт, что нет ничего страшного в не-жизни. Стало быть, самое ужасное из зол, смерть, не имеет к нам отношения; когда мы есть, то смерти ещё нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Она не существует ни для живых, ни для мёртвых, для одних она не существует сама, а другие для неё не существуют.
– Это ты взял у Диогена, – сказал Менандр, – но записал отлично.
– А Диоген – у Демокрита, – уточнил Эпикур, – причём он ничем не обосновывал своё убеждение, а я, как и Демокрит, вывожу из самой стройной физической теории. Но суть не в этом. Для меня физика – это только булыжники для вымостки дороги к счастью. Согласитесь – больше всего мешает счастью страх. Страх перед смертью, перед судьбой, перед страданием. Тот, кто ступит на мой путь, должен избавиться от страхов.
– Опять Диоген, – улыбнулся Менандр.
– Но он за свободу от страхов платил отказом от радостей жизни, без чего вполне можно обойтись.
– Мы всё время перебиваем Эпикура, – сказал Тимократ. – Если так будет дальше, то, пожалуй, сегодня не доберёмся до этики.
– А она ещё и не написана. – Эпикур отложил свиток. – Но суть её такова: гедонисты утверждают – страдание есть отсутствие наслаждений, я же говорю – наслаждение есть отсутствие страданий. Мы – такая же часть природы, как всё остальное, значит, для нас хорошо то, что естественно, и плохо то, что нарушает естество. Значит, нет блаженства более высокого, чем простые человеческие радости, наслаждение едой и питьём, сном и дыханием, красотой искусства и природы, и наконец, дружбой, самым великим из благ. Всё это я испытал на себе. Да каждый, наверно, это знает, только не все умеют ценить.
– Всё это очень красиво, – вмешался Менандр. – Страх перед судьбой ты снимаешь, отрицая судьбу, страх перед смертью – отрицанием посмертных страданий. Но существование обычных страданий ты же не станешь отрицать?
– Не стану, – согласился Эпикур. – Но многие страдания – это последствия излишеств, и их можно избежать. А те, которые неизбежны, не занимают в жизни большого времени. Я, к примеру, очень хорошо знаю, что такое сильная боль. Но она не длится вечно, а её окончание позволяет острее ощутить радость здоровья, можешь мне поверить.
– Так всё у тебя просто выходит, – покачал головой Менандр.
– На самом деле тут не всё расскажешь словами. – Эпикур наморщил лоб. – Понимаете, чтобы научиться получать удовольствие от обычной жизни, кроме правильного взгляда на мир, требуется ещё и воспитание чувств. В суете и ненужных заботах мы перестаём ценить наше главное богатство.
– По-моему, говоря об этике, ты именно её умудрился обойти, – заметил Тимократ.
– Просто ещё не дошёл. И я ещё не готов говорить о ней подробно. Сейчас общество пытается строить мораль на запретах и страхе. Я хочу уйти от этого. Мораль должна строиться на внимании и любви людей к своим близким, и не в последнюю очередь к себе. Ведь все наши чувства и установления когда-то возникли, а не явились готовыми, и, значит, имеют причину. А причина эта – взаимная выгода.
– Постой, – вспомнил Тимократ, – а как же предопределённость всего, о которой твердит Навсифан?
– Её нет, опыт жизни доказывает это. Конечно, нет и полной свободы. Но одно то, что механическая судьба хоть где-то может быть нарушена, заставляет думать, что и пути атомов не строго определены, а могут иметь небольшие, но непредсказуемые отклонения. Эти ничтожные отклонения бесчисленных частиц вносят в мир неопределённость, и они есть причина нашей свободы. Мир не машина, в которой всё предсказано, он живёт, и что с ним будет дальше, зависит от многого, в том числе и от нас.
Тимократ поднялся и обнял Эпикура.
– Слушай, а ведь моя тогдашняя шутка оказалась правдивой, – растроганно проговорил он. – Ты, похоже, и впрямь нашёл суть жизни, а я – учителя.
В прохладный ветреный день поздней осени корабль с мебелью, музыкальными инструментами и потерявшими родину афинянами шёл на север. Он приближался к Гемеспонту, проливу, отделявшему Фракию от Фригии, Европу – от Азии, на азийском берегу которого в ореоле надежд и неизвестности путешественников ждал Лампсак. Эпикур и Тимократ вместе с другими, кутаясь в плащи, сидели на качающейся палубе.
Далеко на юге остались полузадушенные Антипатром Афины, и хотя внешне город не изменился, он вызывал в душе ощущение, близкое к зрелищу разрушенных Фив. Бедствие, постигшее родину, отодвинуло в тень рану, нанесённую Филоктимоной, но и этот след рухнувшего счастья вписывался в общую картину оставшихся позади развалин. Тем не менее жизнь продолжалась. Как говорил Одиссей: