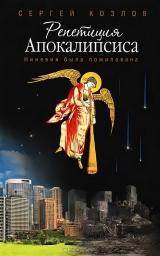
Текст книги "Репетиция Апокалипсиса"
Автор книги: Сергей Козлов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
– Какое кладбище! – обиделся Василий. – Я же со всей душой!
– Знаю я, в каком месте у вас душа!
– Да я… Просто ведь вдвоём легче…
Галина Петровна на этих словах осеклась, выдохнула и неожиданно признала:
– Это точно. Вдвоём легче. Мы вот и жили с внучкой вдвоём. Жили, зла никому не делали… А тут – на тебе. Ты не серчай на меня, Василий, тоже раскудахталась…
– Да я и не серчаю…
– Ну и спаси Господи…
– Так давай я чего помогу-то…
– Дак знать бы, чего ждать… Молиться-то хоть умеешь?
– «Отче наш» знаю.
– И то хорошо.
И так они двинулись по коридору уже как старые, закадычные друзья. Алексей, случайно наблюдавший всю эту сцену, долго стоял, глядя им вслед. И только, когда они скрылись за углом, тихо, словно боялся спугнуть впечатление, определил:
– А ведь какие хорошие люди…
Когда Галина Петровна вошла в холл, она не узнала больных. Они смотрели на неё кто с недоверием, кто с открытой неприязнью, кто с насторожённостью.
– Что случилось, мои дорогие? – участливо спросила она и закрыла ладонью рот Василию, который хотел было что-то вякнуть, выступив из-за её плеча.
– Почему вы нас обманываете? – спросил инвалид в кресле-каталке.
– Что значит – обманываем? Я всем всё рассказала честно.
– Почему вы не сказали, что наш доктор может воскрешать мёртвых?! Вот его, например, – инвалид ткнул пальцем в растерянного Алексея, что только-только появился в холле.
И Галина Петровна тоже растерялась. Василий при этом на всякий случай отступил от неё на шаг.
– Чего он нас пилюлями и капельницами мучает? Пусть исцелит, и всё! – гневно сказала женщина из лежачих.
– А ты что, главной себя тут возомнила? – прищурилась Глафира Петровна из онкологии.
– Пусть скажет, он святой? – поддержала соседку баба Тина, зачем-то поднимая над головой икону.
– Да помилуй Бог! – опомнилась, наконец, Галина Петровна. – Я никакой главной себя не считаю. Просто помочь хотела. Я не знаю, как это вышло! Слышите? Он просто молился. Плакал и молился. Понимаете?
– Пусть и за нас плачет и молится! Мы вместе с ним будем! – крикнул мужчина, у которого была на глазах повязка. – Мне плакать нечем, но я всё равно буду, если надо!
– Постойте! – пыталась объяснить Галина Петровна. – Поймите меня, Христа ради выслушайте!
– Где он?! – не слушали её.
– Пусть выйдет.
– Зачем прячется!
– Мы его не съедим!
– Он ушёл спасать девушек! – крикнул Лёха так, что все замолчали. – Поняли? Их там насиловать будут! А вы тут орёте!
На какое-то время Алексею удалось заставить замолчать десятки страждущих, и Галина Петровна не преминула возможностью высказаться:
– Милые мои, – снова начала она, – вы должны понять. Болезнь попускается Господом, дабы человек задумался о спасении души. Говорить я не мастерица, но как понимаю, так и объясню. Если человек избавится от грехов, то и болезнь отступит.
– Да я лбом в вашем храме два года бился! – снова заговорил инвалид. – Мне поп наш все эти песни уже пел. Толку что?! – он раздражённо ударил обеими руками по колёсам каталки.
– Кому-то до конца жизни лбом биться, а того, что просит, не получить, – грустно ответила ему Галина Петровна, – у меня сын за Божью Правду бился, и его убили. И что? Мне надо было Бога упрекать в том, что чья-то злая воля подняла на него руку?
– А чего ж Бог за него не заступился? – спросила Глафира Петровна.
– А это… – уже совсем тихо ответила Галина Петровна, – одному Ему известно. Поймите вы, некоторым болезнь во искупление даётся, некоторым, чтоб уберечь их от ещё больших напастей.
– Да куда уж больше, – горько вставил инвалид.
– А мне бы уже умереть… побыстрее… – прошептала Марина из онкологии, но её все услышали.
– И это тоже… как дар бывает… – ответила ей Галина Петровна. – Я только в России такую поговорку слышала: рак – в рай за так.
– Не хотите попробовать – за так? – с ухмылкой прошептала Марина, и Галина Петровна опустила голову.
– Если попустит… то куда ж деваться… Если бы Пантелей мог, он бы вас всех исцелил. Неужели вы не видите, что он действительно этого хочет. Кому бы вы были нужны в такое время, а он сюда пришёл. У него даже никто не спросил, а где его родные, что с ними.
– Он мне операцию сделал! – раздался вдруг громкий и такой упрекающий голос Серёжи. – Он очень хороший. Он самый добрый! И Галина Петровна хорошая! Не кричите на неё!
И всем, кроме Серёжи, стало стыдно. Заметив это, мальчик вышел в центр зала и неожиданно радостным голосом предложил:
– А хотите, я вам стихи почитаю?
– Стихи? – изумился инвалид. – Какие стихи?
– Стихи моего полного тёзки, Сергея Есенина.
И начал читать, не дожидаясь одобрения и разрешения, совершенно взрослое, царапающее душу стихотворение позднего Есенина. Читать так, что казалось, оно написано про сегодняшний день, про нынешнюю Россию, про каждого, кто был и страдал в этом зале:
Несказанное, синее, нежное…
Тих мой край после бурь, после гроз,
И душа моя – поле безбрежное —
Дышит запахом мёда и роз.
Я утих. Годы сделали дело,
Но того, что прошло, не кляну.
Словно тройка коней оголтелая
Прокатилась во всю страну.
Напылили кругом. Накопытили.
И пропали под дьявольский свист.
А теперь вот в лесной обители
Даже слышно, как падает лист.
Колокольчик ли? Дальнее эхо ли?
Всё спокойно впивает грудь.
Стой, душа, мы с тобой проехали
Через бурный положенный путь.
Да и сам голос пятилетнего Серёжи звенел в холле как колокольчик, и акценты он расставлял так, что женщины уже вздрагивали плечами от рыданий, а мужчины прятали и вытирали как бы невзначай глаза, и только Лёха плакал открыто и счастливо. А Серёжа продолжал:
Разберёмся во всём, что видели,
Что случилось, что сталось в стране,
И простим, где нас горько обидели
По чужой и по нашей вине.
Принимаю, что было и не было,
Только жаль на тридцатом году —
Слишком мало я в юности требовал,
Забываясь в кабацком чаду.
Но ведь дуб молодой, не разжёлудясь,
Так же гнётся, как в поле трава…
Эх ты, молодость, буйная молодость,
Золотая сорвиголова!
Когда он кончил читать, в холле царила плачущая тишина. Он, словно вернувшись откуда-то с поэтического Парнаса, удивлённо обвёл взрослых взглядом:
– Вам что – не понравилось?
– Очень понравилось, – ответил за всех инвалид.
– Тогда надо похлопать в ладоши, – удивился непониманию Серёжа.
Инвалид захлопал первым, мощными ударами сильных ладоней, словно чеканил шаг парализованных ног. И уже тогда к нему присоединились все, и аплодировали так, как не хлопали бы ни одному известному артисту. Серёжа стоял в центре и радостно улыбался. Лёха, растерев глаза до красноты, бросился к нему, взял за плечи и спросил:
– Можно я буду твоим названым братом?
– Можно, только надо у сестры спросить.
– А кто у тебя сестра?
– Даша. И вот – бабушка вторая – баба Галя.
– Мы спросим, спросим. Прочитаешь мне это стихотворение, я на листок запишу?
– Прочитаю, конечно. Мне его мама на компьютере сначала распечатала. Я вообще-то учил про собаку Джима, но мне это почему-то больше понравилось.
– Да это ж как сказано-то: стой, душа, мы с тобою проехали через бурный положенный путь… – повторил запомнившиеся строки Лёха. – Стой, душа! Здорово! Классно!
– Ага, – согласился Серёжа. – Я ещё про берёзу знаю.
5
– Часа три-четыре у нас есть, может, чуть больше, пока опомнятся, – тихо говорил Макар Никонову. – А дальше что будем делать?
У Михаила Давыдовича от этих слов сердце сжалось и какое-то время не желало разжиматься.
– Обойдётся без войны? – скорее не спрашивал, а утверждал обратное Макар.
– Оружия мы у них достаточно насобирали. По периметру больницы выставим огневые точки. Просто так тоже не сунутся, – размышлял в ответ вслух Никонов.
– Уходить надо будет, – сделал вывод Макар.
– С больными? Далеко не уйдём.
– А может, – несмело вмешался в разговор профессор, – заявим о нейтралитете? Пусть они своей жизнью живут, а мы своей. Никто никому не мешает.
– Девушек сразу здесь высадим? – вскинул бровью Никонов.
– В смысле? – не понял Михаил Давыдовыч.
– В прямом. Думаешь, они нам позволят полный автобус красавиц у них забрать? На чём, по-твоему, профессор, держится власть этого Садальского?
– На чём?
– На том, что он распределяет то, что ему не принадлежит. Ну… плюс немного харизмы. Он же им предложил вариант этакой военной демократии. Вождь и его дружина имеют право на всё, остальные имеют право работать. Всё.
– Как-то узко вы понимаете институт военной демократии, – не согласился профессор.
– Щас дискуссию по этому поводу откроем, – ухмыльнулся Макар.
– Если они и появятся, то ночью, – размышлял вслух Никонов.
– Не думаю, – возразил Макар, – для начала они попытаются тебя, Олег, купить.
– Купить? Да у меня же на роже написано, что я не продаюсь!
– Такие, как Садальский, об этом ничего не знают. Для них всё продаётся и всё покупается. Вопрос в цене.
– Ты его знаешь?
– На тридцать втором участке кладбища похоронена его мать. Памятник – обелиск.
– Это недостаток? – вмешался Михаил Давыдович.
– Это показатель. Насколько я знаю, он из когорты тех приватизаторов, которые растаскивали народное добро, а потом добивали ещё советские предприятия, выжимая из них последние соки, и называли это успешным бизнесом. Сам он никогда ничего не построил и не создал. Потом, вроде как, он, как и все капиталисты, предпочёл шмыгнуть во власть. Купил себе место в областной думе, затем – в Государственной…
– Слушай, ты на кладбище работал или в газете? – изумился Никонов.
– Ага, в боевом листке Армагеддона.
– Приехали, – крикнул Тимур с водительского сидения.
У входа всех встретил Лёха.
– Тише, – ни о чём не спрашивая, попросил он, – там Сергуня больным стихи читает…
– Какие стихи? – чуть было не возмутился Тимур.
– Хорошие. Про дом. Про Россию. Про юность. Есенина читает.
– Ну прямо военно-полевой госпиталь, – улыбнулся Никонов, – ты лучше скажи, Аллигатор, ты воевать сможешь?
– Ноги прострелены, руки ты мне сам прострелил, – начал Лёха с некоторой обидой.
– Да на тебе после… Пантелея… всё зажило, – хотел сказать «как на собаке», но посчитал это неуместным Олег.
– Да, – согласился Лёха, – вроде зажило. А что? Всё-таки будут стрелять?
– Думаю, будут.
Михаилу Давыдовичу от всех этих разговоров стало вдруг одновременно страшно и печально. Он уже не столько боялся смерти, сколько надеялся всё же увидеть, чем всё это кончится.
– Что ты думаешь про Второе пришествие Христа? – попытался он отвлечься на разговоры с Макаром.
– Я не думаю, я жду, – коротко ответил тот.
– И на что ты надеешься?
– На милость Божию…
– Мне сегодня нельзя спать, – сообщил ему профессор.
– ? – вскинул густую бровь Макар.
– Если я не буду спать, я не проснусь злым.
– Банально, логично, но стоит попробовать, – согласился Макар, – не переживай, спать нам, скорее всего, не дадут.
– Мне тоже придётся воевать?
– Нет, будешь лекции из окна читать. Пока тебе из пулемёта не зааплодируют.
– Злой ты, Макар, – обиделся профессор.
– Не злой, а ироничный.
– Ирония у тебя злая.
– Прости, – вдруг смягчился кладбищенский философ, – не бери близко к сердцу. Это я так. Самому не по себе.
– Как ты думаешь, – Михаил Давыдович стал похож на застенчивого ребёнка, – если нас убьют, мы встретимся: ты с Еленой, я с Таней? И – с сыном…
Макар долго и внимательно смотрел на профессора, который стоял, не поднимая глаз, словно спросил о чём-то запретном, интимном.
– Честно?
– Честно…
– Очень хочется. Но там, – Макар сделал паузу, взглянув в мутное серое низкое небо, – не влюбляются и не женятся. Там что-то другое… Не обижайся, надо было святых отцов читать, а не Хайдеггера.
– Не обижаюсь… Но так хочется их увидеть. Я вдруг понял, что прожил целую жизнь зря.
– Об этом не нам судить. Да и знаешь – так, наверное, все перед смертью думают, если успевают подумать.
И Михаил Давыдович и Макар теперь уже наблюдали, как Галина Петровна и Даша крепко обнялись на крыльце и первая что-то нежно шепчет и причитает второй, гладит её по голове и плачет.
– Люди такие бывают светлые, когда не скрывают своих чувств, – сказал профессор.
– А теперь представь себе любовь Спасителя, Который, будучи распятым, испытывая страшные муки, просил о распявших Его…
– У меня ни мозги, ни душа не вмещают, – честно признался Михаил Давыдович.
– И я о том же…
– И что же нам делать?
– Даже не помню, где я прочитал эту фразу, но она очень подходит к любым экстремальным ситуациям. Делай, что должен, и будь что будет…
– Хорошие слова. Я тоже одну знаю: если не знаешь, как поступать, поступай правильно.
– Мне кажется, Михал Давыдыч, ты близок к исцелению, – улыбнулся Макар.
– А ты сегодня ещё не выпил, – парировал с улыбкой профессор.
– Кстати, о выпивке… – сморщился как от зубной боли Макар, – пойду-ка я до ближайшей лавки. На трезвую голову спасать мир мне не по силам…
– Ты неизлечим, Макар.
– Алкоголизм неизлечим…
6
Как только Пантелей вошёл в холл, он сразу понял, чего от него хотят больные. Все смотрели на него: кто с надеждой, кто с мольбой, кто с интересом, а некоторые с затаённой обидой. Лёха успел ему сказать, что все верят в то, что молодой доктор может их исцелить, и ничем эту веру поколебать невозможно. Что он мог сказать этим людям? Это они желали чудес и знамений, и они же их не видели, это они бегали к «шептунам» (как называл главврач тех, кто лечил заговорами) и экстрасенсам, а потом приносили сюда застарелые, запущенные болезни, это они недоверчиво, неприязненно морщились, когда в палату входили сёстры милосердия из православного сестричества… Странно, но особенно их не жаловали в онкологическом отделении, где, по мнению Пантелея, они были всего нужней. У людей сложилось какое-то нелепое суеверие, что если священник или сёстры придут к кому-нибудь из них с проповедью или утешением, то скоро его будут отпевать. А теперь все эти страждущие люди хотели от Пантелея чуда… Чуда, которого он им дать не мог, потому что чудес по заказу, чудес по неверию не бывает. Потому что возвращение (так, он считал, говорить правильнее) Лёхи он считал великой Божией милостью, а вовсе не итогом своей молитвы. Потому что ничего подобного он сам никогда не видел и не знал. Разве что из житий святых, которые читал на ночных дежурствах.
Или знал? Пантелей вдруг вспомнил откуда-то из далёкого детства. Сколько ему тогда было? Пять? Шесть? Семь?.. А может, меньше? Отец вывез семью в отпуск не за границу, не на море, а в среднюю полосу Центральной России. «Надоело это пляжное сало», – сказал он тогда маме. Пантелей смутно помнил невзрачный корпус дома отдыха или санатория, тихие аллеи, по которым прогуливались негромкие старички, старушки и респектабельные семьи, столовую, в которой жил неистребимый дух какой-то каши, и небольшой, но очень древний город поблизости, куда родители возили Пантелея покататься на скрипучих каруселях. А ещё недалеко был монастырь, и окружавшие его белые, но потрескавшиеся стены с возвышавшейся над ними колокольней и золочёным крестом манили Пантелея посмотреть – что за ними. Но родители почему-то не торопились туда поехать, хотя и фотографировали монастырские стены, поднимающиеся из сочного зелёного луга в глубокое светло-синее небо. Пантелею обитель казалась сказочным городом, где должны происходить удивительные вещи, а ещё, хоть он и был маленьким, Телик буквально чувствовал, что в этом месте дышит история. Дышит так, что и сейчас он с лёгкостью вспомнил это чувство. Это было похоже на вход в иной мир. Теперь Пантелей понимал, что так оно и есть, а тогда ему казалось, что вот-вот из монастырских ворот вылетят на резвых конях всадники-витязи с развевающимися красными накидками за плечами. В серых стальных кольчугах, шлемах-шишаках. Настоящие русские витязи. И поскачут туда, откуда идёт на Русскую землю враг. Маленький Пантелей точно знал, что витязи должны быть в обители, потому что мама читала ему книгу, как они ездили туда за благословением. И Пантелей очень боялся, что пока родители собираются туда поехать, витязи уже ускачут по своим ратным делам и он не успеет их увидеть. А потревожить отца просьбой, как всегда, не решался. Только подолгу смотрел на извилистую просёлочную дорогу, которая вела к воротам обители. Но вместо витязей из ворот выезжали автобусы с туристами, автомобили, а входили в них паломники, которые хотя бы последние километры предпочитали идти пешком.
Однажды, когда родители гуляли по парковым аллеям, Пантелей немного отстал, высматривая в окружающих кустарниках таинственную лесную жизнь, и увидел под деревом пёструю мёртвую птичку. Он не знал, что птичка называется вертишейкой, но зато сразу понял, что она мёртвая. Что с ней случилось, он не знал, но на всю жизнь он запомнил испытанное тогда двоякое чувство: смерть пугала и заставляла поскорее пройти мимо, а ещё лучше, догнать маму и спрятаться в её больших любящих руках, но застывший открытый глазик вертишейки как будто просил о помощи. И уже не верилось, что такая небольшая птица могла вдруг умереть, казалось, её заколдовал злой волшебник, и если её отнести к доброму волшебнику, то он обязательно её оживит. И Пантелей так и сделал. Он достал из кармана носовой платок, потому что мама всегда клала в карман чистый носовой платок, развернул его и аккуратно переложил птичку на ткань. Погладил её по продольным тёмным полоскам на голове, прошептал «потерпи» и понёс в сторону монастыря, где, как он думал, обязательно должны жить добрые волшебники. Он настолько увлёкся своей благородной задачей, что даже забыл о родителях. Просто вышел из одних ворот и пошёл по направлению к другим, прижимая к груди завёрнутую в платок мёртвую птицу. Просёлок между тем тянулся не только через поле, но и заходил в негустой, но всё же лес, отчего Пантелею было страшно – вдруг злой волшебник догонит его и умертвит, как эту птичку. Про обычных зверей или лесных разбойников даже не думалось. В конце концов, страшно стало так, что Пантелей остановился и заплакал, не решаясь идти дальше, но уже не имея сил и смелости возвращаться назад. Плакал он тихо, потому как боялся, что родители услышат и расстроятся. Ну должен же был его услышать добрый волшебник!..
И он услышал. Пантелей сразу понял, что он добрый, хотя на нём была очень чёрная и сильно поношенная одежда до самой земли. Его лучисто-голубые, чистые, точно родниковая вода, глаза смотрели так, что ошибиться было нельзя – это добрый волшебник. Он был очень и очень старый, этот волшебник, такой старый, что седые волосы опускались прямо на грудь, путаясь с бородой, а лицо было иссечено такими глубокими морщинами, что в них можно было что-нибудь спрятать. Зато глаза были молодыми и прозрачными, как небо. Он вышел прямо из леса и сел на корточки рядом с плачущим Пантелеем и протянул ему горсть лесной земляники.
– Спасибо, – поблагодарил, еле сдерживая всхлипы, Пантелей, но не мог взять подарок, потому что в руках у него была птица.
– Давай её мне, – сказал волшебник, ведь он, конечно, знал, что мальчик принёс ему птицу, и они обменялись тем, что у них было в руках. – Ты думаешь, она живая?
Пантелей кивнул.
– И я так думаю, – улыбнулся волшебник.
Сжимая вертишейку в ладонях, он приблизил их к губам и тихонько дохнул, словно хотел её согреть, потом открыл ладони, и птица спрыгнула с них на землю. Засеменила, подпрыгнула, чуть пролетела, поблагодарила «кяй-кяй» и тут же скрылась в листве.
– Как тебя зовут? – спросил волшебник.
– Пантелеймон, – Пантелей назвал своё полное имя, потому что волшебникам надо говорить взрослое имя, а не Телик, как будто ты телевизор.
– Хорошее имя. Как у великого целителя. Знаешь такого?
– Знаю, у меня у кроватки его портрет.
– Не портрет. Образ.
– Образ, – повторил Пантелей.
– А меня зовут Иоанн.
– Иоанн.
– У меня вон там скит, – волшебник указал рукой куда-то в чащу леса. – Приходи в гости.
– А можно? – спросил Пантелей.
– Тебе – можно.
Волшебник погладил Пантелея по голове, подмигнул ему обоими глазами и сказал:
– Беги обратно, там твои родители очень волнуются.
У Пантелея после этих слов сердце буквально подпрыгнуло. Он только представил себе, как своим исчезновением расстроил родителей. И теперь, с одной стороны, надо было опрометью бежать назад, с другой – ему страшно было возвращаться.
– Беги, не бойся, – прочитал его мысли волшебник, – не бойся возвращаться к тем, кто любит, даже если ты провинился. Наоборот, всегда возвращайся.
– А у вас есть волшебные слова? – решился спросить напоследок Пантелей.
– Есть, – улыбнулся старец, – они очень простые: Господи, помилуй…
– И когда их надо говорить?
– Всегда.
– Всегда-всегда?
– Всегда-всегда. Можно про себя говорить. Ну, внутри, понимаешь?
– Понимаю. И если их говорить, что будет?
– Мир в душе.
– Мир в душе, – повторил Пантелей. – Спасибо, – добавил он, и вдруг бросился к волшебнику и обнял его, как обнял бы своего дедушку, если б он у него был.
Так они постояли немного, и осмелевший Пантелей помчался обратно. Родителей и ещё каких-то людей, которые помогали искать пропавшего мальчика, он встретил недалеко от ворот дома отдыха. Они не ругались, а только спросили, где он был. Пантелей ответил честно, что носил волшебнику мёртвую птицу и тот её оживил, а также сказал Пантелею волшебные слова. Родители не ругались, но, похоже, в волшебника не поверили. Взрослые во многое не верят…
И сейчас надо было что-то сказать этим людям, которые совсем недавно ни во что не верили, а теперь ждали доброго волшебника. Что им сказать? Что путь исцеления надо пройти, а чудо заслужить или дождаться, когда оно произойдёт по Замыслу Божию? А поймут ли?
– Дядя Пантелей! Я так по тебе скучал! – маленький Серёжа вдруг бросился навстречу к доктору, и растерянный Пантелей подхватил его на руки и крепко обнял.
– Я переживал за тебя. Лёша сказал, что ты пошёл к нехорошим людям, – шептал Серёжа.
– Всё хорошо, – только-то и смог ответить Пантелей.
Теперь, держа на руках ребёнка, которому делал операцию святой, Пантелей чувствовал себя увереннее.
– Я бы хотел всем помочь! – громко сказал Пантелей. – Мне кажется, я это и делаю… Если кто-то читал Евангелие, он помнит, что Спаситель говорил о детях. Он говорил: не запрещайте им приходить, ибо их есть Царство Небесное. Вера должна быть чистой, непосредственной, детской… Понимаете? – Он чуть приподнял мальчика: – Я не исцелил Серёжу, я его лечил, понимаете? Мы делали ему операцию. Простую, но нужную. Серёжа, расскажи всем, кто и как делал тебе операцию…
7
Всех мужчин, которые могли держать оружие в руках, Никонов расставил к окнам. Тимуру достался торец здания, выходящий окнами на новый недостроенный корпус больницы. С одной стороны, это был глухой тупик, с другой – Олег предупредил: «Если бы я готовил штурм, то отправил бы в недострой снайперов… Будь внимательнее». Напарником в это крыло вдруг напросился Михаил Давыдович, который сроду оружия в руках не держал.
– Макар с Никоновым совещаются, а мне очень надо не спать, – нерешительно объяснил профессор своё появление.
– А-а, ну не спи, – пожал плечами Тимур.
Он был явно не настроен беседовать с рыхлым интеллигентом и всем видом старался показать это.
– Понимаете, Тимур, если я засну, я могу проснуться другим человеком, – всё же пытался объяснить Михаил Давыдович.
– Все мы можем проснуться другими людьми, а можем вообще не проснуться, – сухо рассудил кавказец.
– Вам проще, вы на Кавказе сохранили дух, традиции…
– Какие дух?! Какие традиции?! Деньги – дух. Вот и всё. Деньги, понимаешь? Люди… – Тимур на минуту задумался, подбирая слова. – Короче, люди просто всё делали неправильно. Поэтому всё произошло. Думали, они умнее Всевышнего.
– Зря вы так о людях. Вот я прочитал у арабского суфиста Ибн аль-Араби, не у него, правда, самого, а у турецкого писателя Орхана Памука, который ссылается на его книгу «Печати мудрости». Но аль-Араби я тоже знаю. Так вот, он сказал: «Ангелы не могли постичь тайну создания Наместников, именуемых Людьми». Проще говоря, даже Ангелы не всё знают о людях.
– Профессор, я вообще мало знаю… Но и мне понятно, что даже люди себя не знают. Куда уж тут Ангелам. Ты что, тоже читал Коран?
– Нет, но я читал труды суфистов. Это исламские философы. Они проповедовали путь очищения. Там не было проповеди никакой войны, кроме войны со своим нафсом.
– Нафс?
– Это животная душа человека, которая толкает его вслед за страстями. Из-за нафса человек не может достичь хакика – просветлённого состояния. Не может узреть гайб.
– Дед мне что-то говорил об этом, – задумался Тимур.
– Постигший гайб – просветлённый человек, способный к истинному состраданию, прощению, милосердию…
– А! Вспомнил, дед говорил мне: Тимур, за всем, чем манит этот мир, не угонишься, просто потеряешь жизнь, лучше стать слабым мюридом, чем сильным мира сего.
– О! Да ваш дед был муршидом!
– Кем?
– Духовным наставником.
– Да, он учил… Он жил очень долго. Войну прошёл. Его уважали в селе. Очень уважали. За советом приходили. Но я был маленький, не всё понимал. Дед презрительно относился к деньгам, ненавидел роскошь, никому никогда не завидовал, не ссорился с христианами и говорил, что люди должны вернуться к земле, работать на земле, иначе они не смогут себя прокормить в последние времена.
– Вам повезло с дедом.
– Профессор, обращайся ко мне на «ты», мы же не на светской беседе.
– Ну да, ну да…
– Помню, дед иногда раскрывал газету, потом комкал её и говорил: джахилия.
– Грубость, дикость, невежество, служение материальному миру, – тут же перевёл профессор. – Видимо, ваш… твой дед, Тимур, считал, что нынешние времена близки по своей сущности ко временам доисламского периода. Христиане называют это апостасией. Временем, когда многие отходят от веры.
– Надо было слушать деда, – сам себе сказал Тимур, безотрывно глядя в окно. – А я хотел сначала машину, потом дом, большой дом на берегу моря, и чтобы меня все уважали.
Михаил Давыдович только вздохнул в ответ.
– Я тоже хотел, чтобы меня уважали. Потому вроде, с одной стороны, хвалил добро, с другой – оправдывал зло.
– С такой башкой, как у тебя, как можно ошибаться? – простовато удивился Тимур.
– Количество информации не есть знание, – грустно ответил профессор. – Как говорит Макар: человеческая мудрость очень часто, перерождаясь качественно, превращается в банальную хитрость.
– Э-э-э… – протянул Тимур, – скажи проще: иной мудрец простой хитрец.
– Гениально, – оценил упрощение формулы профессор.
В это время на этаже появился Эньлай. Он подошёл к собеседникам, выглянул в окно и спросил:
– Тихо?
– Да вроде, – ответил Тимур.
– Там внизу парламентёры появились. На чёрном «лексусе» прикатили. Зовут Никонова на переговоры. Он берёт Макара и тебя.
– Меня? – удивился Тимур.
– Тебя. Говорит, так представительнее будет.
– Э, а чё с ними разговаривать, с шакалами этими?! – возмутился Тимур. – Думаешь, стрелять не будут? Мы пока беседу-меседу будем вести, они тут всех обложат.
– Они не знают, сколько нас. В этом наше преимущество.
– Не, я валяюсь с этого мира! Тут всему кирдык приходит, а они законы устанавливают, воевать хотят, парламентёры какие-то…
– Ты идёшь? – перебил Лю.
– Иду, конечно, хочу в глаза этим шакалам посмотреть. Еду забрали, женщин забрали, гарем устроили… – Тимур уже шёл по коридору к лестнице, но вдруг обернулся и сказал Михаилу Давыдовичу: – Не спи, профессор, не спи, пожалуйста, сейчас тем более нельзя спать. В окно смотри. Понимаешь?
– Понимаю, – кивнул Михаил Давыдович, но Тимур уже переключился на Эньлая.
– Слушай, вас больше миллиарда, половину России уже отхватили, а чё ты один здесь остался? Щас бы твоих земляков сюда, с этими разобраться…
– Я русский китаец, – в который раз повторил Эньлай, – я крещёный.
– Э, а много вас крещёных?
– Много…
Михаил Давыдович слушал, как по лестнице удаляются голоса, и тревожно смотрел в окно. Он боялся оставаться один.
Глава восьмая
1
Чёрный внедорожник «лексус» с характерным номерным знаком 001 доставил Олега, Макара и Тимура к зданию городской администрации. По обеим сторонам от входа стояли два молодца с автоматами на груди. Забрав оружие, они дотошно обыскали «гостей» и, не найдя ничего подозрительного, кивнули сопровождающему: проходите. Вдоль коридора и по лестницам тоже стояли по стойке «смирно» бойцы.
– Гестапо какое-то, – покачал головой Тимур на всю эту военизированную инфраструктуру.
– Это порядок, – ответил ему сопровождавший их парень в тёмном костюме.
У кабинета главы города тоже стояли молодцы и расступились только после слов сопровождающего «Леонид Яковлевич ждёт».
Садальский сидел в глубоком кожаном кресле, листал какие-то бумаги, за спиной стоял Эдик. Увидев Никонова сотоварищи, Эдик метнулся к ним.
– Разрешите, я их на куски порву?!
– Не дёргайся, – Садальский отрезал таким холодным тоном, что Эдик заметно побледнел.
– Да уж, сдерживайте пыл, юноша, если не готов умереть, – глухо сказал Никонов. – У нас была масса возможностей превратить вас в фарш.
– Ты сам-то готов умереть? – не удержался телохранитель.
– Лет двадцать уже, – лениво зевнул Олег и сел без приглашения за длинный стол, приставленный перпендикулярно к столу, за которым возвышался Садальский. Макар и Тимур последовали его примеру.
– Выпьете что-нибудь? – осведомился Леонид Яковлевич, и мёртвый глаз его скользнул в сторону.
– Виски, грамм двести, – согласился Макар.
– Воздержусь, – ответил Никонов, и Тимур его поддержал.
Длинноногая лань тут же принесла для Макара бокал, наполненный до краёв золотистым напитком.
– «Дьюарс» двенадцатилетней выдержки, – по запаху определил Макар.
Садальский на это молча кивнул и здоровым глазом начал буровить Никонова. Сдвинутый зрачок мёртвого смотрел на Тимура и Макара. «Жутковатая внешность», – подумал Олег.
– Я пытаюсь установить в городе порядок. А ваша, так сказать, группа дестабилизирует обстановку, – начал Садальский. – Вы же человек военный, Олег Николаевич, – он заметно заглянул в бумаги, чтобы уточнить отчество Никонова, – значит, вы тоже должны быть сторонником порядка. Вы его попытались навести по-своему, у вас не получилось. Позвольте сделать это профессионалам.
– Мы вам не мешаем, – сдержанно ответил Олег.
– Ну как же, усыпили целую роту бойцов, увезли часть девушек, окопались в больнице.
– Я не позволю совершаться насилию, у вас остались те девушки, которые остались добровольно. Секс за бутерброд с колбасой и благосклонную улыбку этого анаболика, – Никонов кивнул на Эдика, – их устраивает. Это их право.
– М-да… – Садальский откинулся на спинку кресла. – Вы же понимаете, что порядок в городе мы всё равно наведём. И он будет таким, каким мы его видим.
– Мы – это кто?
Макар в это время залпом выпил бокал виски, отёр рукавом губы и, благостно посмотрев на Садальского, тоже спросил:








