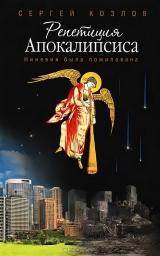
Текст книги "Репетиция Апокалипсиса"
Автор книги: Сергей Козлов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
– И что, мы снова пойдём в больницу? А потом? Я не против помогать больным, им сейчас тяжелее всех. Но что-то надо делать ещё…
– А я вот гляжу на Пантелея, он не думает, что делать ещё, он просто делает.
– И что? Я не могу думать?! – Лю вскочил на ноги. – А я хочу действовать, я думаю, я сомневаюсь, я ищу! – Он снова посмотрел на образ Спасителя: – Наташа говорила, если Он придёт, надо всё отдать, всё! А что мне теперь отдавать? У меня нет ничего! Деньги, машины, бизнес?! Дерьмо это всё! – в порыве выругался Эньлай, а Галину Петровну от его слов передёрнуло.
– Помни, где стоишь! – отрезала старушка.
И Эньлай остановился, замер, снова посмотрел в глаза Христу, упал на колени и заплакал.
– Прости меня, Господи, – прошептал он, и было это настолько искренне, что по храму полетело тихое эхо.
И вдруг Эньлая снова подбросила какая-то внутренняя сила, в глазах сияло озарение:
– Я знаю! – сказал он Галине Петровне. – Он не мог нас бросить! Это точно! Он пошлёт кого-нибудь… А может, Он Сам ходил все эти годы… между нами… Смотрел, как мы деградируем… И мы уже даже не слышали пророков, которых Он посылал. Должен кто-то прийти. Надо сказать Никонову. Макару надо сказать! – и Эньлай бодрым шагом направился к выходу.
– Слава Тебе, Господи, – перекрестилась ему вслед Галина Петровна, – по вере вашей да будет вам…
3
«Мы легко узнавали друг друга. Сначала в разговорах, в научных спорах, публикациях, но когда уровень опасности вырос, когда времени оставалось всё меньше, мы стали узнавать друг друга прямо на улицах. Для этого достаточно было пересечься взглядами. С одной стороны, это хоть как-то приглушало вселенское чувство одиночества, с другой – ещё раз подтверждало и без того обострённое ощущение приближающегося апокалипсиса. Здесь, правда, нужно сделать важные замечания: во-первых, с точки зрения верующего человека, он никогда не остаётся один, с ним всегда остаётся Бог, во-вторых, мы вовсе не походили на разного рода кликуш-пророков, которые вещали кто от имени Бога, кто от имени сатаны, кто вообще выдавал себя за мессию. В том-то и дело, мы чувствовали, но мы сомневались, мы были обычными людьми и помнили евангельские тексты. У Марка… или у Матфея читаем: О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы Небесные, а только Отец Мой один… А признаки, разбросанные по тексту, совпадали в человеческой истории не раз. Кроме двух: всеобщая апостасия и восстановление Храма Соломона… Хотя как говорить об апостасии в той же России? Как можно отпасть от того, с чем ещё не соединился? Народ шёл к Богу, шёл к вере, но ещё не вернулся, ещё не дошёл, вера держалась великими молитвенниками, миссионерами, мучениками, благородными людьми и стойкими мирянами. Но, может, так тоже было всегда? И может, всегда были такие, как я, с пронзительным чувством наступающего Конца Света? Но вот я встречал в толпе глаза человека и узнавал в них такой же вопрос, который терзал моё сознание, мою душу. Мы могли, не сговариваясь, остановиться, могли поговорить, а могли просто постоять рядом молча. Иногда мне казалось, что мы легко читаем мысли друг друга. Нет, не буквами и словами, не звуками, а образами. Страшными образами. И очень хотелось видеть за всем этим светлое Царство Спасителя, но не дано было нам по грехам нашим, отчего ходил за нами по пятам смертный грех уныния. Между нами не возникло братства, между нами не возникло, тем более, хоть какого-то оформленного общественного движения, между нами не возникло тайного общества, между нами была только незримая связь знания и чувства. И непонятно, что в этом тандеме было главным: знание или чувство.
Я встречал эти взгляды не только в России, я встречал их, хоть и реже, но всё же встречал в изнеженной любовью к себе и расхристанной движением антиглобализма Европе. Я поехал туда, чтобы найти Елену. Я шёл по её следам через переставшую быть славянской Варшаву, по театральным партерам Вены, по говорливым кафе Белграда, по узким улочкам Котора, у русской церкви в Париже на улице Дарю… Что она там искала? Хотела увидеть, где венчался Пикассо с Ольгой Хохловой? Я бы пошёл на улицу Лекурб, посмотреть на маленькую церковь Серафима Саровского, а ты пришла сюда, к золочёным куполам… И я стоял на улице Дарю, где была ты. Именно тут я встретил своего парижского побратима. Когда я вышел из храма, по улице шествовал какой-то очередной парад содомитов. Первой моей мыслью было, что в Париже проходит какой-то карнавал, но очень быстро по вызывающей одежде, бородатым «женщинам», по спортивным фигурам, облачённым только в трусики-стринги, я понял, что это за шествие. Нет, они никому не угрожали. Напротив, на лицах их были приветливые улыбки, зевакам они рассылали воздушные поцелуи, кидали цветы и какие-то листовки, выкрикивали что-то совсем незлобное на самых разных языках, из чего можно было сделать вывод, что это шествие интернациональное. Они были настолько приветливы, что хотелось помахать им рукой в ответ, что многие из прохожих и делали. Когда один (одна?) из них кинулся на мой изучающий взгляд, чтобы подарить мне цветок, я торопливо отвёл глаза и увидел рядом священника. Видимо, он вышел из храма следом за мной. Вид у него был несколько растерянный. Он тоже посмотрел на меня и что-то сказал на французском. Я пожал плечами – мол, не понял. И тогда он улыбнулся и повторил уже на русском:
– Времени почти не осталось.
– Я тоже это чувствую, – согласился я.
И словно в подтверждение нашего короткого диалога мимо нас прошли русские содомиты, которые нездоровой иронией и размахом превзошли всех. Они несли на плечах носилки, на которых лежал огромный, сделанный, вероятно, из какого-то пластика фаллос. На нём ёрники написали «конец света». Потому и было понятно, что идут россияне. Только русский язык позволял так невесело поиграть словами. Вдруг одна из размалёванных, как музыканты группы «Kiss», девиц выскочила из нестройных рядов и пьяно крикнула в нашу сторону:
– Батюшка, идите к нам, я хочу исповедоваться! – и раскинула полы плаща, под которым не было ничего, кроме вызывающих татуировок.
Толпа захохотала. Беззлобно, но с каким-то самоуверенным превосходством. Девицу заграбастал огромный, раздетый по пояс парень, но она продолжала ещё что-то кричать в нашу сторону.
Священник опустил глаза.
– Вы не хотите выпить? – спросил я его.
– Если только немного.
Потом мы сидели в кафе за бутылкой «Бордо» и негромко разговаривали. Разговаривали, конечно, о своих печальных предчувствиях.
– Как тут определишь Антихриста? – вопрошал я. – Все президенты умные, прилизанные, борются за мир, против бедности, борются за порядок и предлагают свои программы…
– Имя его – легион, – ответил отец Владислав. Так его звали.
– То есть – они все антихристы?
– Конечно. В каждом из нас есть часть Христа. Но в каждом по внутреннему выбору может находиться и часть Антихриста.
– Никогда об этом не задумывался.
– Мы все носители каких-то отдельных знаний. Мы встречаемся и дополняем друг друга.
– Но ведь некоторые президенты ходят на церковные службы!
– Так ведь и бесы верят. Верят и трепещут. Помните, у апостола Павла?
– Помню…
– Сегодня они на службе в храме, а завтра, сообразуясь с миром сим, приветствуют с балкона парад, который мы только что видели. И, казалось бы, ничего в этом страшного нет. Потому что это тоже люди, это тоже электорат, они тоже платят налоги. И зла от них, по мнению этого мира, куда меньше, чем от террористов или антиглобалистов. Да от кого хотите.
– Сегодня один скажет: по своей природе я хочу возлежать с мужчиной, это моё право, завтра другой, следуя этой же логике, скажет: я хочу возлежать с младенцем, а третий скажет: я хочу пить кровь, потому что мне было дано знание, что я вампир.
– Всё верно. Мы-то с вами понимаем. Но этот мир не способен и не желает мыслить глубоко. Я называю это дискретным падением.
– Как?
– Дискретным падением. По ступенькам. Сегодня мир признаёт, что не грех одно, завтра другое, послезавтра – третье. Так и катится по ступенькам…
– Хороший образ, – признал я, – мне иногда думается, что мы уже живём в аду.
– Да, – спокойно ответил священник, – только в рукотворном. В том, который мы создали сами.
– А это? – кивнул я на видимые сквозь кроны деревьев золотые купола храма.
– Знаете, на затонувшем корабле бывают так называемые воздушные подушки, там сохраняется часть воздуха. Там выжившие ещё могут дышать какое-то время…
– А времени остаётся всё меньше, – продолжил я.
Больше нам разговаривать было не о чем.
Вторая такая встреча произошла в Белграде. Прошло уже несколько лет, а Сербия и её столица так и не оправились от натовских бомбардировок в 1999 году. 18 стран 78 дней бомбили Югославию. Я был на улице Милоша Великого до бомбардировки и был после. Это уже не была улица Милоша Великого. Я почему-то вспомнил Юрия Шевчука и «ДДТ», которые по своей воле да за свой же счёт поехали в Югославию в эти дни. Чтобы спеть там «Не стреляй» и «Наполним небо добротою». Я где-то читал его интервью, о том, с каким звуком летят «томагавки», запомнил почему-то: «Представьте – сидишь в летнем кафе, пьёшь пиво, рядом люди ходят, дети на великах гоняют, собачки бегают и… воет сирена противовоздушной тревоги. Когда на город летели «томагавки», я слышал их звук, мерзкий такой визг, как будто зуб сверлят. Бах, был дом – и нет. Жили люди – их больше нет. Ощущение какого-то абсурда, бреда, чудовищного непонимания». И потом я сам услышал, как летят «томагавки»… Коренные жители Америки должны были бы обидеться за такое использование названия боевого топорика.
Я бродил по Белграду, хотел сходить в кафе «У коня», где любил бывать Павич. Где, скорее всего, бывали и Андрич, и Црнянский. В руках у меня были две книги – «Биография Белграда» Милорада Павича на русском и сербском языках. И, помню, я приютился в каком-то совсем неприметном ресторанчике, чтобы выпить кофе, выкурить сигарету (я всё никак не мог отделаться от этой обезволивающей привычки), а ко мне подсел пожилой и похожий на Зевса серб. Молча выпив перепеченицы, он закурил трубку и посмотрел на меня так, будто мы знакомы сто лет.
– Русский? – спросил он.
– Русский, – подтвердил я.
– Мы, сербы, несколько раз переживали Конец Света, – напомнил он.
– Знаю, мы тоже. Как думаете, а сейчас разворачивается последний?
– Только Он знает, – кивнул старик в небо, – там, где нет времени, какое событие может быть последним? – уклончиво ответил он. – Для нас с тобой, может, последнее. Для русских и сербов, может, последнее испытание.
– Казалось бы – куда больше?.. – пригорюнился я.
– Зачем ты об этом думаешь, если ищешь любимую женщину? – оказывается, он был настоящий прозорливец.
– У меня это на лице написано?
– Важно другое. Она сейчас на берегу Средиземного моря. В доме, которого скоро не будет.
– Что это значит?
– Не знаю. Что знаю, то говорю. Почему бы тебе не позвонить ей и не сказать, что из этого дома надо быстро уехать?
– У неё нет мобильного телефона. Они у неё всегда ломались.
Есть такие люди – у них вся эта современная техника не приживается. И у Елены постоянно сгорали ноутбуки и мобильные телефоны. В конце концов, она просто перестала ими пользоваться…
– Я тоже не пользуюсь мобильными телефонами. Всё, что ускоряет этот мир, ускоряет и его конец. Хотя… такой мир мне не жалко.
– А я хотел успеть получить свою долю счастья.
– Любовь, – улыбнулся старик, – поэтому все остальные твои чувства притупились. Ты перестал чувствовать опасность.
– Где находится этот дом? В котором она?
– Я не ясновидящий. Так, кое-что… Средиземное море. Может, Эгейское или Критское. Бухта красивая. Больше не знаю ничего.
– Откуда такое знание русского языка?
– Многие старые сербы помнят. – Старик только моргнул официанту, и тот сразу принёс ему ещё одну порцию перепеченицы. – Я немного учился у вас в военной академии. У меня к тебе тоже вопрос.
– ? – постарался услышать его я, хотя мне больше всего хотелось кинуться в аэропорт и лететь куда-нибудь в сторону Греции.
– Тебе последнее время тоже попадают в руки книги, которые напоминают…
– О том, что мир стоит на краю, – продолжил я. – И возникает чувство, что кто-то постоянно напоминает и к чему-то подталкивает.
Старик кивнул. Выпил свой алкоголь и поднялся.
– Держись, рус, – попрощался он. – Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете, – напомнил он мне слова апостола Павла из Первого послания к фессалоникийцам.
Это было моё любимое послание. Я знал его почти наизусть. Потому ответил словами апостола из этого же послания:
– Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут.
Старик улыбнулся и показал мне растяжку над дорогой, на которой было написано: «mir i bezbednost» konferencija u Beograd»… Я тут же поймал себя на мысли, что по-сербски безопасность звучит как безбедность. Есть деньги – ты в безопасности. Так получается. А ведь могли использовать и другое слово в сербохорватском языке – сигурность. Но через оговорки мы проговариваемся. И пока я думал об этом, подсознание моё осенила догадка: куда могли повести языковые исследования Елену. На родину Кирилла и Мефодия. Минутой позже бежал за билетом в Салоники, памятуя слова старика-серба, напрягал память – какое там море? Вспомнил, когда уже с билетом в руках ловил такси – Эгейское, а бассейн моря Средиземного. «Старик, пусть тебе почудилось», – думал я, сгорая от нетерпения и даже ещё не представляя, как буду искать русскую женщину в почти миллионном древнем городе. Впрочем, я уже много чего делал наобум, брал нахрапом и, в свете предсказания старика, похожего на Зевса, я желал только одного – успеть. И что значит «в доме, которого скоро не будет»? Остаётся надеяться, что её в это время в этом доме тоже не будет. Верить или не верить старому сербу – сейчас относилось к той же категории, что и верить или не верить в предсказания синоптиков о дожде, если небо затянуто тучами. И всё же всегда остаётся сомнение: небо затянуто тучами, но дождь может не начаться… «Македония» – так называется аэропорт в Салониках. Точнее – в пятнадцати километрах от них. Греция и бывшая югославская республика постоянно оспаривают друг у друга это название – Македония. Странно, все хотят, чтобы их страна была родиной завоевателя вселенной. Хорошо монголам: с ними о Чингисхане не поспоришь… Только бедные немцы хотя бы публично вынуждены проклинать Гитлера и жить с постоянным чувством вины.
С таксистом я разговаривал на смеси английского, русского и греческого, а также жестами. Не знаю почему, от нетерпения, наверное, я, зная привычки Елены и любовь к тихим местам, пытался выяснить у него, где могла остановиться красивая русская женщина, которая занимается наукой и которой нужна тишина. Вилла, дом, тихое место – произносил я на разных языках. И потом показал ему фотографию.
Бросив на неё беглый взгляд, таксист молча припарковал машину на обочину и достал из-за противосолнечного козырька местную газету, которая, разумеется, называлась «Македония». Развернул её на второй полосе и ткнул пальцем в фотографию Елены, сканированную, видимо с паспорта. Рядом были другие фотографии: огромная воронка на берегу моря, какой-то молодой мужчина, ещё лица… Но их я уже не в силах был рассматривать.
– Буф! – прокомментировал таксист и взметнул вверх руками. – Террорист.
– Where? When? When this place? – выдавил я, и вспомнил из русско-греческого разговорника, который держал в руках: – Потэ… Поу… – что-то такое надо было сказать.
Но он понял меня и без слов. Переключил скорость и вдавил педаль газа.
Джалиб знал, какую бухту мне показывать. В реальности я увидел только часть мраморной лестницы, ведущей к морю. И никто не мог мне толком объяснить, почему какой-то террорист взорвал именно эту виллу.
– Мир и безопасность, – сказал я, опустившись на ступеньки, и заплакал.
Солнце продолжало восходить и заходить, небо тянулось в сторону моей таёжной Гипербореи, волны ласкали пляж, но если б кто-то сказал мне, что жизнь продолжается, я бы не поверил. Моя жизнь превратилась в воронку за моей спиной. Единственное, что наивно хотелось сделать, это крикнуть на весь мир всем этим террористам, что борются они не за свободу, не за религию, а просто работают на пришествие Антихриста. Каждый их взрыв толкает общество к тотальному контролю.
Ещё хотелось умереть… Господи, какой я ничтожный дурак! Я считал, что могу познать мир, забывая слова Екклесиаста: И предал я сердце моё тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость: узнал, что и это – томление духа; потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь.
Скорбь стала моей верной спутницей. И только горькая ирония разъедала её изнутри, чтобы остальным казалось, что я жив. Чтобы веселее было копать могилы».
4
Даша проснулась так же неожиданно, как и заснула. Как будто нырнула и вынырнула. Причём вынырнула и напугалась. Незнакомое пространство вокруг – хороший повод взбодриться спросонья. И пока вспомнила, что сама пришла вечером в ординаторскую, испуганно озиралась, тёрла кулаками глаза. Но увидела мирно спящего на соседнем диване Пантелея и сразу успокоилась. Какое-то время она бесцеремонно рассматривала спящего молодого доктора.
Во сне его лицо казалось немного женственным. Во всяком случае, в другое время это не было так заметно. Невольно Даша сравнивала его с образом Артёма. И поймала себя на мысли: даже когда весь мир рушится, хочется жить, любить и быть любимой. А этот врач – не от мира сего – интересно, мог ли бы он любить кого-то больше, чем всех? По мнению Даши, получалось, что он какой-то гипертрофированно добрый. И тут же самой стало стыдно: как так – разве доброты может быть много? Или нынешний мир настолько загажен, что его раздражает всякое её более-менее яркое проявление?
– А спит он, как ребёнок, – прошептала Даша, и с этими словами отправилась проверять настоящего ребёнка Серёжу.
Войдя в палату Серёжи, удивилась: на соседней кровати спала, положив ладошку под щёку, бабушка. Правда, как только Даша переступила порог, бабушка уже не спала. Она открыла один глаз, зрачком пробежалась по Даше и свободную ладонь приложила к губам:
– Тихо… пусть спит…
– Ба-аб, – нетерпеливо прошептала Даша, – это же наш Серёжа…
– Да-а… Похож очень…
– Да он точно наш!
– Побойся Бога!
– Вот Он нам его и послал!
– Ясно, что послал. Мальчик один остался.
– Значит, будет наш.
– Будет, если захочет.
– Захочу, – сообщил сквозь потревоженный сон Серёжа и перевернулся на другой бок.
Галина Петровна махнула на внучку рукой: мол, чего мальчишку будишь, нетерпеливая!
И Даша понятливо вышла на цыпочках из палаты. Захотелось разбудить Пантелея, молодость требовала общения, но, вспомнив, что спящий он тоже похож на ребёнка, пожалела его и двинулась по коридору. Общение не заставило себя долго ждать.
– Девушка, девушка, можно вас на минутку? – услышала, когда проходила мимо одной из палат.
Остановилась, покрутила в раздумьях губами, но всё же вошла в приоткрытую дверь. В палате сидел, свесив ноги с кровати, знакомый по событиям у храма бандит с перевязанными руками и заклеенным пластырем лбом и слащаво улыбался.
– Вы – медсестра?
– А вы – медбраток? – с ухмылкой переспросила она.
– Зачем так сразу, – обиделся и потух раненый, – меня, между прочим, Лёшей зовут. Можно ещё Аллигатором. Но это так… кликуха.
– Вас зовут между прочим? – Даша не оставляла ироничный тон.
– Слышь, – окончательно обиделся парень, – я тебе чё, оскорбительное что-то сказал? По-человечьи же спросил?
Пассаж прозвучал весьма откровенно, и Даша устыдилась.
– Даша меня зовут, я не медсестра. Я искусствовед… недоделанный.
– Круто, – оценил Лёша.
– Что круто-то? Фигня всё. Теперь это никому не нужно. Да и раньше никому не нужно было.
Но Алексей вдруг загорелся и начал доказывать обратное:
– Да не скажи! С нами один писатель сидел, ну из этих, оппозиционных, так он знаешь какие истории тискал!
– Чего?
– Ну, рассказывал. Мы ему работать не давали, чтоб он писал, а вечером на сон грядущий читал. Заслушаешься!
– Живая аудиокнига, – сделала вывод Даша.
– Это ты опять издеваешься?
– Да нет же. Наоборот, интересно.
– Во-во, я и говорю. А ещё художник был. Он за травку чалился…
– Чего?
– Ну… сидел… чалился – это сидел.
– А.
– Так вот, он такие картины писал. Да вот же! – Лёша перевязанными руками вскинул футболку, и взору Даши предстала большая татуировка: ива над рекой и маленький домик.
– Пейзаж, – улыбнулась Даша.
– Это мой дом. Фотка просто уже истёрлась. А так, пока жив, он всегда со мной.
– Сейчас уже всё давно в электронном виде хранят. На флэшках, на дисках.
– Электронном, – горько ухмыльнулся Лёха, – у нас только электронные часы над башкой светили да телевизор был. Вот и всё электронное. Писателю, правда, мы ноутбук выгрызли, и кум не запрещал, потому что писатель ему малявы для начальства строчил, отчёты там всякие. Да так грамотно, что ему премии давали.
– Офигеть, – оценила Даша.
– Да-а… – обрадовался, что смог заинтересовать девушку, Аллигатор, – ты не смотри, что я это… урка такой. Я вообще-то нормальный. Я не по мокрухе шёл.
– А почему тогда Аллигатором прозвали?
– Да просто… я… одному… дрались, короче… я ему ухо откусил.
– Офигеть! – ещё раз повторила Даша.
– Деваться некуда было. Он здоровый, навалился на меня… Задавил бы. Я хотел нос ему откусить, но не получилось. Ну, я из последних сил до уха дотянулся, зубами клацнул, а потом два дня жрать не мог.
– Значит – не каннибал.
– Чего?
– Не людоед, значит.
– А-а, конечно, не людоед.
Даша подошла к окну и стала всматриваться в серую глубину парка. Лёха притих, гадая, что она там могла увидеть.
– Света не хватает. Мне кажется, с каждым днём как-то темнее становится, – наконец сказала Даша.
– Пасмурно просто, – пожал плечами Лёха.
– Да нет, действительно темнеет понемногу, – на пороге появился Пантелей.
– И что, всё совсем погаснет? – повернулась к нему Даша.
– Не знаю, – ответил Пантелей.
– Как можно про такое спокойно говорить? – Даша задала этот вопрос так, как будто от молодого врача зависело, включать утром солнце или нет.
– А чего суетиться? Если не можешь повлиять на ситуацию, принимай её такой, какая есть, – дружелюбно улыбнулся Пантелей и повернулся к Аллигатору: – Как самочувствие, больной?
– Всё пучком, доктор. Чё-нибудь делать хочется, не люблю сложа руки сидеть, хоть и работать не люблю, – ответил Лёха и сам засмеялся.
– Пойду Серёжу проведаю, – кивнул Пантелей.
– Там бабушка с ним, – предупредила Даша и направилась следом.
Серёжа будто ждал прихода Пантелея и радостно закричал, отчего Галина Петровна буквально подпрыгнула с кровати.
– Доктор Пантелей, а мне уже можно ходить?!
– Думаю, можно, – улыбнулся Пантелей, – только не прыгать, не бегать, а потихоньку ходить.
– Писять хочется. И чаю.
– Сейчас, милый, чай придумаем, – всполошилась Галина Петровна, торопливо прибирая волосы.
– А молиться со мной пойдёшь? – спросил Пантелей.
– Молиться?
– Ну да. У нас в больнице маленькая часовенка. Туда всегда батюшка приходил. Мы сначала с ним вдвоём молились, а потом больных всё больше приходить стало. Даже те, которым трудно было. Мы там акафисты читали…
– Я одну молитву знаю, – деловито сообщил Серёжа, – меня мама научила.
– Научишь меня? – попросил Пантелей.
– Конечно, вот слушайте. Добрый Ангел мой Хранитель, защити меня от бед, позови меня в обитель, где сияет Божий свет.
– Это стихи, – удивилась Даша.
– Это молитва, – по-взрослому нахмурился Серёжа, – мы с мамой разучили, она говорила, когда мне плохо или страшно, чтобы я её повторял.
– Это молитва, – согласился Пантелей.
Галина Петровна торопливо прижала ладонью выступившую слезу и отвернулась в сторону, будто поправляла постель. Стало тихо, и тут Серёжа заметил:
– А почему птичек не слышно?
Все изумились этому вопросу, а Даша снова подошла к окну.
– Действительно, почему? – спросила она в стекло. – Темнеет, и птиц не видно.
5
Новое утро не принесло Михаилу Давыдовичу душевного покоя. Напротив, очнувшись в светлой своей половине-части, опять же – без памяти о вчерашнем дне, он испытывал муки совести. Причём куда большие, чем обычно. Быстро и точно понял главное в своём состоянии: жить не хотелось, а умирать было страшно. Решил не ходить ни на какие общие сборища. Борьба за выживание его интересовала меньше всего. В первый раз в жизни Михаилу Давыдовичу захотелось помолиться, но он только смутно осознавал это желание, не имея представления, как его осуществить. Сделал несколько кругов по квартире, пока уразумел, что ищет хоть какую-то икону, и, не найдя, просто бухнулся перед окном на колени. Глядя в серое марево неба, профессор прошептал:
– Я знаю, что я ничтожество. Я другого не знаю – что мне делать? Зачем Ты меня оставил со всеми этими людьми? Какая им от меня польза? И не могу я больше так мучиться, не могу, слышишь? Да, это я во всём виноват, я всегда это знал где-то глубоко внутри себя, я глушил и стирал это знание, но оно вновь и вновь напоминало о себе. Это был Твой голос… Видишь, и это я понимаю. Но теперь просто испепели меня, потому что нет сил жить разделённым на две половины, так и не понимая, не дотягиваясь до целого. Испепели, чтоб и пепла не осталось. Ты же знаешь, что я настолько трус, что и руки на себя наложить не смогу, да и не надо этого Тебе. Господи, больно-то как… – и зарыдал так, как ни разу не плакал от самых больших обид в детстве, как не плакал, когда потерял Таню.
Успокоиться профессор Дубинский смог только через полчаса. Причём он словно во второй раз проснулся, обнаружив себя на полу под окном в позе эмбриона. Поднявшись на колени, он устремил печальный взгляд в мутные небеса и не без пафоса произнёс:
– Ну… хоть умереть по-человечески… можно?..
Небо промолчало.
– Понятно, – ответил сам себе Михаил Давыдович и пошёл умываться из пластиковой бутылки.
– А ведь баня нужна, – в ванной он понял, что уже пропах кислым потом, что тело требует воды, а краны безнадёжно молчат. В первый день Никонову и его помощникам что-то удалось выдавить из электростанции, насосы поработали, воды набрали кто сколько и кто куда мог. Профессор нацедил в тазики, пару вёдер, в пластиковые пятилитровки, в кастрюли и чайники… «А надо было прямо в ванну», – запоздало понял он. Тем не менее, быстро сбросил с себя одежду, поморщился от вида собственного тела в поясном зеркале, прыгнул в ванну и медленно, поскуливая, вылил на себя тазик воды. Намылился, где мог, и так же неэкономно пожертвовал вторым тазиком.
Одевшись, профессор бесцельно вышел во двор. Какое-то время постоял у подъезда, прислушиваясь к живой мёртвой природе. Ни ветерка. Ни птичьего щебета. Ни запахов. Ничего… Пошёл, как в сказке, куда глаза глядят, и в соседнем дворе заметил мужчину, который с помощью шланга скачивал бензин из бака джипа.
– Я не ворую, – упредил его вопрос мужчина, – это джип моего друга.
– Да какая теперь разница, – пожал плечами Михаил Давыдович. – Вы ещё куда-то ездите? Ведь сказали, что мы словно под колпаком. Дальше определённого количества километров проехать нельзя.
– Не скажите. Я вот много чего занятного нашёл. Такие места в лесу…
– Интересно, – сказал профессор.
– А то! – в этот момент в кармане мужчины пропел мобильный телефон. Знаменитая мелодия включения «Nokia». Тот вытащил из кармана сотовый и грустно заметил: – По привычке таскаю сотовый телефон, всё думаю, вдруг мои позвонят… Откуда-нибудь. С того или с этого света. Глупо, да? Он и навёл меня на мысль, – кивнул на телефон, – что вся наша постиндустриальная цивилизация – пшик. Надо уметь выращивать хлеб, доить коров… Продукты скоро придут в негодность. Кончится запас автономного питания. И кто мы тогда? Первобытные люди, умеющие включать компьютер и выходить в интернет?
– Я тоже об этом думал, – согласился Дубинский.
– Что-то важное мы в жизни, в стране упустили. А ведь сколько храмов настроили! Правда, на один храм сколько телевизоров приходится… Вы кто по профессии?
– Мой друг Макар говорит, что никто. Профессор философии.
– А-а-а… – похоже, согласился с определением Макара мужчина. – А я бывший военный.
– Как Никонов?
– Это тот, который с утра в колокол бьёт? Нет, я другой. Я уже навоевался. Уже очень давно. Кстати, меня Василием звать, – мужчина протянул руку.
– Михаил, – ответил на рукопожатие профессор.
– Я последние годы мостостроителем работал. Образование у меня военно-инженерное. Понтонщик.
– Понтонщик? – нахмурил лоб Михаил, первая ассоциация у него почему-то возникла с жаргонизмом «понты».
– Понтоны, переправы…
– А-а! Понял.
– А из армии ушёл, ещё когда у нас непонятные войны по всем углам тлели. И на эту мысль меня солдаты простые, срочники обычные подвигли.
– ?
– Да всё просто. Мы как раз через одну горную речушку переправу делали, чтоб БМП могли пройти. Подробности опущу, не люблю вспоминать. Короче, бросили нашу роту, а тут так называемые бандформирования подоспели. Полроты я там потерял, пока о нас вспомнили. Пацаны-то воевать не умели… Сидим потом с ними на базе. Поминаем погибших. Плачем, как бабы. А один солдатик студент у меня был. Он вдруг вопросом задался: «Вот раньше, – говорит, – воевали «за веру, Царя и Отечество», потом «за Родину, за Сталина», а мы? Мы что? За яхту Абрамовича какого-нибудь? За виллу Гусинского?» И вопрос его колом у меня в груди встал. Ничего я ему ответить не смог. Подал рапорт и уволился.
– М-да, – посочувствовал Михаил Давыдович, который изо всех сил пытался понять далёкую для него военную жизнь.
– Хочешь, Миш, я тебе покажу, чего в лесу нашёл?
– Да, разумеется. Только потом на кладбище меня увезёшь?
– На кладбище? – насторожился Василий.
– Да друг там у меня, живёт и работает, – улыбнулся профессор, – хотя мне, наверное, уже давно там прогулы ставят.
– Все там будем, – согласился Василий, – поехали, – он открыл дверцу «Нивы», в бак которой только что перелил канистру.
От города отъехали, как показалось Михаилу Давыдовичу, не так далеко, свернули на просёлок в сосновый бор. Ещё пара километров, и Василий заглушил двигатель.
– Дальше пешком, – объявил он, вышел из машины и достал с заднего сидения карабин и клинок, похожий на мачете.
– А это зачем? – удивился Михаил Давыдович.
– На всякий случай. Если такое вокруг происходит, то и не знаешь, чего ждать. Пойдём. Сейчас сам всё увидишь.
Они углубились в лес, вошли в какую-то кричаще мёртвую зону бурелома. Поваленные хилые деревья, чёрная почва, усыпанная ржавой хвоей, лишённая мха, сосредоточенная мгла над всем пейзажем…








