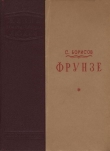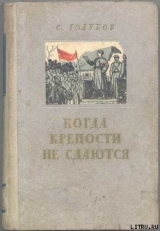
Текст книги "Когда крепости не сдаются"
Автор книги: Сергей Голубов
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 62 страниц)
Фрунзе приостановился. В большой комнате, где ужинало двадцать человек, было тихо-тихо.
– А что же будет в конце концов с «их» милитаризмом? – спросил Карбышев.
Фрунзе быстро ответил:
– Погибнет в противоречиях своего собственного развития…
После ужина Котовский с душой завел протяжную молдавскую песню о пастухе и овцах. То теряются овцы, то снова находятся; то плачет пастух, то радуется… Потом вместе пели украинские и, наконец, русские песни. Карбышев подсвистывал звонко и складно; он не умел петь, а свистел мастерски еще с кадетских времен. Фрунзе молча слушал. Он любил музыку, восхищался Собиновым в «Лоэнгрине» и Шаляпиным в «Русалке», да и сам любил петь, но остерегался, так как «медведь» то и дело «наступал» ему на ухо. Когда запели студенческую «Из страны, страны далекой», он было подтянул. Однако тут же и смолк.
– Что ж, Михаил Васильевич? – спросил Котовский.
– Слышали, какой голос?
– Слышал.
– Ну вот…
– Тенор.
– Не тенор, – засмеялся Фрунзе, – а приближающийся к тенору. Зачем же я буду людям настроение портить?
– А в централке певали?
– То дело другое…
Еще днем выяснилось, что Фрунзе и Котовский в разное время сидели в одной и той же камере Николаевского централа, приговоренные к смертной казни через повешение.
– Совсем другое дело…
Между тем квартира Котовского постепенно становилась похожей на самый настоящий табор. Со всех сторон слышалось приглушенное:
– Кото… Кото…
Какие-то люди расстилали свои шинели на полу и на столах, укладываясь спать. Что за люди? Это были старые бойцы из кавбригады Котовского, коммунисты из Ободовки, приехавшие взглянуть на Фрунзе.
* * *
Котовский никогда не мог привыкнуть, что надо стучать в дверь, – он ударял в нее кулаком.
– Войдите! – сказал Карбышев, уже лежавший в постели и даже успевший в первом сне повидаться с Лялькой.
– Не разбудил?
– Разбудили.
– Хм! Я или старуха?
– Вы. А что за старуха?
– Да тут, за стеной, вдова одного старого полковника живет, параличная. Все время кашляет. Я и…
Он тяжело заходил по комнате, сжимая кулаки. Это помогало ему думать.
– Живет, как жила, – пускай доживает. Не гнать же? На картах раскладывает. Жене разложила Нет, все одно выходит. Ну вот, выходит, хоть сто раз клади карты, никак не оттасуешься…
Он продолжал ходить, а Карбышев – ждать. Ведь не за тем же пришел Котовский. среди ночи, чтобы о старухе рассказывать. Пришел, потому что беспокойство мешает ему спать, и надо этому беспокойству вылиться. Вдруг Котовский остановился перед кроватью Карбышева, неправдоподобно громадный и толстый в переливах ночного мрака.
– Долой парадность и очковтирательство! – воскликнул он, взмахнув кулаками, – пришел спросить вас, товарищ Карбышев, верно ли я поступаю. Никакой парадности, ни малейшей, ни в чем. Все – как есть: люди, ученье, работа. Октябрьская революция поставила перед Красной Армией задачи, такие, что… Для их выполнения нужны, кроме сознательности, еще могучие физические и моральные силы, железная воля и стальные нервы. И вот, пожалуйста, смотрите: люди на марше, люди в манеже, люди в мастерских, люди…
Он ухватил руку Карбышева, как делал это обыкновенно, здороваясь и прощаясь, – крепко-накрепко сжал, рванул, будто напрочь, и бросил:
– Вот и все…
Карбышеву вспомнилась давнишняя ночь в недалеком отсюда Бердичеве, шарканье туфель и страшные, полные ужаса и отчаяния, речи генерала Опимахова. Парадность и очковтирательство… Не они нажали курок опимаховского браунинга; но они, именно они подвели его дуло к генеральскому виску. Бесконечная вереница картин «возвышающего» обмана пронеслась в памяти Карбышева. Он вскочил с кровати. Звонко шлепая по полу босыми ногами, подбежал к Котовскому и крепко обнял его.
Рано утром Карбышев вышел на заднее крыльцо и остановился ослепленный.
Осень в тот год была на редкость странная. Зелень с деревьев уже сошла, но трава держалась, – яркая и свежая. Вчера еще цвели георгины и астры. А за одну сегодняшнюю ночь все это устойчиво-дружное великолепие исчезло. На дворе и за забором, куда ни глянь, все было белым-бело. Вдруг навалило столько снегу, что иной раз и за месяц не выпадет. Снег лежал пышными, холодными подушками на дорогах, белыми гирляндами висел на кудрявых березовых кустах. Было что-то трогательное, болезненно-жалкое в этом сочетании зимы с летом, смерти с жизнью, в том бессилии, с которым тянулся вверх из-под снежного покрывала голый ершик обреченных травинок. Мороз и тишина; игольчатый иней густо опушал наличники окон, трубы, столбы, провода; и пригнулись под ним ветви чудно разукрасившихся елок. Котовский стоял голым на снегу и покрикивал:
– Воды!
Ординарец, с мохнатым полотенцем через плечо, подтащил ведро ледяной воды. Котовский расставил ноги, плечистый, с гладкой, будто отшлифованной под медь спиной и бугроватыми на бицепсах руками.
– Лей!
Повернулся.
– Лей!
Глубоко вдохнул и выдохнул воздух.
– Лей!
Потом обернулся к Карбышеву.
– Пойдем топленое молоко пить!
И, докрасна растершись жестким полотенцем, живо перемахнул через занесенное снегом крыльцо в дом.
Поезд шел тихо-тихо, медленно продвигаясь на север сквозь черную, пустынную ночь. Вагонная прислуга суетилась. Стаканы с белой водой мелькали в ее руках. У Фрунзе был жестокий приступ язвенных болей. Но он все еще «верил» в соду…
* * *
Училище, открытое Фрунзе в Полтаве, называлось «военно-подготовительным»; а харьковское – «военной школой РККА». Когда Якимах попал в эту школу, у него на первых порах голова закружилась. Уже лет семь прошло с тех пор, как ходил он в четвертый класс уездного училища. Четвертым классом все и кончилось. Якимах отвык от карты, от черной доски и от всего прочего, без чего не бывает настоящей учебы. А здешняя учеба была самая настоящая. Практические занятия с выходом в поле, маршировки без всякого внимания к зимней стуже, даже уставная премудрость – все это не очень мучило Якимаха. Обвык он быстро. Правда, уставал до одурения, спал по шести часов без сновидений, не меняя позы, как мертвое тело. Но мало-помалу постиг главное: нужно с головой втянуться в дело, и тогда отучишься уставать. А когда усталость позади, – появляется вдохновенная неутомимость. И она появилась. Страдал же Якимах преимущественно в классе, на уроках по общеобразовательным предметам. Есть люди, которые не умеют сидеть. Нет у них манеры сидячего человека. Сядет такой человек, а кажется, будто присел, сейчас вскочит и опять куда-нибудь пойдет. Якимах был именно такой человек. Класс казался ему каторгой. Однако школа не давала спуску. Требовались курсанты, способные разбираться в фортификации. И поэтому школа налегала на арифметику и алгебру. Нужно было, чтобы курсанты имели хоть какое-нибудь понятие об элементах военной химии. И потому им преподавалось естествознание. Полуграмотный курсант не мог ни написать донесение, ни прочитать страницу из учебника. Отсюда – нажим на русский язык. Так из приспособления общеобразовательных предметов к задачам собственно военного обучения возникала военная школа нового, советского типа, ибо политграмота и культпросветработа шли своим чередом.
Но и темнотой своей Якимах терзался только первые месяц или два. Потом и это дело наладилось, и пошло в ход. Когда его спрашивали: «Как дела?», он быстро повертывал к спрашивающим смешливое, веселое лицо и отвечал:
– Дела мировые…
Постепенно Якимаха перестали в школе звать по фамилии. Говорили: «мировой», а подразумевался Якимах. Товарищи его любили, ценили его остроумие, сочувствовали его находчивости, похваливали за сообразительность. И он умел показать себя.
– Воздух есть тело супругое…
– Что?
– Супругое…
– Сам ты супругий!
– Ну?
– Чудило! Упругое, а не супругое…
Когда Якимах смеялся, лицо его становилось детским. Но вместе с тем и еще что-то появлялось в лице – не то ласковое, не то хитрое. Так или иначе – он очень хорошо окончил школу и, отслужив лето в войсках, к зиме вернулся в нее командиром взвода.
Фрунзе был прикреплен к парторганизации харьковской школы РККА. Ни одно заседание бюро не проходило без его участия. Он появлялся, принимал рапорт и говорил:
– С почестями кончено. Будем заниматься тем, чем надлежит…
Вскоре по возвращении в школу Якимах был выбран в бюро. Фрунзе сразу узнал его и, ласково здороваясь, всегда о чем-нибудь спрашивал. Однажды случилось так, что, сидя в президиуме, Якимах очутился рядом с Фрунзе. Он смотрел на своего соседа, и дух его занимался от радости. Ему казалось, что ни у кого на свете нет и не может быть таких сияющих морщинок вокруг ясных глаз, как у Фрунзе. Он знал, что это не так, но, доведись поспорить, полез бы и на рожон, доказывая. Улыбка Фрунзе, его голос, даже гимнастерка и штаны – все казалось Якимаху не только необыкновенным, но даже единственным в своем роде, ибо принадлежало необыкновенному и единственному в своем роде человеку. И вот этот человек вдруг спросил Якимаха:
– А почему не учитесь дальше?
Якимах почувствовал, как волнение тугим комком останавливается поперек его горла, не давая ни говорить, ни дышать. Он надавил на предательский комок усилием всего своего существа и столкнул его с места. Фрунзе поймал затяжку в ответе, уловил облегченный вздох, разглядел жаркий румянец на круглом лице и, поняв, улыбнулся.
– Насчет грамоты у меня, товарищ командующий, плохо. Средней школы не кончил.
– Действительно плохо. А куда бы вы хотели?
Фрунзе спрашивал так просто, что и ответить ему можно было только так же просто. Но самые простые мысли Якимаха были вместе с тем и самыми сокровенными. Никогда до сих пор он не выговаривал их вслух, – уж очень просты и сокровенны. Да и кто бы ни засмеял Якимаха вдруг, скажи он кому-нибудь, что мечтает быть похожим на Фрунзе, – таким же талантливым, умным и ученым… А ведь он мечтал именно об этом и о том еще, как этого достичь, – сокровенная человеческая простота. Но сейчас его простота заговорила.
– Так куда же хотели бы?
В застенчивости очень молодых людей бывает иногда что-то такое, отчего ее трудно, почти невозможно отличить от самоуверенности.
– В Академию Генерального штаба, – смело отвечал Якимах и, чуточку подумав, добавил, – вот кабы для таких, как я, подготовительные курсы были!
Фрунзе сразу повернулся к нему.
– Что? Курсы? А вы знаете, – мысль крепкая…
И уже больше ни о чем не спрашивал и сам ничего не говорил, а только о чем-то думал…
* * *
Через несколько дней Якимах был вызван в штаб, к командующему. В секретариате, под оглушительный треск ундервудов, ожидали приема еще двадцать девять молодых командиров. В кабинет они были впущены все вместе. Фрунзе стоял у стола со списком в руках. И сейчас же принялся обстоятельно «обговаривать» каждого. А потом вышел на середину кабинета и сказал:
– Товарищи! Подготовительные к академии курсы начнут действовать в январе. Вы – кандидаты. О дальнейшем ваши начальники узнают из приказа. До свиданья!..
И вот с января Якимах опять погрузился в учебу. Занятия на курсах велись по программам средней школы – русский язык, математика, география, экономика, история партии – всего двадцать пять дисциплин. По некоторым из этих предметов экзаменовались и поступающие в академию. В августе кончались занятия на курсах; в ноябре – Москва. Фрунзе часто бывал на курсах. За ним ехали карты и учебники. Якимах раскрыл самый толстый из учебников и заглянул в середку. От того, что он там увидел, сердце его замерло, и в глазах замреяло. Ни разу еще в жизни не упирался он носом в этакую прорву непроницаемой учености. Якимах прочитал страницу, другую… Но не уразумел ровно ничего. Холодное отчаяние овладело его душой. На обложке мудреной книги стояло: «Л. Азанчеев, профессор Академии Генерального штаба. Тактика. М., 1922».
* * *
– Самое для нас, командиров Красной Армии, опасное – рутинерство, схематизм и шаблонность приемов. Вместе с тем любой из приемов может оказаться полезным в известной обстановке. В чем же дело? В том, чтобы умело выбрать из множества возможных средств именно то, которое наиболее полезно в данной обстановке. А такое уменье, товарищи, дается лишь марксистским методом анализа. Вот одна из важнейших причин, по которым марксистский метод должен быть руководящим в советской военной науке…
Так говорил Фрунзе, открывая в день пятой годовщины Красной Армии совершенно новое для Харькова учреждение. Этим учреждением был Дом Красной Армии. Трудности, преодоленные для его открытия, были колоссальны. У Дома не было ничего своего. Даже овощи для его столовой жертвовались из воинских частей. И все-таки он открылся. Широкая афиша у входа анонсировала очередную лекцию: «Д. М. Карбышев. Условия военной борьбы и их влияние на формы фортификации».
* * *
Юханцев и Надя Наркевич сидели у стены. Надя слушала с величайшим вниманием, вытянувшись как бы для того, чтобы лучше видеть слова, вылетавшие из лектора, и чуть-чуть приоткрыв при этом рот.
– Позиционный характер мировой войны, – говорил Карбышев, быстро ходя взад и вперед возле кафедры и бросая слова в зал короткими очередями, – дал широкое развитие полевым постройкам. Я имею в виду роль плацдармов как при обороне, так и при наступлении…
«А ведь он картавит!» – вдруг заметила Надя и обрадовалась: ей всегда казалось, будто картавинкой приятно мягчится сухая человеческая речь.
– Знаете, сколько на Западном фронте тратилось бетона для оборудования одного километра укрепленной полосы? До трех тысяч кубических метров, да! Немцы успели развезти по фронтам шесть тысяч поездов с цементом. В пятнадцатом году на плацдарме в Шампани французы отрыли больше тысячи километров траншей. А у нас, на русском фронте? Чтобы устроить проволочное заграждение в две полосы на один километр, требуется около трех тысяч пудов проволоки. Но ведь линейное протяжение нашего европейского фронта в шестнадцатом году равнялось полутора тысячам километров. От финских хладных вод до Черного моря – сплошная позиция. Ну-ка, подсчитаем… Выходит, что на русский фронт должно прийтись четыре с половиной миллиона пудов проволоки. А вторая, а третья линии? А тыловые рубежи? Тя-жко, товарищи, тяжко!..
Громадные цифры, как грохот лавины, падали на Надю. Услышав цифру, она раскрывала рот и хваталась бледной, тонкой рукой за подлокотник кресла. Можно было подумать, что она ищет спасения или, по крайней мере, защиты. Но при этом ее пальцы обязательно натыкались на горячую, жесткую руку Юханцева, и тогда она отдергивала их. А тут падала новая страшная цифра…
– Французы вынули в твердой меловой породе два миллиона кубических метров грунта…
Личико Нади бледнело. Чистая линия профиля искажалась выражением страдания, особенно явственным у глаз и рта. С Юханцевым творилось странное. Он с большим интересом ждал карбышевской лекции и был уверен, что выслушает ее всю, с первого слова до последнего, как самый прилежный ученик. Получилось другое. Он следил за ходом лекции, но не сознанием, а радостным чувством восхищения, которое вызывали в нем перемены, то и дело происходившие в выражении надиного лица. Стоило Наде ужаснуться чему-то, как он тотчас улавливал в речи Карбышева именно то, чему она ужаснулась. А не то бы и мимо проскочило. Надя шепнула: «Слушайте, слушайте». Это – об электризации почвы как о способе создавать непреодолимые препятствия штурму. А потом – опять пустота. Так и получилось, что из всей интереснейшей лекции Юханцеву удалось почерпнуть лишь очень немногое, – вот напасть! А Карбышев уже подбирался к концу.
– Словом, техника – на такой высоте, что хоть спать ложись, – говорил он, быстро выходя на передний край эстрады, картавя все заметнее и все торопливее бросая в зал сгустки своих мыслей, – но где же, товарищи, спрятана техника на загадочной этой картинке? Не «сумлевайтесь». Она никуда не пропала. Она – здесь. Вот она. Войска ни за что не примут плана обороны, если он продиктован позицией, а не тактической обстановкой. А это значит, что основной вопрос укрепления позиции заключается отнюдь не в технике – что строить? – а в тактике – где строить? Под иную позицию с точки зрения технической грамотности не подкопаешься; но в тактическом смысле она слаба – открыт тыл, фланги; и тогда ей грош цена. Бывает, что технически позиция безупречна, да оперативно не вышла, – расположена ошибочно, направлена неверно; и тогда ей все-таки грош цена. Но если позиция тактически и оперативно правильна, то никакие технические дефекты не помешают ей сослужить свою службу. Невероятно, но – факт!
Казалось, что маленькая, стройная фигура лектора уже не стоит на краю эстрады, а плывет в зал вместе с бурным потоком горячих, одушевленных убеждением ясных слов.
– Да, да… Глубокие тыловые позиции под Киевом были решены грамотно, но не пригодились из-за оперативной ненужности. А боевая позиция Каховки, созданная под огнем, в пылу боя, оперативный смысл которого был понятен каждому бойцу, сыграла полезнейшую роль, несмотря на все свои технические несовершенства.
И вдруг, словно взбросив себя легким подскоком, Карбышев очутился на кафедре и, уже складывая в трубку разметавшиеся по кафедре бумаги, договаривал самое главное:
– Армия – школа. Она должна обучать бойца борьбе за укрепленные позиции. Здесь усвоит он навык сознательно пользоваться фортификационными формами. Сделаем фортификацию близкой и знакомой армии. Тактические решения принимает пехота. Но из этого вовсе не следует, что саперы могут не знать тактики. Так и для пехоты пришло время… «осапериться!»
В зале бушевали хлопки. Одни хлопали, думая, что новые и смелые мысли лектора чем-то похожи на их собственные туманные размышления. Другим нравились лекторские приемы Карбышева – запоминающаяся меткость и доходчивая острота суждений. Сомневаться в успехе лекции было невозможно…
Из Дома Красной Армии Карбышев, Юханцев и Надя вышли вместе.
– Не знал, – сказал Юханцев, – что ты мастер такой…
Дмитрий Михайлович, как и всегда в подобных случаях, поправил:
– Подмастерье.
Надя горячо запротестовала, розовая от возмущения:
– Как можно так говорить? У вас это и умно получается, и понятно очень, и красиво… Даже – красиво. Замечательно!
Надя жила на Старо-Московской улице, у сквера, от которого начинается Скобелевская площадь. Доведя ее до дома, Карбышев и Юханцев еще долго бродили по площади вдвоем.
– Подмастерье, – упрямо повторял Карбышев, – только подмастерье… А какие у тебя, комиссар, есть указания насчет того, что с нами, подмастерьями, делать?
У него была манера внезапно спрашивать о неожиданном – огорашивать вопросами. Происходило это и от скорости, с которой обычно разворачивалась его мысль, и от того еще, что свое участие в разговорах с людьми он подчинял не столько общему течению всегда более или менее медленной беседы, сколько этой именно быстроте в развитии своего собственного разумения. Но Юханцев давно привык к особенностям Карбышева и застать себя врасплох не позволял.
– Конечно, есть указания, – спокойно сказал он, – ленинские: перековать, перевоспитать, превратить в советских специалистов – в верных помощников партии, в слуг народа.
Карбышев кивнул головой.
– Так-с. Ну, и как же ты будешь меня перековывать?
– Да я считаю, что уже на половину перековал. Только ты не заметил.
– Ловко!
– Будь спокоен!
– И что я теперь должен делать?
– Готовься: когда-нибудь настоящим большевиком станешь.
– Хм!
Несколько минут Карбышев шагал молча.
– Значит, хребты ломать, – задумчиво проговорил он, – да?
– И это – тоже. Только не в одиночку, а об руку с партией. Азанчееву, например, или Лабунскому…
– Азанчеев – профессор.
– Все под одним Цека ходим, – засмеялся Юханцев, вспомнив верное слово Романюты, – это мне трудно Азанчеевых на свежую воду выводить, потому что ни в каких академиях не бывал. Только и гляжу: эка диковина – рыба сиговина. А тебе – плевое дело. Где подперто, там и не валится. Еще попомни: быть тебе самому в профессорах.
Они колесили и колесили по площади. Мало-помалу разговор сместился. Юханцев опустил голову. Глаза его упирались в землю, под ноги. Он боялся взглянуть на Карбышева и радовался темноте февральской ночи.
– Прямо скажу: двух третей не слыхал. То есть, и голос твой, и слова твои слышу, а чтобы понять, о чем, – нет меня. Вот какое дело!
– И все – Надежда Александровна?
– Она…
– И давно это так?
– С первого глазу. Как увидел в семнадцатом, так и… Четыре годика!
– А в Питере?
– Слыхал от Глеба: «сестра, сестра», но видать не случалось. На фронте она была… сестрицей.
Слово «сестрица» Юханцев произнес с такой обжигающей нежностью, что Карбышев вздрогнул.
– С семнадцатого и я все знаю, – засмеялся он. Юханцев тоже вздрогнул.
– От кого?
– От тебя.
– Да разве я когда…
– И не надо. Коли человек влюблен, так его с затылка видно. Дело нетрудное. Еще в Рукшине разглядел.
– Ишь ты какой!
– При чем я?
– Ни при чем, – смиренно согласился Юханцев, – я тебе голую правду скажу, до чего дошло. Услыхал я недавно, будто на Путиловском в Питере новые бронепоезда строить начали, и затосковал по заводу, страсть. Ну что я, в сам-деле, за военный взялся? Я рабочий, а не военный. И место мое там. Так нет же… Сколько раз собирался и рапорт строчить, и с Михаилом Васильевичем, – никуда. Не могу без нее…
Словно бы весь мир полон ею. А ее нигде нет. Как повстречал здесь у вас, так и пропал с головой, сгинул…
– Да ты не отчаивайся!
– А что мне теперь осталось? И прежде, конечно, бывало: за сердце брало, туда-сюда вертело, крученый я человек. Что греха таить, – жат, пережат. Но чтоб этак… Ровно младенчик, ей-ей! Что же мне теперь?
– Увидим, – загадочно сказал Карбышев, – главное, не томись! Живи, чтобы уцелеть!
* * *
Тактические занятия с применением проволочных заграждений происходили под городом, в дачном месте Померках. Выезжали на занятия рано утром. Возвращались в полдень. Подъезжая к городу, Карбышев сказал Юханцеву:
– Сегодня вечером лекция, комиссар.
– Какая? Ничего нынче нет.
– Нет есть, – моя лекция. Я тебе буду читать теорию того, что мы сейчас на практике в Померках видели.
– Это… зачем же?
– Надо. Помнишь, как ты у Котовского с лошади репу копал? Так оно и во всем получается, если комиссар не знает того, что положено знать командиру. Неизвестно, когда на Путиловский вернешься. А пока ты – комиссар инженерных войск. Фортификация неумелых ездоков сбрасывает с себя не хуже норовистой лошади. Я тебе об этом еще в Умани говорил, и ты соглашался…
– Я и теперь не против, – взволнованно сказал Юханцев, – ничего не скажешь…
– Вот и отлично. Утром – практика, вечером – теория. Да еще и кон на кон.
– То есть?
– Я тебе – инженерное дело, ты мне – марксизм-ленинизм, – двойная подковка. А потом и сойдется. Хорошо?
Действительно, так оно и пошло. И даже месяца через два, совсем уже близко к лету, когда практические занятия велись по взрыву рельсовых путей, Карбышев все еще не пропускал ни одного «академического часа». Вечерние лекции комиссару окончательно вошли в обычай, внедрились в рабочий обиход. Но иногда Юханцеву приходилось туго. Он просил:
– Дмитрий Михайлович, уволь!
– Не могу!.. – решительно отказывал Карбышев, – некогда!
– Что за спешка? Чай, не капуста, – все равно, не вычерпаешь до пуста…
– Говорю: некогда. Да знаешь ли, комиссар, что бы я с тобой сделал, будь моя власть?
Юханцев устало махал рукой, удивляясь веселой неутомимости Карбышева.
– И знать не хочу…
– Тебе видней… Жаль, власть не моя!
Дня через два после этого странного разговора Юханцеву пришлось быть у Фрунзе. Покончив с очередными делами, Фрунзе спросил:
– Учитесь?
– Так точно.
– Очень хорошо.
– Надо бы лучше, да…
– Трудно? Ничего, ничего, товарищ Юханцев, – налегайте. Скоро понадобится.
Комиссар вспомнил непонятную торопливость Карбышева. И Фрунзе – тоже: «скоро». Что такое?
– А почему – скоро, товарищ командующий?
– Как почему? Разве Карбышев вам не говорил?
– Н-нет…
Фрунзе засмеялся.
– Значит, сюрприз затеял. Да ведь он вас не просто в таинства науки посвящает, а готовит на курсы при Инженерной академии. Хотим мы из вас военного инженера сделать. Плохо?
Юханцев стоял бледный, стараясь кое-как собрать разбегавшиеся мысли и положительно не зная, что сказать.
* * *
Пришло лето – время учений и разъездов по частям.
– Чему учить?
Фрунзе отвечал:
– Прежде всего уставу, ибо в нем отражен бой.
На ученьях командующий добивался не только уменья владеть оружием, но и взаимодействия между родами войск. Он хотел, чтобы стрелки научились производить перемену огневого рубежа не иначе, как в полной согласованности с действиями своей артиллерии. Войска Украины переживали время нововведений. Формировались егерские бригады, подвижные группы. Боевой опыт 1914-1922 годов привел к пониманию будущей войны как войны маневренной. Возникала мысль о необходимости создания таких войск, которые обладали бы не только очень большой подвижностью, но еще и громадной ударной силой, то есть мотомехчастей. Особенно много внимания уделял Фрунзе огневым ротам. Так назывались учебные части, готовившиеся к групповому бою, который должен был прийти на смену прежнему бою, волнами. Карбышев очень интересовался огневыми ученьями, так как, судя по опыту французского фронта мировой войны, был убежден в грядущем торжестве группового боя. Мишенную сторону огневых учений он брал на себя и устраивал ее всегда мастерски. Так как ученья эти очень интересовали также и Фрунзе, Карбышев часто сопровождал командующего.
Полк, которым командовал теперь Романюта, стоял в лагерях под Чугуевом, на унылом и пустом месте. Извилистая ленточка Северного Донца тянулась между песками, а столетние сосны гляделись в реку. В полку была опытная огневая рота. Ученье заключалось в том, что рота наступала, ведя самый точный огонь. Питание огнеприпасами было одним из существеннейших вопросов, которые практически решались в этом примерном бою. Прочее относилось к тактической стороне…
Всякий нормально мыслящий и чувствующий человек – конечно, оптимист. И Романюта был оптимистом. Представляя свой полк Фрунзе, он испытывал глубокую радость уверенности в себе и в своем деле. Он знал, сколько труда положено им в это дело, и не мог сомневаться в результатах. Его темноватое, насквозь прокуренное лицо было неподвижно. Но радость бурно вскипала изнутри.
Ученье кончилось. Подсчитали попадания я промахи, вывели проценты. Фрунзе был доволен. Сосны качали высокими вершинами и пятна солнечного света, играя, бежали по песку. Из лесу выскакали кухни с поварами в белых халатах и колпаках. Командующий подозвал Романюту и тихо спросил:
– Вы меня не обманываете?
Романюту качнуло. Кровь бросилась ему в лицо и отхлынула. Он стоял, как убитый, которого прислонили к стене. Губы его тряслись.
– Спросите любого бойца, товарищ командующий!
– Спрошу.
Когда красноармейцы потянулись с котелками к кухням, Фрунзе прошел по очередям.
– Всегда вас так кормят, товарищи?
– Всегда, товарищ командующий!
– А не врете?
– Ни-ни!
Фрунзе был доволен, очень доволен. По дороге в лагерь он несколько раз хватался за охотничье ружье. Выстрел за выстрелом, и все – без промаха. Маленький адъютант подмигивал Карбышеву: «Доволен…» Романюта ехал почти рядом, на большом белом коне.
– Ваша лошадь? – спросил Фрунзе.
– Никак нет, товарищ командующий.
– Своей нет?
– Никак нет.
– Приезжайте завтра в Харьков за подарком от меня. Сергей Аркадьевич! Прикажите передать командиру полка «Воина». Хороший, добрый конь!
* * *
Фрунзе еще раз перечитал письмо Котовского. Комкор второго кавалерийского писал: «Все мое внимание, всю энергию, все силы отдаю на то, чтобы создать образцовую боевую единицу, и каждый свой шаг… строжайшим образом согласовываю с железной логикой необходимости…» Фрунзе очень хорошо знал, что имеет в виду Котовский под «железной логикой необходимости». Устраивая свой корпус, «Кото» разрывался на части: то добывал седла, конское снаряжение, фураж и учебные пособия; то ремонтировал: в Бердичеве, на Лысой Горе, старые казармы; то проводил узкоколейку; то вычерчивал планы конюшен, или придумывал новую систему вентиляции, или проверял прочность гимнастических приборов. Но и это далеко не все. Пущенный Котовеким прошлой осенью сахарный завод в Перегоновке, под Уманью, в первый же сезон снизил себестоимость сахара, и об этом было сказано Дзержинским на совещании сахарников в ВСНХ. Мясные лавки военно-потребительской кооперации второго кавкорпуса славились на Киевщине, – цены в них были гораздо ниже, чем у нэпачей. Когда Котовский зимой приезжал в Харьков, он был у Фрунзе и, бегая с крепко сжатыми кулачищами по кабинету, шумел: «Раньше били кулацких бандитов, а теперь нэпачей жмем!» Основания для восторга имелись…
Вчера Фрунзе утвердил проект Котовского об организации Цувоенпромхоза, который должен был из разрушенных помещичьих имений создавать на Украине крупные военные хозяйства. Утверждая проект, Фрунзе вспомнил свои собственные планы. Это не Цувоенпромхоз, превращающийся в живую реальность, стоит лишь Фрунзе поставить свою подпись на листе бумаги. Нет, эти планы так громадны, что, может быть, долго еще останутся мечтами. Сосредоточить в Иванове льняное производство… А текстильный центр перенести в Туркестан, на родину хлопка… И сделать, таким образом, перевозки хлопка ненужными… Много таких планов родилось в голове Фрунзе с тех пор, как он не только полководец, а и государственный деятель!
Фрунзе – новый, совершенно новый тип военного руководителя. И возможность появления этого типа – прямой результат величайшего из общественных переворотов, когда-либо потрясавших мир. На остром языке Карбышева есть для революции сильное слово: «капитальнейший ремонт».
* * *
Стратегия в узко-военном смысле есть как бы часть стратегии политической. И потому государственная пропаганда коммунизма в Красной Армии – прямое и повседневное дело всякого политработника. Отсюда – высокая сознательность войск, их дисциплинированность, самоотверженность, стойкость, активность, инициативность, массовый героизм. Все это Красная Армия приложила к своему способу ведения гражданской войны и добилась победы. Эти же самые моральные качества заявят о себе и в будущей войне, но только в неизмеримо большей степени. Будущая война и похожа и не похожа на гражданскую. И на мировую – тоже: похожа и не похожа. Как и гражданская, она будет революционно-классовой войной. Как и мировая, – войной на большой технике. Это будет война длительная, небывалого размаха. Не раз случалось Фрунзе слышать от товарищей Ленина и Сталина о решающей роли прочного тыла в будущей войне. А что такое тыл? Вся страна, все ее народное хозяйство, организованное в интересах войны. Вот почему так нужна тщательная и всесторонняя подготовка к войне не одной лишь армии, но и народа, всего государства…