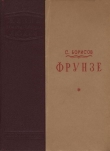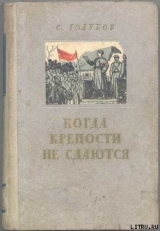
Текст книги "Когда крепости не сдаются"
Автор книги: Сергей Голубов
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 62 страниц)
– Золотые слова, – ласково усмехнулся Фрунзе, – а в том, что приоритет перед техникой за духом армии и народа, – в этом вы правы, конечно.
Он обернулся к Юханцеву.
– Опираемся на моральный дух войск. Твердо знаем, что обеспечивается он отличной постановкой политической работы. В этом, как и во всем, идем за учителем, полагающим начало нашей школе военного искусства. Вот вам мой совет, товарищ комиссар. Во-первых, будьте самоотверженны и стойки; во-вторых, храните живую, жизненную связь с красноармейской массой; в-третьих, старайтесь так руководить этой массой, чтобы она видела правильность вашего руководства на практике, на деле. А уж все остальное сделают советский строй и классовое единство ваше и ваших солдат…
Карбышев встал. Ему показалось, что при новом повороте разговора он становится лишним. Может быть, и Фрунзе думал так же, потому что не задержал.. его. «Разрешите идти, товарищ командующий?» – «Пожалуйста. До свиданья…» Но как только Карбышев вышел, Фрунзе заговорил именно о нем.
– Человек с будущим.
– Похоже, – согласился Юханиев.
– На таких лепят ярлык: «крупная фигура». В глаза бьет. Я спорил с ним и невольно сравнивал его о Лабунским. Все-таки между военным инженером и саперным офицером большая разница. Примерно как между офицером генштаба и строевым. Разница не только в круге знаний, но еще и в горизонте понимания боевых требований, военных событий, – в том, собственно, что дается лишь высшим военным образованием…
Юханцев молчал, но не потому, что сказать было нечего. Случалось и ему иной раз уплачивать словесную дань необходимости. Зато в конкретных обстоятельствах он действовал, как дровосек в чаще дремучего леса. И сегодня он с нетерпением ждал удобной минуты, чтобы сделать главное. Пришло-таки время, когда надо было прямо обрушиться на Лабунского, – выложить все и освободить от него УНИ, штаб округа, и самого Фрунзе. Было много причин и поводов для того, чтобы сделать что именно сегодня. Да и казалось Юхаицеву, будто Фрунзе подбивает его на прямоту.
– Не выношу вранья, – говорил Фрунзе, – недавно спрашиваю Лабунского: «Сколько у вас кабеля?» Отвечает без запинки: «Двадцать три тысячи верст». Утром – служебная записка: «По уточненным данным оказалось пятнадцать тысяч верст». Я долго относился к его справкам серьезно, а потом понял, что все они – вранье. Однако… я же, черт возьми, не в бирюльки играю!
– Лабунский – шарлатан, – с убеждением сказал Юханцев, – политический проходимец и шарлатан. Перед отъездом в Севастополь делал доклад о маскировке. От хлопков чуть потолок не упал. Я был, слушал. Доклад и впрямь замечательный. Тут и способы окрашивания предметов, и обманные цели, и звукомаскировка, и дымовые завесы… «Что же, думаю, за фокус?» Ведь это самому, как его?.. «Отец»-то русской маскировки…
– Величко.
– Вот-вот. Самому Величке впору. А Лабунскому – откуда? Кругом хлопают, благодарят. «Фокус, – думаю, – не я буду, если не разоблачу». Ну, и поусердствовал, разъяснил-таки…
– Что же оказалось? – с любопытством спросил Фрунзе.
– Оказалось, Михаил Васильевич, что еще за три недели до доклада приспособил к себе Лабунский секретным образом специалиста-маскировщика Для натаски. Тот и взялся. Да ведь как! Лабунский доклад произносит в одной комнате, а маскировщик слушает в другой и…
Фрунзе откинулся на спинку своего кресла и залился по-детски веселым, почти счастливым смехом.
– Что же смешного? – угрюмо пробормотал Юханцев. – Врет на каждом шагу, шарлатанит…
Фрунзе смеялся все веселее, отирая платком покрасневшее довольное лицо.
– Да ведь он талантливый шарлатан, – поймите!
Юханцев понял, но качнул головой осуждающе.
– Врет…
– Однако и слово держит.
– Как сказать! Я вот руку готов в огонь, – Юханцев вынул из кармана перебитую под Юшунем левую руку, – что… хотя, конечно, нет у меня…
– Рука ваша уже была в огне, – серьезно проговорил Фрунзе, – хватит. Говорите-ка лучше, что же у вас есть.
Теперь Юханцеву предстояло выложить главный козырь. Но был ли он действительно козырем, а не пустой доглядкой практически ровно ничем не подтвержденного внутреннего убеждения?
– Словом: с тех самых пор, как Дрейлинг по вине моей сквозь землю ушел, всячески я вникаю в Лабунского. И могу, наконец, твердо вам доложить, что один он у нас только и знает, куда пропал Дрейлинг.
– Нападений на лесорубов больше нет? – живо спросил Фрунзе.
– Не было…
– Однако, извините меня, товарищ Юханцев… Конечно, надо быть начеку. И я начеку. Но догадки ваши, повидимому, относятся к области психологической чепухи. Ведь прямых доказательств никаких?
– Никаких.
– Значит, хотя и не абсолютная, но все-таки… чепуха!
– Слушаю, товарищ командующий!
Юханцев замолчал. И Фрунзе тоже молчал, глядя в потолок и обхватив коленку пальцами крепко сцепленных рук. Так прошло несколько минут. Юханцев удивился, когда посмотрел на командующего. Что с ним случилось за эти минуты? Фрунзе был бледен той сероватой бледностью не вполне здоровых людей, которая с особенной резкостью бросается иногда в глаза. И во всей его крепкой и бодрой фигуре чувствовались усталость и еще что-то – совсем больное…
– Лабунский просился на Высшие академические курсы в Москву, – сказал Фрунзе, – ему хотелось доучиться. Однако он не поедет на эти курсы.
– Почему? – спросил Юханцев.
– Отчасти потому, что вы мне о нем говорили. А отчасти, – и это главное, – совсем по другой причине. Лабунский – прошлое. А на ВАК[49]49
Высшие академические курсы в Москве.
[Закрыть] надо быть людям будущего. Вообще надо больше думать о будущем…
Фрунзе оживился, встал и подошел к окну.
– Сидим мы с вами, Юханцев, здесь. Армию еле кормим, наготу ее чуть прикрываем. Повозок у нас нет, дров нет. Бандиты на нас лезут. Ну как же не мечтать о таком времени, когда все будет, чего сейчас нет? И вспомним мы тогда о том, как сидели сегодня, взглянем друг на друга и засмеемся. Ведь будет же это, товарищ Юханцев!
* * *
Лабунский вернулся из Севастополя в живом и веселом настроении. Промкомбинат «Стекло и гвозди» развертывал деятельность и начинал приносить дивиденды. Впереди открывалась заманчивая перспектива длительной командировки в Москву для прохождения ВАК. Все устраивалось на редкость ладно. Некоторую оторопелость Лабунский почувствовал, являясь к Фрунзе. Командующий почему-то был холоден, невнимателен и как бы несколько сторонился. Но могло всего этого и не быть на деле, а лишь почудиться Лабунскому. Принимая его, Фрунзе был чрезвычайно занят. Однако первое ощущение неблагополучия подтвердилось и в УНИ. В коридоре на стене висела большая стенгазета. Лабунский сразу приметил бойкую руку художника. Карикатуры для стенгазет всегда очень остроумно и с известным техническим совершенством изготовлял Карбышев. И этот рисунок тоже, конечно, вышел из его рук. Рисунок изображал три спины, выписанные так выразительно, что узнать, кому именно каждая из них принадлежала, не представляло ни малейшей трудности. Внизу – подпись: «Дети, в школу собирайтесь!» Карикатура посвящалась отъезжавшим из Харькова на ВАК работникам УНИ. На карикатуре было трое отъезжающих. А где же четвертый? Где Лабунский?..
К вечеру Лабунский знал все. Его кандидатура на ВАК не прошла. А как он хотел этой поездки, как ее добивался, как был уверен в удаче, как часто говорил своей новой жене: «Собирайся!» И она вешала мокрое полотенце сушить над плитой, постепенно отвыкая от скверной привычки. Выйдя вечером из УНИ, Лабунский медленно шагал по улицам города, далеко обходя свою квартиру и постепенно выдвигаясь к тому месту, где уже светился огнями и гремел музыкой ресторанчик «Не рыдай». Когда он вошел в зал, настоящие безобразия еще не начались, но дым уже волнами перекатывался через столики, кулаки мелькали над головами, глотки ревели, посуда прыгала, звякала, женщины визжали, и дождь разноцветных конфетти сыпался на пирующих. Ловко брошенная кем-то серпантинная ленточка повисла на ухе Лабунского: сигнал. Он огляделся, но не увидел ничего примечательного. За ресторанчиком был заплеванный, лысый сад с ютившимися в кустах акации парами. Странные вздохи и многозначительно-сладкие слова раздавались то в одном углу этого убежища, то в другом…
Как только Лабунский очутился здесь, к нему быстро подошла высокая, худая женщина в шляпе с цветами и лорнеткой у больших, близоруких глаз.
– Кажется, я не ошиблась? Да? Аркадий Васильевич?
– Не ошиблись, – сказал Лабунский, – что нового?
– Много.
– Например?
– О чем вы хотели бы услышать?
– Не прикидывайтесь дурой.
– Фу… Как не хорошо!
– Я вас спрашиваю: что нового?
– Мы никуда не пойдем отсюда?
– Нет.
– Тогда…
– Ну?
– Оскар Адольфович уехал.
– Что? Дрейлинг уехал? Куда? В Москву?
– В Германию.
– Брешешь?
Женщина пожала худыми плечами.
– Читай. Вот его записка.
Лабунский схватил листок. «Проиграть возможно каждую минуту, выиграть – нельзя. Что за смысл в такой игре?..»
– А тот, другой? – хрипло спросил Лабунский.
– «Пруссак»?
– Да. Он тоже уехал?
– Оба. Собственно, «пруссак»-то и увез Дрейлинга. У него в Германии близкая родня.
Женщина взбросила лорнетку к глазам, оглядела Лабунского с головы до желтых краг и вдруг так дернула за козырек его фуражки, что закрыла тульей все лицо.
– Эх ты, дурень! – сказала она – Туда же!..
Когда Лабунский высвободил глаза, женщины около него уже не было. Он стоял посреди сада один, широко расставив ноги, и чувствовал себя совершенным дураком. Человек головокружительный, вечно идущий на штурм и пролом, он мысленно оглядывался, выбирая направление атаки и нахрапа. Но штурмовать было нечего и ломиться некуда… Удушливая злость наполняла грудь, вползала в мозг. Лабунский вышел из сада и двинулся, не замечая дороги, куда глаза глядят…
Луна поднялась красная и тяжелая. Мутные пятна света разливались по пыльным улицам. Скверная ночь! Заголубело небо. Туман густел и клубился. Город делался призрачным. Сквозь серую пустоту раннего утра в тихую до того улицу с преувеличенным грохотом ворвались две серые машины. Всхрапывая, они запрыгали на колдобинах мостовой, догоняя одна другую, задрыгали задними половинами разбитых туловищ, дохнули нафтализоловой вонью и скрылись. «Больничные», – догадался Лабунский. Он уже подходил к дому. Сверху посыпался меленький холодноватый дождик. И Лабунский с отчаянием вспомнил про мокрое полотенце…
* * *
Инженерные части квартировали в конце Сумской, за ветеринарным институтом, там, где старый казарменный городок. А парады происходили на площади, против здания УЦИК. Как пройдут на Октябрьском параде саперы? Карбышев и Юханцев то и дело ездили за казармы, на инженерный плац. Там шла «подготовочка» – отбивался шаг, равнялись шеренги, подтягивались шинели и пояса.
– Хорошо! – одобрял Юханцев.
– Хуже быть не может! – говорил Карбышев. – Разве это называется «ходить»?
– Офицерский дух в тебе…
Карбышев слегка менялся в лице, как будто застигнутый врасплох на чем-то неладном. Но тут же спохватывался и сам переходил в наступление.
– Есть во мне офицерский дух, не спорю. Но служит он Красной Армии. И пора бы тебе, комиссар…
– Неужто пора? А я и не ведал. Коли пройдут саперы по-твоему, лишнюю рюмку ставлю!
Лабунский после Севастополя был нездоров: пил. Но перед самым парадом выяснилось, что командовать инженерными частями все-таки будет он. Юханцев сердился: «Орел… С зубами родился… Мы еще только собираемся по лишней рюмке, а он уже почем зря хлещет». Однако на параде Лабунский выглядел действительно орлом. Команды подавал оглушительно ревучим голосом и ел Фрунзе вытаращенными мутными глазами. Он не готовил войск к параду. А ставку между тем делал на парад. Именно здесь собирался он убедить Фрунзе в своей незаменимости. И пошатнувшееся положение свое именно здесь укрепить. План был разработан. Это был очень хитроумный и в то же время чрезвычайно простой в исполнении план. Для успеха требовалось только заранее кое в чем условиться с одним-двумя командирами из назначенных к выводу на парад специальных рот. Лабунский не сомневался в удаче. Юханцев ровно ничего не знал, но что-то предчувствовал. «Печень у него черная, подлец он. Конечно, и Михаил Васильевич его насквозь видит. Но за один лишь печеночный цвет гнать не хочет. Фактов, фактов мало… Эх!»
Когда Фрунзе шел по фронту телефонной роты, Лабунский просипел:
– Добился, товарищ командующий, от командиров рот, – знают сполна имя и фамилию каждого своего бойца… Да еще и семьи точный адрес… Прикажете проверить?
Фрунзе посмотрел на него с удивлением.
– Неужели? Очень хорошо!
Лабунский рявкнул:
– Товарищ комроты! Фамилия вот этого бойца?
– Иванов!
– А имя?
– Семен Григорьевич!
– Где семья его проживает?
– В Вышнем Волочке!
– Благодарю, товарищ комроты!
– Рад стараться, товарищ…
Фрунзе стоял бледный. Глаза его не искрились и не сияли, как обычно, бодрым светом благожелательности, – они сверкали темным гневом.
– Аркадий Васильевич, командир роты вас обманул!
– Почему, товарищ командующий?
– Я знаю этого красноармейца. Он не Иванов…
Обойдя инженерные части, Фрунзе вернулся к телефонной роте и, войдя в строй, остановился перед румяным, круглолицым бойцом. В голове бойца ураганом крутились мысли. Главную из них он обращал к Лабунскому: «Вдругорядь не хвастай, коноплястый! Счастье не батрак – за. вихор не притянешь!»
– Как вас зовут? – спросил Фрунзе. – Я забыл.
– Якимах, товарищ командующий!
– А имя?
– Петр Филиппович! Я из…
– Знаю. Вы из села Строгановки.
– Так точно, товарищ командующий! – радостно крикнул Якимах, – из Строгановки, Таврической губернии…
– Отец жив?
– Живой. Мама померла.
– Когда?
– В сентябре год будет.
– Жаль!
Якимах молчал, грустный. Но радость превозмогала.
– Теперь вы видите, что командир роты вас обманул? – обратился Фрунзе к Лабунскому.
– Вижу.
– Что же это такое?
Лабунский смотрел прямо в лицо своему крушению. Спасти его могла только наглость. И он попробовал.
– Командир телефонной роты Елочкин откомандирован в окружную школу. Его замещает новый человек…
– Елочкин… Я знаю и Елочкина. Да, он не пошел бы на такой… обман, А этот…
Фрунзе взглянул на командира роты. Тот стоял с убитым видом и опущенной головой.
– Этот…
– Разрешите, товарищ командующий, объявить командиру роты благодарность в приказе? – неожиданно сказал Лабунский.
– За что?
– За находчивость! Мол-лодец!!!
– Не сметь! – крикнул Фрунзе, отвернулся и пошел от роты.
Вот теперь уже все пропало. Лабунский хорошо знал: Фрунзе мог извинить любую ошибку, но обмана не прощал никогда. Много раз приходилось наблюдать Лабунскому, как Фрунзе старался победить в себе неприязненное чувство к обманщику, замять память об обмане, затушевать след лжи; но простить он не мог. И в конце концов это становилось ясно как самому Фрунзе, так и обманщику, и даже посторонним наблюдателям, – настолько ясно, что для виновного оставался лишь один выход – уйти. Вероятно, и для Лабунского теперь не было иного пути.
Однако незадачи смотрового дня на этом не кончились…
Бледный солнечный свет все скупее и скупее проливался сквозь матовое небо. На снегу кое-где густовато ложились отблески ртутного цвета. Через площадь тянулись парки и обозы. Фрунзе обратил внимание на ездового в удивительно грязной шинели, не только без хлястика на спине, но даже и без пуговиц, на которых должен был бы держаться хлястик. Капот, а не шинель…
Фрунзе остановил повозку.
– Здравствуйте!
– Здравствуйте! – отвечал ездовой.
– Вы меня знаете?
– Говорили нам…
– Значит, знаете, что я командующий?
– Знаю.
– А почему же вы в таком виде? Ведь если у вас дома оторвется от полушубка пуговица, вы ее пришьете?
– Жена, мать пришьет.
– А здесь, на службе, почему не так?
– Да здесь-то зачем? Сносил шинель – другую дадут!
– Вон оно что!
– Дур-рак! – в ярости прохрипел Лабунский.
– Молчать! – крикнул Фрунзе.
* * *
Осенью в Харькове происходил съезд высшего комсостава военно-учебных заведений Украины и Крыма. В день закрытия съезда Фрунзе сказал Карбышеву:
– Завтра в десять собирается постоянное совещание при мне. Не забудьте.
В состав постоянного совещания при командующем входили начальник штаба войск Украины, начальник воздушного флота, инспектора артиллерии, кавалерии и пехоты, начальник инженеров. Не ошибся ли Фрунзе?
– Я не член совещания, товарищ командующий, – сказал Карбышев.
– Вы еще не знаете? Лабунского я отпустил на четыре стороны. И подписал приказ о вашем назначении…
Глава двадцать шестая
Живя в Харькове, Фрунзе бывал чрезвычайно занят. Штаб, Совнарком, постоянное совещание при командующем, редакционный совет, общество ревнителей военных знаний, военно-научные кружки, съезды командного и комиссарского состава, смотры и парады – все это сплеталось в густой хоровод сплошной занятости, в то, что называется – «ни отдыха, ни срока». И только во время изредка предпринимавшихся Фрунзе объездов округа доводилось ему несколько передохнуть между делом. В таких поездках командующего всегда сопровождали начальники и комиссары управлений. Поздней осенью двадцать второго года и Карбышев с Юханцевым оказались в числе сопровождавших. Незадолго до того Фрунзе подписал приказ о назначении Котовского комкором второго кавалерийского. Корпус состоял из двух дивизий – девятой Крымской и третьей Бессарабской. Части корпуса размещались в Бердичеве, Гайсине, Тульчине; штаб – в Умани, О втором кавкорпусе и о его командире рассказывали чудеса. Фрунзе хотел видеть эти чудеса своими глазами. Ехали на Полтаву, Лубны, по разваливающемуся днепровскому мосту на Черкассы и через Христиновку на Умань. Гвоздем путешествия считалась Умань…
Было почти светло, но вагон еще спал, – так по крайней мере показалось Юханцеву, когда он открыл глаза. За окном струились потоки бледной утренней мути, с которой обычно начинаются поздние ноябрьские дни. Вагон подпрыгивал и трясся. Юханцев встал, расправил пятерней спутавшиеся волосы и, распахнув дверь купе, вышел в коридор. Э, нет, он проснулся не первый… Посредине коридора, без гимнастерки, с полотенцем на плечах, стоял Карбышев, широко расставив на живом, как корабельная палуба, полу свои тонкие, мускулистые ноги в черных галифе. В первую минуту Юханцев разглядел лишь напряженную позу Карбышева, – он видел его со спины, – и ужасно удивился. Но как только удивился, тут же все и понял. Карбышев необыкновенно ловко и быстро проходил длинной острой бритвой по своим густо намыленным щекам. Зеркала у него не было, он брился «наизусть».
– Да как же это ты?
Карбышев усмехнулся, роняя мыльную пену с лица на пол и притирая ее ногой.
– Не мешай. Еще на германской в окопах привык.
На станции Христиновка в вагоне появился Котовский и своими гигантскими объемами сразу заполнил узенький коридор. На широкой, как поле, груди его блестели три ордена Красного Знамени; четвертый сверкал на золотом эфесе шашки. После рапорта и представлений быстро выяснились всякие детали. Штаб второго кавкорпуса стоял за пятнадцать километров от станции, в лесу, близ кирпичного завода. Котовский и его начальник штаба привели за собой в Христиновку дюжину отборных коней. Свита Фрунзе состояла из одиннадцати человек.
– Точка в точку, – говорил Котовский, – доедем – не заметим, одно удовольствие…
Фрунзе подошел к окну и, улыбаясь, смотрел на красавцев-коней, короткошерстных, гладких, с аккуратно подстриженными гривами и хвостами, с горячими тонкими ногами, благородными горбатыми мордами. Фрунзе любил животных, особенно собак и лошадей. И хорошую лошадь предпочитал самой хорошей машине.
– Одно удовольствие, – говорил Котовский, оглядывая харьковских штабников просительно-ласковыми, черно-сладкими глазами, – а? Товарищи?
Фрунзе спросил:
– Все ездят верхом?
– Все, все…
Но выражение лиц у многих изменилось. Карбышев прикинул. Из двенадцати человек едва ли нашлось бы и пятеро настоящих ездоков. Он подумал о Юханцеве: «А этот?»
– Сейчас Котовский покажет прыть, – тихонько сказал он Юханцеву, – выйдет у тебя, комиссар?
– Выйдет, – неуверенно отвечал Юханцев.
– Смотри!
И он пристально оглядел комиссара, словно взвешивая и оценивая в его прочной фигуре что-то видимое только ему одному. Фрунзе вышел из вагона. Красноармейцы подводили лошадей. Командующий, Котовский и начальник штаба корпуса выехали вперед. Сзади потянулись остальные. Котовский оглянулся.
– Ну, товарищи, теперь держитесь!
Золотистый конь Фрунзе набирал ходу. Его рысь становилась все размашистее и шире, все вольнее, все сходнее с легким птичьим летом и попытки перейти на галоп все настойчивее и чаще. Кавалькада шла переменным аллюром. Промелькнул километр, два… Под Карбышевым была невысокая красивая лошадка, игрунья, а может быть, и злючка, – она уже несколько раз норовила так изогнуть на скаку свою шелковую шею, чтобы ухватить зубами носок его сапога. Но Карбышев был и впрямь недурным ездоком. Повод и шенкеля служили ему без отказа, и лошадь скоро перестала дурить. Вдруг голова кавалькады перешла на карьер. Ветер засвистел в ушах Карбышева, замелькали деревья по сторонам шоссе, и сзади, постепенно заглухая, раздались какие-то неясные восклицания. Карбышев оглянулся. Юханцев скакал, сильно отстав, пригнувшись к гриве своего коня и взмахивая локтями, как петух крыльями. Выпущенный из рук его повод на свободе вился по ветру. «Дрянь дело… дрянь!»
На въезде в лес, где стоял штакор, свиту Фрунзе составляли уже только пять человек. Остальные или медленно подтягивались пешком, ведя своих прытких коней в поводу, или просто шли, каждый сам по себе, а кони мирно паслись по сторонам дороги. Подошел и Юханцев, красный и сердитый.
– Ну как? Не ушибся?
– Главное дело, чтобы без смеху, – горячо сказал он. – смешного вовсе мало.
И он показал на разорванные под коленями штаны.
– Ничего смешного, – серьезно подтвердил Карбышев, – наоборот: надо важный вывод сделать.
– Какой?
– Видишь, что получается, когда комиссар не знает всего, что положено знать командиру? Не знает или не умеет, все равно…
– Как же, по-твоему, надо?
– Чтобы комиссар и коня знал, и оружье…
– Ну, насчет оружия…
– Допустим. А комиссар инженерных войск должен и саперное дело знать. Фортификация неумелых ездоков сбрасывает с себя не хуже твоего конька. Заметь!
Юханцев вздохнул.
– Ничего не скажешь…
Из леса тянуло влажной сыростью. Сосны стояли сонные, неподвижные. Изредка по их жестким веткам пробегал легкий таинственный шепот, – пробегал и сейчас же замирал где-то наверху. Тогда на светлом, почти белом небе начинали качаться обрывки гигантского черного кружева. Это сосны кивали головами. Но внутри леса ветра не было совершенно. И в отовсюду нависавшей тишине странно звучал жалобный писк невидимо гнувшихся высоких и тонких стволов.
Кавполк вытягивался в колонну. Качались пики, громыхали пулеметные тачанки, орудия и походные кухни. Конники Котовского были одеты во все новое и свежее: темносиние гимнастерки, галифе с пузырями, начищенные сапоги с тонкими голенищами до самых колен. Кожа на седлах и козырьки фуражек весело сверкали. Бойцов Крымской дивизии было нетрудно отличить по желтому околышу под синим верхом, а бойцов Бессарабской – по красной тулье и таким же штанам. Кони под бойцами были разномастные, но все, как один, вычищены до блеска, хвосты подрезаны, и уздечки горят. При каждом эскадроне – пулеметные вьюки. Лица у бойцов – смелые, веселые и смышленые. Фрунзе говорил:
– Солдат хорош, когда рядом с общественным характером сознания жива в нем его собственная личность. И чем ярче солдатская индивидуальность, тем лучше. Что за солдат без сильной воли, без сметки, без выдержки, без знания своего дела и без предприимчивости?..
Котовский послушно присоединялся к мысли Фрунзе:
– Я того и требую. Моя наука простая: «Спрашивай, где противник, а сколько его, узнаешь, когда разобьешь!»
Потом были в манеже на выездке лошадей Смотрели рубку шашкой, причем сам Котовский рубил веники. Сам чистил своего коня. Начальник штаба корпуса между делом говорил Карбышеву:
– И все, знаете, – сам, сам…
Затем пошли по мастерским. Здесь кроили кожу на седла, там шили вальтрапы, и везде Котовский влезал в самую гущу работы, сам за все брался – за нож, за иглу, – показывал и учил. И надо сказать, что у редкого шорника так споро повертывался в руках материал, как умел повернуть его Котовский.
Комкор был по образованию агрономом. Сельскохозяйственные познания били из него кипучей струей и как бы растекались по территории, занятой его корпусом. В Радомысле он только что построил мыловаренный завод, близ Умани пустил недавно сахарный и завел агрошколу для сельской молодежи. В селе Ободовке, под Винницей, устроил земледельческую коммуну для демобилизованных бойцов-бессарабцев.
– Так и считаю, товарищи: бывают трудные задачи, но непосильных нет!
* * *
В Умани перед обедом Котовский представил Фрунзе свою жену, молодого врача:
– Я калечу, а она лечит…
Ольга Петровна зарделась и вдруг похорошела.
– Можно подумать, что и впрямь злодей. А ведь добрей не сыщешь!
За обедом царствовал кавардак. Подавались на стол мамалыга, борщ с перцем, пампушки с чесноком. Все это подавалось сразу и тут же резалось на порции и куски, разливалось по мискам. Тарелок хватало только на главных гостей. Остальные ели из котелков, хлебали из кастрюлек. Больше и громче всех говорил хозяин. От сытости обеда и от застольного беспорядка мысли его то и дело обращались к прошлому, когда беспорядка было еще больше, а сытости – никакой. Котовский рассказывал, как приходилось ему в оккупированной «союзниками» Одессе изображать своей особой разоренного большевиками помещика Золотарева. Был он тогда еще и владельцем большого овощного лабаза Берковичем, и частно-практикующим врачом, и кем только еще не бывал, – всего и не вспомнишь.
– Почему вывозило? Потому что твердо держался золотого правила: «Не говори, кому можно, а говори, кому должно».
Клубок воспоминаний разматывался. Вот лето девятнадцатого и Котовский – командир пехотной бригады. Стояла бригада по Днестру; впереди – петлюровцы, сзади – еще какие-то банды. И с тех пор непрерывная возня то с белогвардейцами, то с белополяками, то с антоновцами – котел партизанских налетов и «малой» войны…
– Из опыта борьбы с махновщиной, – сказал Фрунзе, – выходит, что мы добили ее именно средствами «малой» партизанской войны. Заблаговременно спланировали, заранее подготовили успех. Думаю: советским генштабистам еще немало предстоит поработать, чтобы и в будущих наших войнах жила, применяясь, где надо, идея «малой» войны.
После обеда Фрунзе и Карбышев сели за шахматы.
– Предупреждаю, – сказал при этом Фрунзе, – я в шахматы играю с четвертого класса гимназии и всегда считался хорошим игроком. Брата своего, например, всегда обыгрывал. Берегитесь!
Карбышев пожал плечами.
– Что делать? Пойду на своих харчах.
Фрунзе встревожился.
– Да вы, пожалуй, мастер?
– Подмастерье. Но случалось…
– Что же, например, случалось?
– Однажды на человека играл…
– На человека?
– Так точно.
– И выиграли?
– Нет. Проиграл.
– Однако как же вы все-таки на человека играли?..
Король Карбышева был надежно укрыт. И вдруг оказался под шахом. Фрунзе засиял.
– Хорошо, что не на человека играем, а?
Но король был ловок. Он стал уходить, заставляться, обороняться. И постепенно уже начинал грозить фигурам, только что его шаховавшим. Картина переменилась. Возможность мата таяла на глазах. Фрунзе думал, морща лоб. Он действительно был сильный игрок. Но он просто играл, а его партнер «работал» играя. Недаром Карбышев вспомнил свой давнишний турнир с Заусайловым. Теперь он «работал» спокойно и уверенно, не допуская себя до сомнений. А Фрунзе уже несколько раз ловил себя на том, что не столько следит за своими делами. сколько за «работой» противника. В конце концов лоб его разгладился. И совершенно неожиданно для Карбышева, как бы ни с того, ни с сего, он вполголоса проговорил:
– А хотел бы я знать, чем вы запомнитесь нашей армии…
* * *
Котовский жил на выезде из Умани, в небольшом особнячке, где раньше помещалось управление уездного воинского начальника. Кабинет был самой просторной комнатой в доме. Серебристо-серые обои и огромная карта Европейской России на стене придавали ему странно-торжественный вид. За окном кабинета лежало далекое поле, пополам перерезанное железнодорожным полотном. По сю сторону полотна – редкие голые деревья; по ту – дымный зимний закат. Хорошо! На письменном столе, обитом темнозеленым сукном, – белая фигура Ленина в рост и черный бюст Маркса. Гость и хозяин сидели у стола. Котовский рассказывал:
– Сперва открыли в селе Ободовке конный завод. Затем привезли из Киева плуги. Народом этим, – старыми «котовцами» из Бессарабии, куда им после демобилизации ходу нет, – хоть пруд пруди. Как только услыхали про будущую коммуну, так и поперли со всех сторон. Передал я им два корпусных совхоза – в Ободовке и Верховке. Глядь, и организовалась точно сама собой сельскохозяйственная коммуна…
Устав коммуны лежал на столе перед Фрунзе. Слушая Котовского, Фрунзе одновременно читал устав, медленно перевертывая шелестящие страницы. Вот и последняя. Фрунзе быстро и размашисто надписал: «Утверждаю». Котовский осторожно взял у него перо и положил на письменный прибор, а устав с трогательной, отцовской нежностью прижал к своей широкой и крутой, жарко дышавшей груди. Его толстые руки обнимали устав, как ребенка, а красные влажные губы шептали:
– Шагает история… слышу!
Однако были кругом Котовского люди, которые видели в его хозяйственных опытах всего лишь соблазн для нарушителей армейской дисциплины. Особенно возмущали их корпусные мастерские.
– Есть такие оболдуи, есть. Я им втолковываю, что советский командир должен быть товарищем бойца, его учителем, воспитателем в нем духа стальной дисциплины… А они…
– Вы правы, – сказал Фрунзе, – дело в общности целей, во взаимном понимании, в чувстве классового товарищества. Если все это есть, – будет и дисциплина…
– Ах, Михаил Васильевич! Вот вы – образованный марксист. От вас и я знаниями богатею. Вчера говорю одному командиру: «Может быть, ты в десять раз храбрее меня, спорить не буду. Но за то, что не хочешь учиться, вышвырну тебя из корпуса вон!»
– Позвольте, позвольте! – удивился Фрунзе. – Так ведь дело-то в том, чтобы он захотел учиться…
– А он не хочет!
Так гость и хозяин проговорили до ужина.
Но и за ужином разговоры не умолкали. Теперь речь шла о будущей войне. Фрунзе ясно и последовательно излагал свои мысли:
– Классу пролетариата принадлежит будущее. Именно он несет в себе подлинно освободительные идеи прогресса, цивилизации. А потому и служить пролетариату – значит, служить идеям свободы и прогресса. Это придает борьбе пролетариата справедливый характер. Из сознания общности своих усилий с усилиями всех передовых отрядов человечества рождается твердая уверенность в будущем. И отсюда мы черпаем нашу энергию в борьбе. Вспомните-ка гражданскую войну в России… Разве наш народ выиграл ее богатством своих материальных средств? Ничего похожего. Из глубокого убеждения в справедливости борьбы возникло страстное желание победить. А оно-то и есть важнейший ресурс победы. Военная идеология империализма исходит из эгоизма богатых классов, а наша – из защиты коренных интересов народа. И поэтому прогрессивные силы мировой история – не с ними, а с нами. Стало быть, прекрасно? Не совсем. Дело в том, что нас ни за что не оставят в покое. Мы – крепость, осажденная армией капитала, оседлавшего мир. И капитал обязательно будет атаковать нашу крепость. Когда? Не знаю. Только мысль о том, что война, навязанная нам нашими врагами, неизбежна, должна быть главной мыслью каждого из нас. И вот чего еще не надо забывать: при каких бы обстоятельствах наша страна ни вступила в войну, она во всех случаях будет вести ее во имя справедливых, освободительных целей… Должен сказать, товарищи: особая природа будущей войны непременно примет характер длительного, жестокого состязания. Все без исключения политические и экономические устои воюющих стран подвергнутся испытанию. Весь народ, так или иначе, прямо или косвенно, будет вовлечен в военную борьбу. Никаких половинчатых решений не будет. Это будет война не на живот, а на смерть, до полной победы…