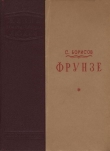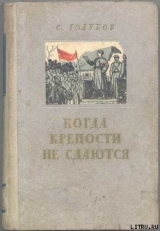
Текст книги "Когда крепости не сдаются"
Автор книги: Сергей Голубов
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 62 страниц)
– Романюта!..
…И вот Романюта радостно улыбается, а Лидия Васильевна изумленно, несколько исподлобья, смотрит на быстрого офицера.
– Вы сестра прапорщика Опацкого? – спрашивает Карбышев, – его сестра?
От скоропалительности черные усики прыгают. Но блестящие глаза, не мигая, глядят на девушку, – глядят, и проникают в ее удивленную душу, и располагаются в ней, как дома. «Почему он такой… решительный?» – думает Лидия Васильевна.
– Вы приехали к брату? Вот так номер!
Призванный из инженеров путей сообщения, прапорщик запаса Опацкий служил в Шендеровке младшим производителем работ.
– Почему номер?
– Да ведь вашего брата уже нет в Шендеровке.
Он уехал отсюда две недели назад…
– Как? – воскликнула Лидия Васильевна, – куда?
В ее задумчивом, тихом голоске звенел жестокий испуг; нота отчаяния звучала в нем.
– Куда же он уехал? Надолго?
– Совсем. Окончательно. Опацкий перевелся в Одиннадцатую армию. Бежал. Почему бежал? Целая история… очень смешная. Я вам потом расскажу, только не тревожьтесь, бога ради, – уверяю вас, вы будете смеяться…
– Может быть… Но что мне теперь делать?
– Отдохнуть. Прежде всего – отдохнуть. Романюте надо в полк, а вам… отдохнуть. Помнишь меня, Романюта?
– Как себя забыть…
– Отлично. Мы с этим солдатом из Бреста, Лидия Васильевна. Я перестраивал в Бресте форт. И, представьте, когда немцы подошли, мой форт трое суток отстреливался, пока весь гарнизон не ушел… Идемте!
Романюта хотел ухватить чемодан, – Карбышев опередил его.
– Вообще в Бресте происходили поразительные вещи. Один полковник поехал осматривать позиции. А шофер увез его на машине прямо к немцам и сдал со всеми документами. Как вам нравится?
– Ужасно! – сказала Лидия Васильевна, – просто ужасно! Нет ни пристанища, ни…
– Как нет? – воскликнул капитан, – все есть. Рядом с моим домом живет столяр. Топит печку стружками – благодать! Это и будет ваша квартира. Правое плечо вперед, Романюта!
– Квартира?!
– Ну, да… Ваша квартира. Ваша.
Они уже довольно давно шли, все трое, – туда, куда их вел Карбышев. Зазвонили к вечерне. Неслышно облетал лист с деревьев – с золотых лип и берез, с красных осин. Длинные белые нити паутины плавали в прозрачном воздухе, цепляясь за кусты, торчащие вдоль дороги. Стаи ласточек реяли так высоко, что глаза еле-еле различали их. Галки бурно кружились в косых лучах бледножелтого солнца. На окраине местечка дома стояли реже, садики были. гуще, и пыль не поднималась до небес…
…К вечеру все устроилось. В печке столяра с нестерпимой яркостью пылали стружки. Карбышев рассказывал Лидии Васильевне историю бегства ее брата из Шендеровки.
– Вы знаете, – говорил он, быстро расхаживая по горнице, – офицерство у нас чуточку пружинит. И брат ваш – тоже. Наскочил он на походную кухню, оказался в самой середине солдатского клуба и не выдержал – пустился в болтовню. «Много у нас в армии всяких изменников да шпионов. Мясоедов корпус предал, Сухомлинов армию оставил без снарядов». Вдруг кашевар, – они все такие толстые, флегматичные, – воткнул лопату в кашу, да и: «А по-моему, ваше благородие, уж коли начинать, так с головы». – «То есть как – с головы?» – «Да так… Что за царь, коли себя ворами да мошенниками обвел!» – Ну, знаете, тут Опацкий и выпустил из себя холодный пот… Странно: вы мало на него похожи. Только волосы… глаза… Ясные, как лесной родник…
– Нет… Но что же мой брат потом сделал?
– Бросился ко мне за советом и… Ведь ничего другого придумать нельзя было, только рапорт о переводе…
Опацкого не было. Но в рассказе Карбышева он присутствовал очень живо. Близкий обоим, совершенно посторонним друг другу людям, он как бы стал между ними и, вытеснив собой все «постороннее», сделал чудо. Лед начаял таять. Еще бушевавший в Лидии Васильевне вихрь противоречивых мыслей и чувств быстро стихал и успокаивался. Она еще боролась с внезапно нахлынувшим доверием к капитану, но, сама того не замечая, уже переносила все свои надежды с брата на его доброжелательного начальника. Карбышев был откровенен и прост с ней. Он рассказывал ей такие «дискретные» вещи. Нет, он не походил на обычного балагура – нисколько. «Он только очень веселый и… обаятельный». Из всего этого выходило, что и Лидии Васильевне надлежало быть с ним откровенной, простой. Да, ничего другого и не оставалось. Положение ее было безвыходное. Ехать дальше, по следам брата, в Одиннадцатую армию, – не хватит денег. Возвращаться домой, в Минск – тоже. Мечта стать сестрой милосердия разлетелась: кто, где возьмет ее в сестры? Оставаться в Шендеровке – нелепость. Все, что ни приходило ей на ум, оказывалось невозможным. И тогда, с отчаянием в душе, закрыв глаза рукой, точно бросаясь с огромной высоты в холодную, глубокую воду, она прошептала:
– Дмитрий Михайлович, я хочу вам сказать всю правду…
Карбышев остановился среди комнаты. Он весь был – слух.
– Я убежала из дома, Дмитрий Михайлович…
– Зачем?
– Чтобы стать сестрой милосердия на фронте…
Карбышев еле слышно свистнул..
– Фью-ю-ю!
По мере того, как она рассказывала, он становился все веселей.
– А знаете? Ведь это – превосходно!
На глазах у Лидии Васильевны выступили крупные, светлые слезы обиды.
– Как вам не стыдно так говорить?
– Ничуть! У меня превосходный план.
– Какой?
– Прежде времени – ни слова. Суеверие? Ничего подобного! Экспромты удаются только тогда, когда хорошо подготовлены. Значит, вам хочется быть сестрой милосердия?
– Очень.
– И мне хочется…
– Как? Вам тоже хочется быть сестрой?..
– Ха-ха-ха! Да, нет же… Совсем другое. А план мой таков, что вы будете обязательно сестрой. Завтра я еду в Бердичев – меня вызывает генерал. Все может быть сделано. Соглашайтесь!
– Но ведь я не знаю…
– И не надо вам ничего знать!
Лидия Васильевна заплакала. Голова ее опустилась на руки, пышные волосы рассыпались по худеньким плечам.
– Соглашайтесь! – повторил Карбышев тихо, но так твердо, словно не просил, а приказывал.
Он подошел к окну. Луна стояла низко-низко, и от нее через улицу тянулась, трепеща, длинная серебристая дорожка. Пышный узел темных волос… Удивительно прозрачные серые глаза… Тёмнокрасный костюм… Шляпка с вишнями… Разве может так быть, если все это – только мимо идущий случай? Когда Лидия Васильевна перестала плакать, он обернулся. Она вынула из сумочки сначала платок, чтобы приложить его к мокрым глазам, а потом – гребень. Это был не гребешок, а большой, зубатый, настоящий «поповский» гребень, – только ему и поддавались ее густые, длинные волосы. Но, взглянув на гребень, она ахнула:
– Как же я теперь буду?!
– Через два дня я вам скажу совершенно точно.
– Нет, не то… Смотрите!
Гребень был сломан посередине.
– Как же я буду теперь причесываться?
Карбышев взглянул на часы.
– Сейчас – двадцать один. Срок – девять часов.
– Каким образом? Ведь вы поедете в город только завтра утром…
– При чем – город?
– Не понимаю. В Шендеровке…
– Завтра утром, перед отъездом в город, я принесу вам гребень. А вы соглашаетесь на мой план? Хорошо?
Конечно, все, что говорилось сейчас о плане, о гребне, было пустяками. Если Лидия Васильевна была почти готова отдать свою судьбу в руки этого веселого, живого, требовательного, настойчивого, упрямого человека, то уж, во всяком случае, не потому, что он обещает принести ей завтра утром гребень. Да и откуда может найтись за ночь гребень в Шендеровке? Нет, дело не в гребне. Дело в том, что судьба Лидии Васильевны (хотела Лидия Васильевна этого или не хотела – все равно) уже пристала к рукам человека, о существовании которого вчера она еще и не подозревала. Уходя, уезжая, этот человек уносит с собой ее судьбу. Когда же это случилось? Как?
– Хорошо, – сказала она, вставая и позабыв смахнуть с длинных ресниц блестящие капельки слез, – если гребень будет завтра утром, я согласна. Если нет…
– Тогда другой разговор! – окончательно развеселился Карбышев, – тогда вы поставите меня в угол носом и выгоните… из класса!
А волосы падали, падали, тяжелые, как вода, неслышные, как пепел.
Было еще очень рано, когда Лидия Васильевна проснулась, оделась и вышла в сени, чтобы умыться. В сенях ее встретил столяр.
– Здравствуйте, сестрица, – проговорил он, – а это – вам.
И он протянул что-то аккуратно завернутое в белоснежный кусок толстой чертежной бумаги. Еще не развернув бумаги, Лидия Васильевна уже знала, что в ней. Неужели действительно путь от сердца к сердцу прямей, короче и безошибочней всех остальных путей? Очевидно. Да, это был гребень, почти совершенно такой же, как и тот, что сломался накануне. Итак, она была согласна…
– Спасибо. Дмитрий Михайлович уехал?
– До свету, сестрица, еще до свету. Передай, говорит, непременно. А то, говорит…
* * *
Генерал Опимахов любил и умел показать товар лицом. Малосведущему человеку киевский укрепленный рубеж должен был казаться верхом совершенства. В соответствии с этим и управление тыловых оборонительных работ фронта, начальником которого был Опимахов, выглядело в высшей степени импозантно. Управление занимало самый большой дом в Бердичеве. По двору сновали писаря, телефонисты, посыльные, вестовые. Все это был народ верткий и по внешнему виду форменный и даже щеголеватый. Изредка прибегали офицеры. К крыльцу то и дело подкатывали шипящие и грохочущие, то запыленные, то заплеванные грязью автомобили. Комнаты дома были полны стука ремингтонов и ундервудов: это старались писаря. Стекло шкафа, у которого сидел дежурный писарь, было, против обыкновения штабных учреждений, цело, и сам дежурный писарь довольно толков. Все это с несомненностью свидетельствовало о том. что генерал Опимахов придавал большое значение красоте фасадов и подкрашивал их не без успеха.
Но за углом дома, где помещалось управление; генеральская деятельность уже не проявлялась ни в чем. Здесь месяцами валялись без использования, постепенно срастаясь с землей, безнадежно забытые груды всевозможных строительных материалов. Целыми сутками неподвижно стояли шестиконные запряжки, точно в бессилии свесив к земле ременные постромки. Внешний характер бурной деятельности и какое-то полуобморочное состояние перед лицом практических задач были, свойственны не одному Опимахову Это была широко распространенная между русскими генералами и притом очень прилипчивая болезнь. К Опимахову она прицепилась не сегодня. Он был первым комендантом только что оставленного австрийцами Перемышля и пользовался огромными правами военного генерал-губернатора. Но именно тогда, в комендантство Опимахова, были упущены из Перемышля двадцать тысяч пленных, которые делись неизвестно куда. Как это случилось? Вероятно, и сам Опимахов не знал. За это он был отставлен от должности коменданта, заменен генералом Дельвигом и переведен на киевские рубежи.
Опимахов часто разъезжал по рубежам, но еще чаще вызывал производителей работ к себе в Бердичев на доклады. Особенно нравились ему доклады Карбышева, и сам Карбышев все больше приходился по сердцу. Казалось бы, что ни в суховатой наружности этого офицера, ни в «механической» поворотливости и «строевитости» его манер не было ничего, способного возбуждать горячую симпатию. Зато было в нем что-то другое, гораздо более значительнее: заговорит и сразу расположит к себе. Он одинаково легко и свободно говорил с людьми, выше себя стоящими, с равными, с низшими. Секрет этой одинаковости заключался в силе его мысли, всегда до резкости ясной, но не грубой и черствой, а острой и живой. В отличие от многих других людей своего возраста и положения, генерал Опимахов ценил человеческий ум. Соприкасаясь с ним, он не испытывал никакой неловкости. Наоборот, чувствовал себя умнее и лучше, чем был в действительности. Подобные соприкосновения были ему приятны, даже радовали его. Очень скоро между генералом и Карбышевым установились странно дружеские отношения. Они спорили, соглашались, расходились и сходились во взглядах, ловили друг друга на промахах. Доклады Карбышева часто затягивались, и тогда он оставался ночевать в городе. Опимахов требовал, чтобы капитан ночевал на его, генеральской квартире. Под ночлег отводилась пустая комната рядом с кабинетом, и в комнате этой раскидывалась запасная походная койка…
Генерал сидел за большим дубовым столом, заваленным книгами, картами и бумагами. Кроме стола, в кабинете стояли несколько некрашеных стульев да на подоконнике – один-два вазона с цветами.
– Итак, если называть вещи своими именами, вы считаете, дорогой капитан, глупостью, когда я требую от вас рубить засеки, валить деревья накрест и прочее? Так? Еще большая глупость – рыть волчьи ямы с кольями на дне и маскировкой сверху? И, наконец, самая огромная глупость – копать убежища, загоняя их в землю на две сажени? Так? А позвольте спросить, милостивый государь, почему же глупость? А?
– Все это очень умные вещи, ваше высокопревосходительство, но только в тех случаях, когда сооружаются укрепления, действительно отвечающие требованиям боевой тактики…
Карбышев заговорил, торопясь, точно заспешил после долгого молчания выговориться. В его быстрой речи тонули отдельные слова. Но прочная слаженность основной мысли позволяла их отгадывать без всякого труда, и эта особенность карбышевской речи придавала ей особую выразительность.
– На фронте обеих сторон – массы войск. Противники – в непосредственной близости. Это конец маневра… Это позиционная война. Да. В чем же теперь задача полевой фортификации? В активной обороне… чтобы обеспечивался темп возможного наступления, поднималась сопротивляемость, уменьшались потери…
– Пока – верно, – сказал генерал, – но в дальнейшем предвижу невыносимую отсебятину, – директив-то ведь нет… Хоть что хошь, а нет их, директивушек…
– Отсебятину позволяю себе не только я, ваше высокопревосходительство. Бой за укрепленную полосу – это прорыв. Что отсюда следует? Первую полосу надо так укреплять, чтобы времени, которое уйдет на ее прорыв противником, хватило для возведения в тылу атакованного участка другой такой же полосы…
– Второй?
– Никак нет…
– Третьей?
– Никак нет…
– А какой же?
– Четвертой, ваше высокопревосходительство. Но – не двадцатой… Идет позиционная война. Задача полевой фортификации – в активной обороне. Решается эта задача у нас скверно. Чем? Фортификационные формы и средства борьбы не совпадают… Все расползается. И вот – опоздания, и вот – инженерные сооружения почти не влияют на ход операций. Ведь это смешно: с одной стороны, кратчайшие сроки, гигантские объемы работ, а с другой – ручной способ…
– Как же надо, господин профессор?
– Для отрывки окопов, ходов сообщения, котлованов под убежища… машины…
– Здорово!
– Да, это было бы здорово, ваше высокопревосходительство! Пока фронт еще не окончательно расшатался, надо поддерживать бойцов на передовых позициях и в ближайшем тылу. А мы? Чуть ли не под Киевом готовим сеть позиций. Сможем мы их когда-нибудь закончить? Нет. Сможем использовать? Едва ли. Ошибки японской войны повторяются… Рок! На сотни верст в глубину тыл забит позициями. Им отдаются силы и средства, вырванные из боя. Оборона передовых позиций – под удар. Полосы превращаются в полоски… Системы – нет… Лишь бы фронтом на запад… Словом…
– Что?
– Форльтификационная лапша, ваше высокопрльевосходительство.
* * *
Было около двух часов ночи, но Карбышев еще не спал. Он повертывался на своей походной койке и невольно прислушивался к шорохам, доносившимся из генеральского кабинета. И Опимахов не спал. Железная кровать жалобно дребезжала под его длинным телом. Он вздыхал, шептал что-то, зевал протяжно и гулко и, наконец, поднялся с кровати. Туфли его медленно зашлепали к выходу из кабинета – он шел к Карбышеву…
Генерал кряхтел, почесывая под широкой рубахой тощую волосатую грудь.
– Не спится. Погода что-то засеверила… Не от того ль? Дай, думаю, проверю, как он… То есть вы… Волчья подвывка, не слыхали? Охотники знают, что это такое… Лежите, лежите! А я… здесь…
Опимахов пристроился на койне, сбоку, продолжая кряхтеть и вытягивать хрустящие ноги. В этом человеке были какая-то грубоватая солдатская прямота и не лишенная красоты способность к насмешливо-грустной фразе.
– Как это вы давеча сказали? Фортификационная лапша… Что же? Между нами говоря, так оно и есть. Правильно сказали. Дикие мы люди. Из лесу вышли. Когда же научимся мы воевать? Ведь, собственно, еще в феврале, еще до прорыва на Дунайне, все наши армии по всему фронту перешли к обороне. Уже тогда противник полностью перехватил у нас инициативу. И получилась не фортификационная только, а всеобщая лапша.
Он долго возился со спичками, и большие черные зрачки его выцветших глаз тревожно блестели над прыгающим огоньком спички.
– Позиционная война… Это значит, что обходы и охваты почти невозможны. Приходится долбить противника в лоб, где сильнее, где слабее. Искусство проявлять на позиционной войне невозможно. Но и такая война – не шутка и не игрушка. И она требует от своих вождей знания, способностей, опыта. Государь принял верховное командование. Но, дорогой мой, разве годится государь по знаниям, по способностям, по темпераменту, по дряблости своей воли в военные вожди? Нет. Твердо знаю, что нет. И все-таки не могу искоренить в себе восторженную доверчивость. Авось осенит… Это не простая доверчивость, а болезненная. Нельзя верить; известно, что нельзя. А веришь, потому что нельзя и не верить, неудержимо хочется верить. Это доверчивость шизофреническая. Лечиться от нее надо. Какие надежды? На что? Начали войну, имея по девятьсот пятьдесят выстрелов на легкое орудие, – да, да! Начали войну, не имея плана, и сразу превратили ее в кровавую свалку. Ни один солдат, офицер, генерал не понимал своего маневра. Не ставка управляла событиями на фронте, а они бросали ставку из стороны в сторону, как буря бросает ладью. От Вислы до Берлина – пятьсот пятьдесят верст; от Перемышля – Львова – Тарнополя до Берлина – тысяча четыреста. Так нет же, – выбрали самый дальний путь. Поход через Карпаты имел некоторый смысл до капитуляции Перемышля, а потом – ни малейшего. Дело должно было кончиться погромом Третьей армии. Поход через Карпаты – авантюра проигравшегося картежника, который, поставив на мелок целый ряд кушей, идет, очертя голову, ва банк. Как будто нарочно создавали такое положение, выходом из которого могло быть или бесславное отступление, или наступление с явной нехваткой сил и средств. Зато на днях Китченер произнес в палате лордов речь о том, как русский фронт сковал немцев и дал окрепнуть английской армии. Радуйтесь! Да с кого спрашивать? Штабы… Уж лучше не говорить! Это не штабы, а чертово болото какое-то… Все вымазано грязью взаимных похвал, облито помоями лицемерного восхищения. Штабы распоряжаются номерами частей, понятия не имея о том, что представляют собой эти номера и каковы их действительные коэффициенты. Они забыли, что за бумажными номерами – кровь, тысячи жизней и спасение родины. Да и строевые начальники… Что греха таить, не любят они своих войск, не жалеют их, на пехоту глядят, как на пушечное мясо, думают не о деле, а о карьере. Не может водить войска к победам тот, в чьем искусстве, доблести и доброжелательстве не уверены войска. Генералы теряются перед случайностями маневренного боя, понимают только фронтальные удары, до смерти боятся разрыва фронта на стыках между частями, не умеют пользоваться резервами и артиллерией, задачи ставят нечетко, за выполнением своих приказаний не следят. Для таких валяй-генералов тыл, снабжение, зависимость военных операций от подвоза снарядов не существуют. Я не о простой глупости да бездарности говорю, а кое о чем много похуже.
– О чем же? – спросил Карбышев.
– О недобросовестности, о преступной воле, о наплевательстве на людскую кровь. Слово даю: за каждый случай карьеризма я бы расстреливал подлецов! Измельчал русский генерал.. Да и не он лишь один. Прапорщик, и тот у нас мельчает! Хороши только солдаты. Они еще дерутся. Но постоянными неудачами надламываются нервы войск. Солдаты уже не верят больше в победу. Упали дух войск, их вера в начальников и в собственные силы. Моральный капитал прошлогодних галицийских побед израсходован до последней полушки. Задор, гордость – все пропало. Что такое падеж лошадей при непосильной работе, – все понимают. А что люди массами сдаются и бегут с полей сражения из-за непосильного нервного напряжения, – этого не понимает никто. Да кому понимать? Правительству? Нет, с нашим составом министерских упряжек ни на какую мало-мальски широкую дорогу не выедешь. Понятия не позволяют. Вы скажете, общество? Что же это за общество: беспочвенные мечтатели наверху, распущенные хищники внизу. А посередине – семипудовые люди, и равнодушие их прямо пропорционально их семипудовости. Дисциплинированность почитается смешным и мещанским качеством, а трудолюбие – признаком ограниченности и бездарности. Сонная одурь какая-то…
– А Государственная дума? – усмехнулся Карбышев, – а военно-промышленные комитеты?
– Не смейте меня дразнить! – вспылил Опимахов, – я вам серьезно, а вы… Дума, комитеты – не то кадеты, не то кадетоиды, с самыми сумбурными марсианскими воззрениями на русскую действительность и на русский народ… Худощавый, чахоточный, кашляющий прогресс… Революция слов – ничего больше. А дело в том, что фабриканты рвутся к власти. Правительство неповоротливо, чиновники тупы, денег у военного министерства мало. А у военно-промышленных комитетов все средства в руках. Собрались дельцы и хапуги со сноровкой к хозяйственным оборотам, энергии хоть отбавляй, знают, чего хотят: головы – на плечах, а в карманах – миллиарды. Начали забивать правительство. О России-то они и не думают. Им другое нужно – показать, что они сделать могут. И показывают. Но не все. Выгоду прячут. Без выгоды для себя они ведь не могут. Миллионные заказы хватают, а у них и материалов-то нет, лишь бы на авансы обернуться. Заводы свои государству втридорога продают, благодетели… Значит, руки греют на миллионах, да еще и политическую репутацию наживают. Они, вишь, спасители России. А они не спасители, а прохвосты… Правительство струсило – бежит позади, подлаживается, шею под топор подставляет… А Гучков с компанией… Рябушинские, Второвы… сукины дети…
От ярости Опимахов начал задыхаться.
– Как же быть, ваше высокопревосходительство? – спросил Карбышев.
– А я откуда знаю, капитан? Мы с вами видели порт-артурские безобразия. Теперь видим, как гибнут наши крепости, и многое другое. Режим давно уже не Умеет защищать себя. Я вам это говорю, а вы умной своей головой размышляете: если, мол, фортификация у нас – лапша и ни к черту не годится, то и всему режиму цена – грош; если режим не в силах защищать себя, значит, он осужден. Так; что ли?
Карбышев молчал.
– А я вам, молодой человек, скажу: вот это как раз вздор!
– Почему?
– Я верующий человек, а не спирит или атеист, вроде вас.
Карбышев хотел сказать, что он никогда спиритом не был, но вспомнил свою дальневосточную историю и счел за благо промолчать. История относилась к девятьсот шестому году, когда он чуть было не попал под суд общества офицеров по обвинению в политической агитации среди солдат. Агитации никакой не было, а известный недостаток лицемерия в разговорах с нижними чинами действительно был. И вот, спасаясь от суда, Карбышев вышел тогда из армии в запас, с год околачивался во Владивостоке на частных чертежных работах, а потом, когда дело несколько притихло, вернулся на военную службу и поехал держать экзамены в академию. Не было сомнения, Опимахов имел какие-то смутные понятия обо всем этом. Смутности его понятий соответствовало туманное слово «спиритизм». Карбышеву совершенно не хотелось ни напоминать генералу о прошлом, ни содействовать точности его выражений, и он смолчал.
– Я, капитан, верю ни в какую-нибудь слепую, безликую судьбу, а в бога. Вижу, знаю, что плохо, а рук не складываю. Тружусь, исполняю долг. Надлежит России пасть для того, чтобы бог поднял ее из бездны, восстановил во всем блеске…
– В блеске чего?
– Народной души!
– Вы верите, ваше высокопревосходительство, в блеск народной души?
– Верю! Без этой веры я бы и жить не мог, и не стал бы жить. Только эта вера меня и подкрепляет. Я ведь простой человек, и народная жизнь не чужая мне. Генеральство мне чужей, чем народная жизнь. Ропщет народ, недоволен, – знаю, чую, понимаю, почему ропщет, чем недоволен. Народ – наше зеркало. Боюсь народа, как урод – зеркала, ей-богу! Крах… крах… Все самое дорогое, самое нужное – на льду. Вся жизнь – на льду.
– Как на льду?
– Да. Пока заморожено, держится. Но придет весна – и провалится в преисподню. А под весной, знаете, что я в виду имею?
– Что?
– Революцию, – хриплым шепотом сказал генерал, – в огне, в пороховом дыму зреет новая русская революция. Сижу и жду, когда все начнет валиться, кувыркаться, нырять на дно. Потому и по ночам не сплю, – все жду… Умереть готовлюсь – юркнуть в темноту и скрыться…
* * *
На следующий день Карбышев явился к Опимахову и сказал:
– Ваше высокопревосходительство, прошу согласия на перевод в пехоту.
– Подайте рапорт и ждите, – сухо отозвался генерал.
– Долго?
– И по пяти лет ждут.
Несколько минут в кабинете было совершенно тихо.
– Почему надумали?
– Еще в Маньчжурии я начал разочаровываться в своей специальности, ваше высокопревосходительство. А теперь разрыв между теорией и практикой чрезвычайно обострился.
– Гм! В рапорте об этом упоминать нельзя! Гм! Намеренье дельное и последовательное. Куда же? Наверно, в Восьмую?
– Так точно.
– К «берейтору…»[17]17
Командовавший Восьмой армией, кавалерийский генерал.
[Закрыть] Меня на «лошадиную морду» меняете. Д-да… Но вообще – понимаю. Т-так-с! Написали?
Опимахов прочитал рапорт, перевернул его и на чистой стороне листка вывел ровные строчки телеграфного текста: «Командующему Восьмой армией. Военный инженер капитан Карбышев желая продолжать службу пехоте просит прикомандирования 312 Васильковскому полку. Прошу уведомить согласии».
– Так?
– Благодарю, ваше высокопревосходительство.
– А насчет девицы, о которой вы мне докладывали, я распоряжусь: сестрой в шестую военно-рабочую дружину. Только…
– Что прикажете, ваше высокопревосходительство?
– Нечего мне вам приказывать. Только… Не советую жениться, капитан, – глупо! И заметьте: в жизни есть множество вещей, которые гораздо больнее, чем какая-то там незавершенная любовь! Уж это – как дважды два.
Карбышев коротко и негромко засмеялся. Но когда Опимахов поднял на него глаза, он уже был серьезен.
– А для вас и дважды два не закон? Еще никто никогда не отрицал…
– Да, наверно, потому, ваше высокопревосходительство, и не отрицали, что не были в этом заинтересованы…
– Что? Ах, вы… Спиноза!
* * *
Землянки строились так: укладывались на двух рядах стоек насадки, перекрывались бревнами и сверху обсыпались землей на аршин. У входа в землянку – ружья в козлах. Внутри, на полу, пышно настлана солома – хоть сейчас спать ложись. А спалось в резерве сладко. Это было время, когда все армии Юго-Западного фронта изо всех сил трудились над укреплением и совершенствованием своих позиций. Полк, в котором служил Романюта, работал на киевском рубеже. Утренний подъем приходился на пять часов. «Вставай!» – солдаты вскакивали, кряхтя и почесываясь в ожидании чая. В шесть часов дежурный по роте орал: «На занятия!» или: «На работы!» Обедали в двенадцать, почти всегда с недоразумениями. Наседали на кашевара, а он отбивался: «Вы что, бездельники, рано пришли? Не готов обед-то!» Наконец: «На молитву!» Обеды были недурны, но без хлеба, мясные, так как полк получал на каждого нижнего чина по два-три фунта мяса в день. Население продавало скот задешево. «Будя чавкать-то, олух!» После обеда мыли чашки и снова шли или на занятия, или на работу. В пять ужинали. В девять – поверка, и дежурный по роте являлся с рапортом к дежурному по полку. День кончался. Утром же сызнова: «А ну, вставай! Пулей вылетай!»
Романюта отвык от этой размеренно точной, поневоле заботливой жизни. Сегодня с утра он был на врачебном осмотре, а с обеда до ночи стоял дневальным и зевал, не закрывая рта; завтра принимал полусало для смазки винтовок и стоял на стрельбе старшим махальным; послезавтра на строевых занятиях битый час брал то на караул, то на молитву. Было, впрочем, в новой жизни Романюты одно обстоятельство, которое беспокоило его куда больше временной отвычки от железного распорядка солдатской жизни. Он думал об этом обстоятельстве с волнением и страхом. Собственно не столько думал, сколько всячески старался не думать и бороться со смутным предощущением надвигавшейся беды. Он жестоко боялся встречи с Заусайловым. Однажды Романюта работал в окопе, отделывая с товарищами по отделению крайний козырек. Батальонный командир проходил по верху окопа. Заглянув по дороге нескольким рядовым в подсумки, он. не нашел в них положенного числа патронов и рассвирепел. Усы его запрыгали, глаза округлились и сделались белыми от злости. Заусайлов закричал:
– Под ружье, мерзавцы!
Трудно сказать, с чего вдруг налетел на полполковника этот шквал. После перемышльского ранения и ночного происшествия с Романютой, после солдатского оскорбления, оставшегося без ответа, что-то главное, основное в характере Заусайлова треснуло. Случилось то, чего не могла сделать даже потеря жены. Думая о себе, Заусайлов с удивлением говорил: «Шлюпик!
И больше ничего…» Солдаты толковали о нем: «Вспыльчив, конечно, а уходится, так и в иголку вденешь его». Он жил теперь в каком-то вечном разногласии с самим-собой. «А ведь живу… И хоть бы что!» Он стал мягок с солдатами, нетребователен по службе, равнодушен к начальству и все думал, думал… о чем? Однако нет-нет и поднималось в нем прежнее, настоящее. Тогда налетал на Заусайлова шквал, ломал шарниры всех сдержек характера, яростью заливал мозг. Заусайлов принимался «крошить». Подобное случилось с ним и сейчас. По всем правилам высокого казарменного искусства он громоздил этажи, пирамиды похабной ругани. И, кажется, ничто на свете уже не могло заткнуть извергавший эту ругань фонтан. Он смутно различал: темнеют от гнева солдатские лица. Но от этого лишь все выше поднималась его собственная злость, и брань становилась все ожесточеннее…
Вдруг оторопелая физиономия Романюты мелькнула в глазах Заусайлова. И опять: невозможно сказать, почему именно так получилось. Мгновенно узнав Романюту, Заусайлов смолк, – в тот же самый момент и так быстро и сразу, словно кто-то взял да и всадил сразмаху в его разорвавшуюся глотку огромный кляп. Кровь горячего стыда выбилась на щеках Заусайлова. Он замер в судороге отчаянной тоски. И очнулся только тогда, когда был уже довольно далеко от того места, где Романюта с товарищами отделывал в окопе крайний козырек…